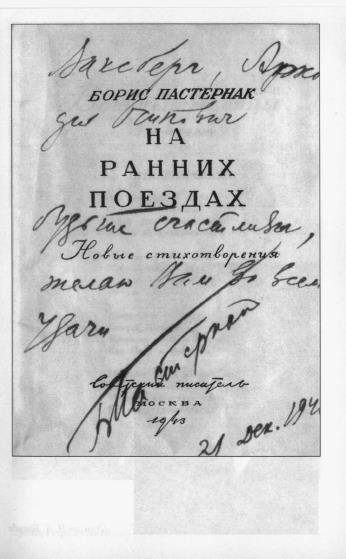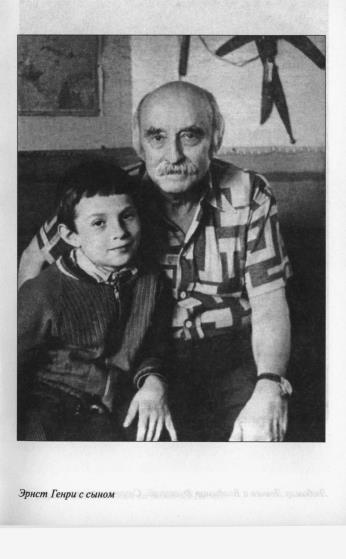Моя жизнь в жизни. Том 1
Теперь наконец пришло время вспомнить себя самого, оценить, покрыться холодным потом и воскликнуть: «Да я ли это был?! Я ли совершал все это?!»
Булат Окуджава
Каких людей я только знал!
В них столько страсти было!
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло.
Самуил Маршак
Глава 1
Сеанс обольщения
Однажды… В одном городе… Один человек… В мемуарной книге эти безадресные пассажи выглядят странно. Даже — нелепо. Постараюсь, насколько возможно, без них обойтись. И все же бывают события, о которых порядочный человек рассказывать с «адресом» не имеет права.
тогда, может быть, лучше вообще не рассказывать?
Он мне необходим, этот рассказ. Не только потому, что случай, про который пойдет речь, запомнился на всю жизнь, но и потому еще, что заставил смотреть на людей незашоренными глазами, осознать, насколько сущность и видимость не совпадают друг с другом и как опасно к чему бы то ни было и к кому бы то ни было подходить с готовыми и общими мерками.
Случай относится к началу шестидесятых — я тогда еще не работал в «Литературной газете», но уже активно сотрудничал с ней. Редакция послала меня в первую командировку — по письму из глубинки. Таковой оказалась
одна приуральская область, а в ней —
один отдаленный район.
Фабула дела была столь же страшной, сколь тривиальной: в пьяном виде местный маленький туз убил жену и соседа, но отделался легким испугом. За двойное убийство! В это было трудно поверить. Потому-то письмо и привлекло внимание редакции. Его автор уверял, что не обошлось без покровителей, что дело замяли, представив самих убитых виновниками случившегося. Схема, с которой позже мы сталкивались множество раз и которая питала не одну публикацию, для печати казалась тогда почти непригодной: если бы сигнал подтвердился, пришлось бы выступить против тех, кто входит во власть. Пусть только местную. Так ведь — советскую!
Хотелось, но и кусалось: во главе редакции еще не было Александра Чаковского.
Отправляя меня в поездку, Георгий Радов, руководивший в газете группой отделов внутренней жизни, повелел быть «архибдительным», не вступать ни в какие конфликты и не дать ни малейшей возможности в чем-нибудь меня обвинить. Это было логично: хитрость, обман и шантаж как способ защиты — прием хорошо известный. Позже мне приходилось испытывать его на себе неоднократно.
Как нарочно, для поездки был выбран район, добраться до которого в февральские вьюги, при нашем родном бездорожье, мог только очень отважный. К числу таковых я, конечно, не относился, но признаться в этом не смел. Перед тем, как поехать в саму глубинку, на место события, я, согласно данным мне указаниям, был обязан явиться в обком. Представиться. Объяснить цель поездки. Напомнить, что у партийных органов и у газеты — задача единая: способствовать постижению истины и торжеству законности. Намекнуть, что командировка, разумеется, согласована: где-то, с кем-то…
Такая тогда была обстановка: как раз незадолго до этого Хрущев заявил громогласно, что журналисты — подручные партии. Нашел словечко — в точности не откажешь. Вот мне и предстояло выполнить роль подручного. Непременная явка в обком — эта перспектива была не из приятных, но (воспроизвожу тогдашнее, а не теперешнее свое ощущение) казалась естественной: подручные значит подручные, такая у нас судьба.
В обкоме меня принял второй секретарь. Слушал молча — с окаменевшей будкой. Когда я смолк, задал вопрос, без которого позже не обойдется ни одна моя встреча в разных ЦК и обкомах, райкомах и исполкомах: неужели у центральной газеты не нашлось для выступлений темы поактуальней? Сразу же предложил более актуальную: комсомолец, рискуя собой, спас от огня, охватившего хлев, стадо свиней. Предложил познакомить с героем. Я сказал, что восторгаюсь его поступком. Секретарь понял, что предложение отклонено, и больше к нему не возвращался.
Самолетики местных линий не летали из-за непогоды. Секретарь пришел мне на помощь. Снял телефонную трубку и повелел дать журналисту машину для поездки в район. Подумав, снял трубку снова. Отдал приказ: «Вы тоже с ним поезжайте. Разберетесь вдвоем». Прощаясь, заверил: «Помогать прессе — наша задача». Я согласно кивнул.
Сопровождать меня поручили не какому-то там инструктору — другому секретарю обкома. Тому, что ведал идеологией: большая честь для начинающего спецкора. Чем она вызвана, — сомневаться не приходилось: волею случая мне попалось дело, которое здешние власти непременно хотели бы скрыть. Чего-то очень боялись… Плотное присутствие провожатого столь высокого уровня связывало меня по рукам и ногам. Исключало возможность говорить с глазу на глаз. Заведомо обрекало на неизбежный вывод: сигнал не подтвердился! Но отвергнуть оказанную мне честь — такой возможности тоже не было, никаких указаний на этот непредвиденный случай я не имел. Командировка, по сути, была тестом на мою пригодность газете, а мне, не скрою, хотелось быть ей пригодным. Оставалось одно: положиться на судьбу.
Машина подъехала к гостинице, как и было условлено, в семь утра. Зябко уткнувшись в меховой воротник, на сиденье рядом с водителем дожидался сопровождающий. Оказалось, что он это она… Лариса Васильевна — дадим ей такое имя. Лукавить не стала, открылась с первой же фразы: только партийная дисциплина побуждает ее отправиться в это никчемное путешествие. Попусту тратить время. Оставить дела — действительно неотложные. Заниматься тем, что к ее компетенции вообще не относится. Просветила: «Прокуратура у нас независима. Мы ей полностью доверяем. А вы?»
С партийной демагогией этого толка я еще не встречался. Начиналось ее освоение. Пока что я промолчал. Лариса Васильевна не смутилась. «Хотите сказать: доверяй, но проверяй? Ладно, проверим,» — сказала с иронией, в которой слышалась и угроза. Но голос был мелодичным, даже приятным, а речь отличалась от той, что присуща парттетям, которых потом я повидал в изобилии. Она не путала ударения, склонения и падежи, не комкала фразу, не лезла за словом в карман, существенно отличаясь тем самым от многих — тогдашних и нынешних— сочинителей «национальной идеи», ревнителей «патриотизма», не способных выразить на родном языке даже простейшую мысль.
Уже минут через десять беседа иссякла. Моя «секретарша» ни разу ко мне не повернулась — я все еще не мог разглядеть ее лица. Печка в машине работала, было тепло, но Лариса Васильевна по-прежнему согревалась меховым воротником, уткнув в него подбородок и нос. Похоже — уснула. И я задремал, то и дело пробуждаясь от колдобины или кочки: мы ехали, каждому ясно, не по автостраде.
Первая остановка — в каком-то поселке: у подъезда неказистого здания ждала целая делегация. Местный партийный бомонд!
Сервирован был чай с вареньем и сухарями. Такие же встречи происходили и дальше — по всему пути. Связь работала безотказно. Значит, о нашем приезде знали и те, кого мы ехали проверять. Итог «проверки» стал еще очевидней.
На первом привале я имел, наконец, возможность разглядеть свою спутницу. Она скинула шубку и оказалась не респектабельной дамой, а вполне миловидной и даже не крупной, как сначала мне показалось, молодой женщиной лет тридцати пяти, может быть — сорока, которая была бы еще привлекательней, откажись она от грубой косметики. Ее принадлежность к сословию аппаратчиков, к номенклатуре не могли скрыть ни помады, ни кремы. Несмываемая обкомовская печать лежала на всем ее облике. На манере держаться. На повороте головы. На взгляде — въедливом и пытливом: сверху вниз, и никак не иначе. На повелительных жестах. На непререкаемых суждениях по любому поводу. И без повода — тоже.
Быстро стемнело. После очередной стоянки, где ждал нас обед, она пересела на заднее сиденье. Объяснила небрежно: «Не умею разговаривать через плечо с невидимым собеседником». Звучало вполне убедительно. И даже демократично. Я устыдился своей первичной — слишком поспешной — оценки: властная чиновница, упоенная спесью. Уже не было ни власти, ни спеси — завязался живой разговор: не о деле, которое нас объединило, — о знаменитых писателях, бывавших в здешних краях. Даже их не могу назвать — биографии выдадут географию, которую я уточнять не хочу.
Знание этих «краеведческих» фактов входило, конечно, в обязанность областного начальства, тем более идеологического: отмечались, наверно, юбилейные даты, читались доклады и лекции, посвященные знаменитостям, посетившим некогда эти края. Но разговор был далек от какой-либо официальщины: мы говорили о книгах этих писателей, об отношении к ним, о том, сколь злободневно иные из них звучат даже сегодня. Не в партийном понимании злободневности — в человеческом. Я не чувствовал нарочитости: подготовиться за ночь к такой беседе Лариса Васильевна не могла, да и зачем ей было готовиться? Кому демонстрировать свою эрудицию? Кем был для нее я? Всего лишь безвестным корреспондентиком, пусть даже из центральной газеты. К тому же до будущей славы «ЛГ» было еще далеко, никто ее не боялся, никто пред нею не трепетал: не «Правда» ведь, не «Труд», не «Известия». Даже не «Комсомолка»…
Разговор оживил Ларису Васильевну — больше она уже не куталась в шубу. Сначала ее распахнула, потом сбросила вовсе, накинув на плечи. Сбросила — это, конечно, неточно: в тесном пространстве кабины нельзя развернуться, узость рукавов сковала движения — ей никак не удавалось оттуда извлечь свои руки. Я помог. В благодарность она дотронулась ладонью до моего колена. Это длилось мгновенье, но я успел ощутить идущее от ладони тепло и оценить дружескую доверчивость, казалось, спонтанного жеста. Мы продолжали болтать — уже на равных, как добрые знакомые, которых связывают общие интересы. О редакционном напутствии — про архибдительность — я совершенно забыл.
К месту назначения прибыли поздним вечером. Райком ждал нас — в полном составе. Убийца — заместитель председателя райисполкома — еще недавно и сам входил в этот состав: был кандидатом в члены бюро. Моя миссия не допускала никакой фамильярности в общении с приветливыми хозяевами — даже на уровне протокольных улыбок. Но рядом был секретарь обкома, ритуал отношений с которым оставался незыблемым. Ситуация оказалась не штатной, подготовиться к ней райкомовцы не смогли. Ждали указаний от Ларисы Васильевны.
Решительным жестом она отклонила предложение «пройти закусить» в кабинет здешнего «главного» — пожелала откушать «в каком-нибудь ресторане». Лучшая забегаловка районного центра под немудреным названием «Чайная» давно закрылась, буфетчицу извлекли прямо из ее ложа — разбудили и доставили к месту работы. Никаких разносолов, естественно, не оказалось: лишь засохшая колбаса и «домашние» пирожки, тоже успевшие зачерстветь. И то еще, что называлось чаем: желтоватая водичка с привкусом ржавчины.
С «ужином» мы управились в две минуты. «Счет!» — приказала Лариса Васильевна. Буфетчица и кто-то из местных, нас провожавших, переглянулись. «Счет!» — властно повторил идеологический секретарь, и буфетчица кинулась за стойку в поисках карандаша. Пока велся «счет», моя спутница обратилась ко мне: «С вас — половина». Она меня восхищала все больше и больше.
В райцентре была, конечно, ночлежка, именуемая гостиницей, но там разместить высоких гостей никто не осмелился. На этот случай имелся «дом для приезжих» — благоустроенная изба, оштукатуренная снаружи, чтобы приобрести городской вид. Водитель залез на печку, нам выдали по комнатке — в каждой имелось нечто вроде «буржуйки». Меня разморило — усталость с дороги, тепло (дом предварительно протопили), «ужин», мягкий матрас и пуховое одеяло… Я мгновенно уснул, но — вдруг пробудился от света, проникавшего из-за неплотно прикрытой двери. Меня это удивило: я хорошо помнил, что дверь закрыл. Свет шел из соседней комнаты, где спала Лариса Васильевна. Спала?..
Мое пробуждение сопровождалось какими-то звуками, дошедшими до нее: свет ночника внезапно погас. Скрипнули половицы. Что-то шмякнулось об пол. И сразу же все замолкло… Еще минута-другая — свет появился снова. Уже не было никаких сомнений: это сигнал. Я поднялся, имитируя поход в туалет он располагался в сенях, пройти туда можно было лишь мимо соседней комнаты. Свет в ней погас. И опять зажегся. И снова погас. Два раза мигнул… Был великий соблазн: в темноте «перепутать» полуоткрытую дверь. «Шел в комнату, попал в другую…» — обычное дело. Вот тут-то я вспомнил и напутствие Радова, и приемы коварного обольщения, известные мне по адвокатской практике, которой было уже несколько лет.
Я вернулся к себе. Свет зажегся еще раз, потом погас, уже насовсем. Какое-то время я, сам не знаю зачем, боролся со сном, но все-таки он взял свое.
Водитель растормошил меня, когда еще не рассвело. «Велено вас разбудить», — угрюмо сказал он. Повторилась трапеза в чайной, но в ином варианте. Черствую колбасу заменила свежая солонина, пирожок, превратившийся в камень, — лепешка. К моему приходу Лариса Васильевна успела уже выпить — не «чай», а парное молоко, которое ей принесли по спецзаказу. От молока я отказался — она ухмыльнулась. Смотрела мне прямо в глаза, не осуждающе, а с печальным укором. Ее снисходительная жалость, не заметить которую мог только слепец, пробуждала если не чувство вины, то неловкости — безусловно. Но трезвый внутренний голос — смотри в оба! не поддавайся! внимание: провокация! — возвращал душевное равновесие, напоминая о том, что я «боец незримого фронта», а не какой-то заезжий фраер, падкий до первой же юбки.
Мы работали слаженно и весьма продуктивно, никоим образом не возвращаясь ни к ночной световой феерии, ни к диалогам о литературе. Исход проверки для Ларисы Васильевны был не менее очевиден, чем для меня. Убийца— в пьяном угаре и, однако же, в здравом уме — убил жену и ее любовника, местного лесника («заведующий отделом лесного хозяйства райисполкома» — такой была его должность), застав их — прошу извинить за подробность — прямо в постели. Преступлению предшествовала борьба — следы ее обнаружили на теле убийцы и на его лице. Это позволило благосклонному следствию признать, что убийца, мирно пришедший выяснить отношения в дом «сослуживца», подвергся сам нападению, отчаянно сопротивлялся и лишь слегка превысил «предел обороны». Ему дали условное наказание, сняли с работы, исключили из партии — с дивной формулировкой «за моральную невоздержанность», — отправили (с глаз долой!) на Алтай: тем кара и ограничилась.
Влияние покровителей было видно на каждом шагу, даже в официальных бумагах — провинциальная неумелость выдавала их с головой. Прокурор нес околесицу, путался, отвечал невпопад — Лариса Васильевна его ответы не комментировала, делала вид, что в проверке вообще не участвует, но, конечно, сразу же во всем разобралась и мне не мешала.
В райцентре провели три полных дня и, стало быть, три ночи. Но дверь соседней комнаты уже не открывалась и никаких световых эффектов больше не возникало.
Для полноты проверки надо было еще съездить в деревню, где жили родители убитой жены. Участия секретаря обкома в этой, чисто журналистской, акции вовсе не требовалось, но я попросил Ларису Васильевну меня сопровождать. Боюсь, мою просьбу она расценила отнюдь не как вежливость.
Добраться до деревни наша машина никак не могла — все замело. Райкомовцы предложили свой вездеход, Лариса Васильевна предпочла лошадь. Мороз ослабел: было не больше пятнадцати. Мы уселись в санях, набитых пахучим сеном. Зарылись в него: стало тепло и уютно. Легкий снежок придавал поездке оттенок зимней идиллии. Ожили страницы тех книг, про которые так увлеченно мы спорили на пути сюда. Действительность растворилась в литературных реминисценциях.
К реалиям вернула рука, нежно гладившая мое колено. Почему-то я не сразу осознал этот, слишком прозрачный, жести какое-то время позволил руке, мягкой и теплой, продолжать скольжение по колену. Не встречая сопротивления, рука осмелела, ее движение становилось все более интенсивным. Деликатно, но твердо, я снял руку с колена, чуть отодвинулся, спросил о чем-то пустом. Лариса Васильевна ответила, как ни в чем не бывало. Голос ее показался мне потускневшим. Усталым — так, наверно, точнее. Опасная мизансцена сама собой завершилась, чтобы больше не повториться.
Мне было все трудней сосредоточиться на том, ради чего я сюда приехал. Своих собеседников слушал вполуха, читал бумаги рассеянно — мысль крутилась вокруг секретарши, которая казалась все привлекательней. Если это и было целью моего обольщения, то придется признаться: ее удалось достичь. Финальную часть проверочной акции я совсем уже скомкал, убеждая себя, что все ясно и так.
На обратном пути в областной центр Лариса Васильевна снова заняла место рядом с водителем, ни в какой разговор не вступала — мне казалось, мы оба мечтали лишь об одном: поскорее доехать и сразу расстаться. Но я ошибся. На последнем привале — том, что был первым по дороге сюда, — моя «Миледи» (я уже подобрал для нее литературную дефиницию) попросила хозяев оставить нас вдвоем в одном из райкомовских кабинетов. «Важный деловой разговор», — объяснила она.
Я действительно ждал делового — как-никак мы оба были «при исполнении», и нам предстоял в обкоме какой-то отчет. В голове сразу сложились и план всего разговора, и даже первая фраза: «Как видите, все подтвердилось». Но первую произнес не я, а — она.
— Что ж это вы, мой дорогой, так оплошали? Чего испугались?
Я всегда думал, что врасплох меня никому не застать. Еще в школе считался неплохим полемистом, в студенческие годы эта способность была уже очевидной, на адвокатской скамье, даже в те времена, сумела развиться. Но тут — признаюсь! — я онемел. Не нашлось ни одного приемлемого ответа. Пока я, хмурясь, его искал, «Миледи» пришла мне на помощь.
— Дрогнули перед секретарем обкома? Наложили в штаны? Когда вернетесь в Москву, признайтесь редактору: я не журналист, а перепуканная ворона (именно так: с буквой «к» в середине), на ответственные задания меня больше не посылайте, потому что в людях я не разбираюсь и как обращаться с ними — не знаю. Вот так и скажите…
— О чем вы, Лариса Васильевна? — фальшивым голосом спросил я. Настолько фальшивым, что сам же это заметил. — Я вас не понимаю…
— Вы еще и дурак, — зло оборвала она. Впрочем, выбрала слово покруче — оно плохо вязалось с ее миловидностью, но обкомовскому секретарю вполне подходило. — Нашла на кого глаз положить…
Мы долго молчали. В таком положении — идиотском и унизительном — я никогда не был. Ни раньше, ни позже. Меня мучил только один вопрос, и ответа на него я до сих пор не имею: это был действительно крик души или блистательная импровизация, чтобы меня скомпрометировать? Ведь обком в той истории, которую я раскручивал, выглядел как пособник преступника. И надо было как-то спасаться.
Продолжать разговор не имело ни малейшего смысла, но прервать его я не мог. Инициатива как была, так и осталась за ней — за «Миледи». Она сидела, уставившись в окно: падал редкий снег, опускались сумерки. Лариса Васильевна нажала кнопку настольной лампы — та не зажглась. Какой невидимый режиссер придумал такую находку? И она поняла эту символику: безуспешная попытка зажечь лампу вызвала у нее короткий смешок.
Мне стало жаль ее, я устыдился своих подозрений, захотелось подойти, погладить, обнять, сказать что-то нежное, человечное. Я уже представил себе, что ей это будет приятно, что она уткнется лицом в мое плечо, расплачется, сбросит маску, хоть на миг станет самою собой. Но какая-то сила заставила подавить в себе это желание.
Не найдя других слов, бессмысленно повторил:
— Я не понимаю вас, Лариса Васильевна…
— Оставьте, мы не на службе, — круто сменив регистр, сказала она. — Какая Лариса Васильевна?! Меня зовут Лара. Как всех нормальных людей. Я нормальный человек, и вы это хорошо понимаете. Вы все понимаете. Но видите перед собой не человека, не женщину, а должность. И она повергает вас в страх. — Вдруг ее осенило. — Вас что, исключали из партии?
— Я беспартийный…
— Ах, вы еще и беспартийный! тогда чего испугались? Вас даже нельзя исключить… Вот вы — умный человек (только что я был дураком), начитались замечательных книг, ну, и что вы из них извлекли? Они же учат разбираться в людях — почему вас не научили? — Махнула рукой. — Вы просто такой же, как все. А мне показалось, что не такой же… И поэтому так глупо открылась. Потом буду себя казнить. Что делать — факт свершился… — Посмотрела на часы. — Пора. Надо ехать.
Она встала, выпрямилась, расправила спину, сразу войдя в прежний свой образ. Отчужденно оглядела меня, снова возвела между нами непреодолимый барьер. Сказала — уже не мне, а себе:
— Мне тоже хочется быть женщиной, но права на это я не имею. Виноватых нет — никто не неволил.
И вышла.
Самолет в Москву улетал в восемь утра, поэтому второй секретарь принял нас поздно вечером. За столом собрались еще человек пять.
Лара снова стала Ларисой Васильевной — застегнутой на все пуговицы, с плотно сомкнутыми губами и надменным прищуром серых глаз. Выслушав мой короткий отчет («Считаю, на следствие и на суд было оказано давление»), холодно прокомментировала:
— У меня сложилось совсем другое мнение. Товарищ корреспондент проявил необъективность. И не партийный подход. Это, впрочем, не удивительно: оказалось, он беспартийный.
Второй сделал вид, что пропустил ее комментарий мимо ушей.
— На прессу мы не давим. Можете писать и печатать все, что сочтете нужным. А свое мнение мы изложим. Где следует… Проводите товарища, — приказал Ларисе Васильевне и кивком головы дал мне понять, что беседа окончена.
Обком уже опустел, на плотно закрытых дверях болтались дощечки с сургучными печатями, ковровые дорожки в безлюдных коридорах заглушали звуки наших шагов. Все люстры горели — от этого почему-то я еще острее почувствовал свою беззащитность. И — чужеродность. Какая нелегкая занесла меня в эти стены?!
Декорация поменялась снова. Лариса Васильевна опять стала Ларой, чутко угадав мои мысли:
— Ничего, потерпите, завтра будете дома. Отдохнете — и сядете за статью. Вы от нее еще не отказались?
Об отказе не могло быть и речи — я честно предупредил.
— И про нас с вами тоже напишете? Все-таки эпизод вашей командировки. Как говорится, встреча в пути. Наберетесь смелости? Или вы за частичную правду?
— Не все терпит бумага, — пошутил я.
— Ничего, еще напишете. Когда-нибудь. Я почему-то уверена — напишете непременно. Как встретили одну общественную деятельницу, возомнившую, что она тоже женщина. Только не переврите.
Лара запустила руку в мои, тогда еще вихрастые, волосы и поцеловала в щеку.
Очерк был написан, но на газетную полосу не попал.
— Чего ты там накуролесил? — подозрительно меня разглядывая, спросил Жора Радов. — Зачем-то прихватил женщину… Их здесь что ли мало? Доложился в обкоме… Тебе сказали — отметиться, а ты доложился. В другой раз будешь умнее.
Умнее, по-моему, я так и не стал.
Глава 2.
Великий Кузьма
Начиналось все вроде бы замечательно. В первом классе я не учился вовсе, во втором только два дня: перевели сразу же в третий. Мне было семь лет, и я имел все основания, чтобы зазнаться. Похоже, нечто подобное и случилось, итогом чего стало исключение из пионеров, в которых я пребывал что-то около месяца.
Проступок был из ряда вон… Учительница начертала на доске задание, а я, дождавшись перемены, мелом же исправил в нем четыре грамматические ошибки, подвел черту и выставил отметку: «пос». тогда в ходу были не цифровые отметки, а словесные, пресловутый «пос» соответствовал нынешней тройке, звучал же еще унизительней: «посредственно». На большее, даже при самом большом снисхождении, педагогша моя никак не тянула.
За ее дискредитацию меня и выперли из пионеров — выстроили линейку и сняли галстук. Про безграмотность уязвленной дуры, естественно, не было сказано ничего — невежда, как ни в чем не бывало, продолжала учить детей. На следующий день мама из этой школы меня забрала.
Слово «исключение», пусть только из пионеров, звучало в те годы зловеще. Подвернулся счастливый случай: Всесоюзный Радиокомитет, где мама возглавляла юридический отдел, дал нам небольшую квартиру в надстройке на Беговой, и мы переехали туда с Якиманки. Соответственно поменялась и школа. Нацепив на себя пионерский галстук, заявился я в новый класс — ведь членство в пионерии никаким документом не оформлялось. Пронесло…
Потом была сто десятая в Мерзляковском. От Беговой далеко, зато есть прямой трамвайный маршрут. Известной она стала еще до смены эпох: в начале века. тогда она была частной гимназией для детей из не очень богатых, но все же достаточно состоятельных интеллигентных семей и носила имя своего основателя Флерова. Из ее выпускников досоветского времени самым знаменитым считался король театральной Москвы тридцатых годов, любимец всех кинозрителей Игорь Ильинский — он окончил ее за два года до «революции», о чем нам, новичкам, сообщили на первом же общешкольном собрании. В ней же учился и другой легендарный Игорь — неувядаемый Моисеев.
Школа гордилась своими воспитанниками. У нее была
история. У тех двух, в которые судьба занесла меня раньше, истории не было. И уже одно это превращало любого ученика сто десятой в «наследника великих традиций».
Здание отличалось от стандартных коробок советского времени — и внешней архитектурой, и внутренней. Витая парадная лестница настраивала на торжественный лад. В классах висели электрические часы — помню, это поразило меня сначала больше всего. Украшением актового зала — с большой сценой, тяжелым занавесом и взаправдашними кулисами, вполне подходившими для школьных спектаклей, — служил выполненный в острой кубистической манере портрет Фритьофа Нансена.
К тому времени, когда я пришел в эту школу, у нее уже отняли имя великого путешественника и гуманиста, присвоенное в двадцатые годы, когда Нансен, посетив Москву, выступил с лекцией перед учителями и учениками сто десятой. Позже ей дадут имя изобретателя противогаза, престарелого академика Зелинского, который жил напротив, еще позже отнимут и его, а потом уничтожат и саму школу, передав сохранившееся в целости и поныне уникальное здание музыкальному училищу. Историческая память советской и постсоветской власти, как известно, весьма избирательна: такие очаги духовной культуры и рассадники вольнодумства, которые не вписываются в канонические, неизвестно кем установленные рамки, официальному почтению не подлежат.
В сороковые годы имя Нансена уже вообще было полузапретным. Для особо любознательных он еще оставался известным путешественником, первым пересекшим Гренландию на лыжах. А вот в сто десятой учителя по-прежнему почитали его не только как полярного исследователя: они называли его великим гуманистом, организатором помощи голодающему Поволжью и даже «спасителем беженцев — жертв мировой войны», создавшим для них Нансеновские паспорта. О том, что обладателями таковых стали сотни тысяч русских эмигрантов, обретших благодаря этому легальный правовой статус, конечно, не упоминалось, но те, кто в нашей школе вслух воздавал ему должное, отлично знали про эту «маленькую подробность».
К директору школы Ивану Кузьмичу Новикову, по прозвищу «Кузьма», на первых порах никакого респекта у меня, естественно, не было. Директор — он и есть директор: его боятся и стараются не попасть ему на глаза. Не попасть на глаза «Кузьме» было практически невозможно. Почти каждое утро он стоял в раздевалке, у входа, и сам отмечал тех, кто пришел с опозданием. Таковым оказался и я — почти сразу после того, как стал учеником сто десятой. «Фамилия?» — спросил «Кузьма»: не всех новичков он еще знал в лицо. Я назвался, ожидая разноса. Директорский карандаш повис в воздухе. «Кузьма» вгляделся в меня, вмятина на его лбу — след тяжкой мозговой операции — стала еще глубже. Произнес со значением:
— В нашей школе учился Борис Ваксберг… Это не твой родственник?
На какое-то мгновенье я замешкался. Вопрос застал меня врасплох. О том, что мой двоюродный брат учился в этой школе, ни я, ни мама не знали. Зато я хорошо знал, что дядя, отец Бориса, профессор Матвей Ваксберг выслан с матерью (моей бабушкой) в Казахстан. Как брат расстрелянного врага народа, Генриха, другого моего дяди. И что об этом не следует никому говорить: так мне давно повелела мама.
— Нет, не мой! — бойко ответил я.
«Кузьма» посмотрел на меня еще строже и, не сделав в своем блокноте никакой пометки, коротко бросил: — Ладно, иди!
Следующая с ним встреча произошла через несколько дней. Прозвенел звонок с перемены — перепрыгивая через ступеньки, я мчался в класс и чуть не сбил «Кузьму» с ног. «Задержись», — остановил он меня. Коридор опустел, мы остались одни.
— Твой брат Борис, — подчеркнуто тихо сказал он, отведя в сторону взгляд, — был гордостью нашей школы. Не надо от него отрекаться. И вообще — ни от кого. Родных не выбирают… Теперь иди. Скажешь, был у меня.
Могу поручиться, что эти его слова я запомнил в точности — на всю жизнь. Сколько ни роюсь в памяти, ничто от той поры не сохранилось в ней столь отчетливо, ничто не врезалось с такой пронзительной силой. Ударил наотмашь… Как я ему благодарен за этот удар! С тех пор между нами установилась особая связь, порожденная общей тайной. На его строгое отношение ко мне это не повлияло никак.
Борис был действительно человек поразительный, хотя я помню его очень смутно. В восьмом классе он стал уже кандидатом в шахматные мастера: тогда это была редкость великая, ему прочили огромное будущее. Я был совсем ребенком, но тоже баловался в шахматишки. Однажды Борис предложил сыграть со мной вслепую и поставил мат на шестнадцатом ходу: я запомнил это число как свой безутешный позор. Потом он сыграл «нормально», дав мне фору: ферзя. Я проиграл. Дал ферзя и ладью — результат был такой же. Добавил еще и коня — я проиграл. «Продолжим?» — тоскливо спросил он. Я отказался.
Его мать, очень крупный химик, была в разводе с Матвеем: поэтому, надо думать, Борис не отправился вслед за отцом в казахстанские степи.
Он влюбился в девочку из соседней школы — ее постигло несчастье: неудачно спрыгнув с трамвайной ступеньки, она лишилась ноги. Верный чувству и слову, Борис женился на ней. Когда началась война, он получил по нездоровью (сильнейшая близорукость) «белый билет», но пошел на фронт добровольцем искупать «вину» отца и вскоре погиб, вступив перед этим в партию: сына врага народа приняли — за боевые заслуги. Его фамилия (с ошибкой: вместо «к» в середине фамилии почему-то высекли «й») значится на мемориальной доске в память погибших стодесятников, прибитой к стене совершенно другой школы. Раньше у доски был постамент, и памятник стоял там, где ему положено: во дворе сто десятой. Теперь он лишился и смысла, и места.
Иван Кузьмич был родом из Тульской губернии — его родители, крестьяне села Захаровка, не имели возможности дать сыну хоть какое-то образование. Был он не самоучкой, а самородком, неведомо как постигшим сложнейшую из наук: воспитание человека. Не имея никаких дипломов, учительствовал где-то под Тверью, а потом оказался в Москве. Ему повезло: дипломы тогда не слишком-то почитались. Анкета была гораздо важнее. Благодаря ей он и возглавил московскую школу, получив предписание изгнать из нее тлетворный дух проклятой буржуазии. Хоть на этот раз выбор «Софьи Власьевны» оказался удачным! Много позже, уже под конец жизни, Учитель Божьей милостью — без дипломов и аттестатов — с полным основанием стал членом-корреспондентом Академии педагогических наук.
Я тогда ничего, конечно, не знал о великой педагогике двадцатых годов, которая уже в тридцатых была оболгана, оплевана, изгнана отовсюду, а иным ее создателям стоила свободы и жизни. Основанная на том, что ученик не подчинен учителю, что вместе они сотрудничают ради общего блага, что перед учителем существует не класс («коллектив»), а совокупность разных индивидуальностей, — эта великая и строжайше запрещенная педагогика, связанная с именами Шацкого, Леонтьева, Выготского, Блонского, Вентцеля, Иорданского, Пинкевича, Пестрака, Гайсиновича, Гастева, воплотилась в практике нашей школы, но вслух об этом не говорилось, и понять это я смог только гораздо позже.
Приобщиться сразу к навыкам новой школы было, конечно, не просто. Оставались навыки предыдущих — не школ, а все тех же «ученических коллективов», что, впрочем, одно и то же. На уроке физики было нечто вроде контрольной — положив на колени учебник, я свободно читал его текст в прорезь старенькой парты. Сидевший рядом соученик (фамилию помню, но не назову: вдруг еще жив? живы дети, наверно!) поднял руку: «Иван Адамович, Ваксберг списывает». Иван Адамович Чернышевич, учитель физики, сначала покраснел, потом побледнел. Попросил срочно вызвать директора. До его прихода в классе стояла мертвая тишина. Все замерли в ожидании бури. «Кузьма» явился немедленно, выслушал краткое сообщение Чернышевича. Мне предстояло держать ответ — я сразу же решил во всем повиниться. Такой возможности мне, однако, не дали.
— Ваксбергу двойка в четверти, — сказал Иван Кузьмич после краткого раздумья. — А ты… — Он назвал ябедника по фамилии. — Ты свободен. Иди домой и в школу больше не приходи. Здесь ты учиться не будешь. Так дома и скажи. Отец может зайти — я ему объясню.
Когда в конце четверти нам раздавали дневники, в графе «физика» вместо двойки у меня было написано: «не аттестован». К этому инциденту никто никогда больше не возвращался. Ябедник исчез навсегда. Списывать и «шпаргалить» я себе с тех пор заказал навек: никакой разнос, никакие кары меня бы от этого не отучили.
Преподавать «Кузьма», конечно, не мог, но уроки свои проводил регулярно. «Предмет» его в наркомпросовских программах не значился. И ни в какой другой школе страны не преподавался. Назывался он просто и скромно: «Газета». Уже только ради него посещение школы становилось не обузой, а праздником. Иван Кузьмич приносил «Правду», читал вслух отдельные пассажи отдельных статей — политических и международных. И приглашал к разговору.
Разворачивалась дискуссия — как прочитанный кусок понимать, что именно из него можно извлечь. Каждый стремился показать себя не просто читателем, но комментатором и аналитиком, демонстрируя эрудицию и внося в разговор свою личную ноту. Именно тогда из уст Ивана Кузьмича я впервые услышал о том, что чтение прессы это искусство и что мало для этого быть грамотеем — надо еще научиться «читать между строк».
Сам он давал примеры такого умения: лишь теперь, ретроспективно, я понимаю, каким мужеством, тактом и осторожностью он должен был тогда обладать. Тот, кто хотя бы примерно представляет себе атмосферу сороковых годов, поймет, какой вызов советской «системе воспитания» содержался в этой его дерзкой инициативе.
Не я один — многие мои друзья и товарищи, вышедшие из этих же школьных стен, заразились интересом к политике и усвоили навыки «междустрочного» чтения именно на уроках нашего дорогого «Кузьмы». Понятие же «читать между строк» вошло в советский разговорный язык гораздо позже.
Другой достопримечательностью школы был великий словесник Иван Иванович Зеленцов, составлявший с «Кузьмой» неизменный и неразлучный дуэт. Маленький, щуплый, с всклокоченными седыми волосами, удивительно похожий на художника Репина в старости, Иван Иванович заражал всех своей фанатичной любовью к литературе и казался реликтом, чудом дошедшим до нас из навсегда ушедшей эпохи. Как бы мимоходом из его уст то и дело срывались имена не предусмотренных программой, а то и просто запрещенных писателей: Короленко, Блока, Бальмонта, Леонида Андреева, Бунина, Есенина. С точно подобранными, но произнесенными вроде бы экспромтом цитатами из них.
Сочинения писались только на вольные темы: никаких там образов Татьяны Лариной, а тем более Павки Корчагина, зато — «Что такое поиск места в жизни?», «Чему учит литература?», «Счастье — осуществимая реальность или несбыточная мечта?». Очень часто десять добросовестно исписанных страниц удостаивались его ироничной реплики: «Совершенная чепуха», а про иные полторы странички (больше за сдвоенный урок почему-то не получалось) Иван Иванович говорил с уважением: «Умно и достойно». Однажды, возвращая — со своей «резолюцией» — мой жалкий листочек, проворчал: «Отметки не ставлю». — «Почему?» — удивился я. — «А что я могу тебе поставить? Пятерку? (К тому времени снова ввели цифровые отметки.) Так я ее уже поставил…» И он назвал имена двух наших отличников.
Уроки часто превращались в дискуссии на литературные темы. Ничто он так не ценил, как свободу высказывания, внутреннюю раскрепощенность. Один наш соученик, поняв эту свободу слишком буквально, брякнул как-то, что Пушкина он не любит. Иван Иванович от восторга аж подпрыгнул, вскочил со своего стула, забегал по классу, размахивая руками: «Вот это да! — чуть ли не кричал он. — Молодец!». — «А я люблю», — вмешался прилежный ученик.
— Замолчи, — еще энергичнее замахал руками Иван Иванович. — Любят все. Послушаем того, кто не любит. Ну, так объясни нам, — ласково обратился он к ниспровергателю, — почему же ты не любишь Пушкина. Это очень интересно.
Что-либо объяснить «не любивший», конечно, не мог. Иван Иванович поскучнел.
— Ты не Пушкина не любишь, ты учиться не любишь. Сначала прочти, потом пойми и уж только потом не люби. Потом — пожалуйста, это твое право. Но только потом.
И так, чтобы все видели, поставил лентяю в журнале пятерку.
— За что?! — закричал хором изумленный класс.
— За смелость. К следующему уроку прочтет и подробно объяснит, что он понял. А мы послушаем. Значит, так: прочтешь «Онегина», все стихи из хрестоматии, на большее тебя не хватит, еще «Дубровского», «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина». Другие уроки можешь не готовить — с учителями я договорюсь. Дадим тебе полчаса. Только тебе одному. Говори все, что хочешь, — о том, что прочитал и как понял. Не сможешь — получишь не двойку, а кол. Потому что это будет уже не смелость, а наглость. Невежды не вправе иметь личное мнение. Оно только для тех, кто может его отстаивать.
Так он насучил.
Однажды с инспекционным визитом в школу пожаловал сам нарком просвещения Владимир Петрович Потемкин, аристократ по внешности и манерам, ко всему равнодушный, рабски послушный парткарьерист, хорошо образованный (бывший латинист тверской гимназии) и предельно циничный.
Букет этих качеств позволил ему избежать общей участи в годы Большого Террора. Сталину нравилась его «буржуазность», и он поручил ему вытравить из советской школы «революционную спесь». Потемкин ретиво взялся за это, следуя не только приказу вождя, но и порыву души. По случаю его визита урок литературы провели в директорском кабинете: в классах не было кресла, где высокий гость мог бы вальяжно усесться.
«Проходили» мы в то время «Обломова» — перед тем, как войти в кабинет, Иван Иванович шепнул мне: «Сейчас спрошу тебя». Он спросил, но совсем не про Обломова. Гончарова неожиданно заменил Маяковский, которого в программе этого учебного года не было вовсе. Я нисколько не удивился: Маяковский только что был предметом наших дискуссий в литературном кружке.
Все понял «Кузьма», все поняли наши ребята: учителя с учениками оказались в молчаливом сговоре, разыгрывался спектакль, наркому пудрили мозги. Потемкин сонно слушал, а я не торопился, и никто меня не подгонял. Довольная ухмылка Ивана Ивановича возбуждала мое красноречие, а дремота Потемкина едва удерживала от смеха. Надо ли говорить, что излагал я совершенно не то, о чем мы спорили в кружке, а исключительно то, что положено — про «лучшего и талантливейшего», про агитатора, горлана, главаря, о котором так точно и мудро высказался великий вождь и учитель товарищ Иосиф Виссарионович Сталин?.. Но мысли почетного гостя были, мне кажется, в немыслимом далеке, и он ждал лишь минуты, когда увлекшийся оратор наконец-то заткнется.
Не дождался.
Немного поерзав, Потемкин с трудом извлек свое тело из старинного кресла и, сопровождаемый «Кузьмой», степенно удалился. Едва дверь закрылась, Иван Иванович захлопал в ладоши, облизал губы и подытожил: «В старое время говорили — такое дело надо обмыть».
Неужели наши Иваны не боялись доносов? Даже сейчас, вспоминая тот эпизод и другие, похожие, я чувствую холодок на спине…
Одним из похожих был вот какой. «Проходили» мы русскую поэзию второй половины девятнадцатого века. Вслед за Некрасовым, Тютчевым, Фетом пошли поэты второго ряда. Замечательные, но — второго: в программу они не входили, и, похоже, именно поэтому Иван Иванович говорил о них еще подробней и еще увлеченней. Прошли Случевского, прошли Мея, дошли до Полонского.
— Якова Петровича, — с оттенком ласковой домашности заметил Зеленцов, — вы, конечно, знаете как автора романса «Мой костер в тумане светит». Скорее, правда, знаете сам романс, чем имя автора, который его написал. Но он замечателен прежде всего не этим. Он замечателен одним очень коротким стихотворением, которое я сейчас напишу на доске и которое всем советую выучить наизусть. И запомнить на всю жизнь. Оно всегда будет звучать злободневно и в разные периоды, которые придется вам пережить, по-разному.
И сухонькой своей рукой, в которой от сильного нажима все время крошился мел, вывел каллиграфическим почерком бывшего учителя чистописания поистине замечательные строки Полонского, где так мудро и образно обыгрывается двойной смысл слов «возмущать» и «поражать»: «Писатель, если только он — Волна, а океан — Россия, Не может быть не возмущен, Когда возмущена стихия. Писатель, если только он Есть нерв великого народа, Не может быть не поражен, Когда поражена свобода».
— Комментировать не будем, — сказал Иван Иванович, повернувшись, наконец, к классу лицом. — Перепишите и запомните. И думайте над тем, что выразил поэт в этих стихах.
И опять спрошу: как это наши Иваны не боялись доносов? И опять не найду ответа.
Не помню уже, почему какое-то время у нас вообще не было уроков математики, а потом появился учитель, приходу которого предшествовала сделанная кем-то загодя надпись на доске: «Сегодня вместо биологии будет алгебра.
Преподавателя зовут доцент Петр Яковлевич Дорф». Доцентами никого не удивишь в институте. В школе, ставшей теперь только мужской, приход такого учителя вызвал сенсацию.
Петр Яковлевич был и в самом деле доцентом Пединститута. Оттуда его и выудил Иван Кузьмич, стремясь сохранить на высоком уровне свой учительский корпус. Очень крепкого телосложения, сравнительно молодой мужчина, обладатель редких в ту пору жгуче-черных усов и сверкавшего лысиной черепа, излучал одновременно ехидство и доброту. Сидя не за столом, а за партой — «с равными равный», — он над каждым из нас все время подтрунивал, но к этому-то как раз в сто десятой привыкли. Удивить кого-либо едкой остротой здесь было нельзя. Удивлял он другим: каждого звал только по имени и только на вы. Это был первый в моей жизни человек, который так ко мне обращался. И первый, кто столь откровенно вышучивал мою неспособность разобраться вазах математики. Каждый мой ответ — бездарный и бестолковый — он завершал одним и тем же присловьем:
— Лишь большая любовь к вам, дорогой Аркадий, вынуждает меня поставить вам тройку.
Он был адски начитан и, по-моему, интересовался литературой больше, чем математикой. Зачастил на школьный литературный кружок. Заливисто хохотал, слушая мой доклад о сатирической поэзии прошлого века, а потом увлеченно читал Беранже в переводах Василия Курочкина, уверяя нас всех, что эти стихи принадлежат русскому переводчику больше, чем французскому автору, что Курочкин их полностью переиначил, умело подводя под родные реалии. Лишь многие годы спустя я понял, что под родными реалиями Петр Яковлевич имел в виду вовсе не девятнадцатый век…
Как они только не боялись — тогда! — вслух говорить такое? Причем не кто-то один из наших учителей, а чуть ли не все! По разным поводам и в разном контексте, но всегда в одном направлении. Я уверен, что лишь дух сто десятой мог подвигнуть доцента на смертельно опасную фронду.
Невесть каким чудом я очень неплохо сдал выпускной экзамен по геометрии — комиссия Мосгороно увенчала меня четверкой.
— Нет, так не пойдет! — возразил Петр Яковлевич. — Столько раз я ему завышал отметку, теперь вам придется, дорогие товарищи, ее занизить. Уверяю вас, красная цена этому знатоку геометрии — тройка, на большее он не тянет.
Не знаю, что поняла комиссия, но ему подчинилась.
На выпускном вечере, когда впервые в школьных стенах было дозволено нам выпить вино, он подошел ко мне с бокалом в руке, звонко чокнулся и крепко обнял.
— Почему, почему, — сокрушенно вздохнул он, — вы не влюбились в мою дочь? Я же только для этого приводил ее на школьные вечера. Как бы мы славно болтали с вами по вечерам, никуда не спеша!..
Он, действительно, ее приводил, но я даже вспомнить не мог черты лица той, в которую, как оказалось, был должен влюбиться. И не только, не только… Предметом моих интересов было тогда совершенно иное лицо женского пола. Так мы с Дорфом и не породнились, следы его я тоже потом потерял. Но в памяти он остался, и прочно, — как незаурядная, яркая личность.
В другой раз — это, кажется, было в девятом — на урок «газеты» Иван Кузьмич привел маленького ростом, безмерно бледного человека в элегантнейших галифе. Уже одно это выделяло его из общего ряда. И еще глаза — слишком большие для худого лица и впалых щек.
— «Газеты» сегодня не будет, — сказал директор. — Вводится новый предмет: логика и психология. Вашим учителем будет профессор Кольман.
О головокружительной судьбе профессора я узнал лишь многие годы спустя. тогда было ясно только одно: он иностранец, с акцентом, но очень сносно говорящий по-русски. И что он немыслимо много знает. Иные его речения я не просто запомнил — они стали ключом к раскрытию многих загадок, с которыми приходилось столкнуться потом. Не столько научил, сколько приучил меня логически рассуждать именно он — профессор Эрнест Кольман.
— Я прошу вас, — говорил он чуть нараспев, — внимательно следить за каждым моим словом. Жарким летним днем два человека шагают по мостовой. Один попадает в лужу. Другой восклицает: «Разве ты не знаешь, что ночью шел сильный дождь? Будь осторожнее». Найдите, пожалуйста, логическую ошибку в его предупреждении.
Кто-то сразу ее «находит»: «Он просит быть осторожнее, значит, считает, что могут быть и другие лужи. А их может и не быть».
— Нет, — покачал головой Кольман, — это не ошибка. Ведь товарищ не сказал, что лужи есть обязательно, он только напомнил, что ночью шел дождь.
Другого варианта никто не нашел.
— На этом мельчайшем примере, — сказал Кольман, — я показал вам самую типичную, иногда фатальную для не умеющих мыслить логически ошибку, ее по любому поводу совершает сплошь и рядом множество людей. Я ведь просил внимательно следить за каждым словом. Человек объяснил своему товарищу, откуда взялась лужа: от сильного дождя. Дело происходит в жаркий летний день. А дождь шел ночью. Значит, мостовая могла высохнуть, а потом ее могли полить. Таким образом, лишь один из возможных вариантов человек выдал за единственный. Это очень грубая ошибка. Запомните одно из важнейших логических правил: «Post hoc no est ergo hoc». Или по-русски: «После — не значит поэтому».
Каждый раз, прилагая это нехитрое, но такое важное правило к анализу самых различных событий, я вспоминаю хмурый осенний день немыслимой давности, притихший класс и в той тишине певучий голос ученого, открывавшего школьникам мир еще не познанных ими истин.
Чешский профессор Кольман был одним из пламенных коммунистов, увлеченных идеей мировой революции. Историк математики, доктор философии, он посвятил свою молодость Коминтерну, который направил его на нелегальную работу в Германию, а потом пригласил в свой аппарат. В отличие от большинства других коминтерновцев, он в эпоху Большого Террора не угодил ни под пулю, ни в лагеря, а устроился в московский академический институт философии, откуда его «Кузьма» и извлек, решив дать своим ученикам полноценное образование. Вероятней всего, кто-то из коминтерновцев, чьи дети учились тогда в нашей школе, пристроил таким неожиданным образом полуопального иностранца. Мало кто мог не струхнуть от столь опасного предложения. «Кузьма», разумеется, смог.
Годы спустя Кольмана все же накрыла очередная волна арестов. Проведя в неволе четыре года, он снова воспрял, а в Чехословакии, уже, разумеется, после смерти Усатого, даже стал академиком. Конечно, он был горячим сторонником «Пражской весны» и резко осудил ее подавление. Танки прошли по правде, весна обернулась зимой, — Кольман был слишком стар, чтобы надеяться в каком-то туманном будущем на победу здравого смысла. Не знаю точно, почему он снова оказался в Советском Союзе, где задыхался от лжи и оттого, что позже назвали застоем.
До перестройки оставалось совсем немного времени, когда он не без труда добился разрешения поехать в гости к дочери, жившей в Швеции. И оттуда решил не возвращаться. Написал страстное, горькое и отчаянное письмо — всем, всем, — объясняя свой поступок: его читали по «голосам» множество раз. Таким образом я и узнал, как завершилась его судьба, к которой, благодаря моей сто десятой, сумел краешком прикоснуться еще в сороковых. Когда профессор трагически круто изменил свою жизнь, ему было уже под девяносто. Он умер, не дожив всего четырех лет до своего столетия.
Примечательными в сто десятой были не только учителя, но и ученики. В отличие от «правительственных» школ, где учились дети советско-партийной верхушки, никакой специальной селекции здесь при поступлении не было: она получалась сама собой. Не все выдерживали стиль этой школы, уровень требований и, главное, — ее раскованный, всегда с привкусом легкой иронии, интеллигентный дух. Почувствовав себя не в своей тарелке, они уходили. Иван Кузьмич никого не держал.
Вместе со мной, одни постарше, другие помладше, учились те, кто потом заметно себя проявил на различных поприщах: уверен, что уроки «Кузьмы» не прошли для них даром. Имя Натана Эйдельмана не нуждается в пояснениях. Выдающимся геофизиком стал Коля Шебалин, сын знаменитого композитора, теперь крупнейший специалист по землетрясениям. Мало кто сомневался в том, по какой стезе пойдет Юра Ханютин, уже в школьные годы показавший себя не только любителем, но и знатоком искусства. Кинодраматург и кинокритик очень высокого уровня, спустя двадцать лет он сделает вместе с Михаилом Роммом и другой выпускницей нашей школы Майей Туровской «Обыкновенный фашизм». Школьные спектакли ставил Володя Левертов. Он потом стал известным режиссером, профессором ГИТИСа. Другой Володя — Смилга — оказался не только талантливым ученым, но и не менее талантливым популяризатором науки. Юра Замошкин, сын директора Третьяковской галереи, писал стихи, за что получил школьное прозвище «Зампушкин», но стал не поэтом, а профессором философии. Сын великого Тарханова, племянник великого Москвина Ваня Тарханов продолжит семейную традицию и станет режиссером и актером МХАТа. Володя Сегаль еще в очень молодом возрасте завоюет имя как крупный арабист — по его учебникам занималось несколько поколений студентов. Женя Григорьев до сих пор неутомимо работает в международной журналистике. Один из крупнейших философов, востоковедов и культурологов Александр Пятигорский преподает в лучших британских университетах. Генрих Падва стал одним из самых известных и самых результативных московских адвокатов.
В школе вдруг появлялись и так же вдруг из нее исчезали мальчики и девочки созвучными иноязычными фамилиями, которые были тогда у всех на слуху. Это не удивительно: поблизости, в Нижне-Кисловском переулке, находился дом, где жили нашедшие убежище в Советском Союзе «выдающиеся коммунисты-интернационалисты». Один из них короткое время учился в моем классе — Влад Паукер, сын хорошо известной тогда Анны Паукер, перед самой войной, как писали советские газеты, «вырванной из фашистской тюрьмы». Пламенная румынская революционерка со счастливыми слезами на глазах прибыла в страну, где тремя годами раньше был казнен тот, чью фамилию она носила: такой же пламенный — муж и отец двоих ее детей — Марсель Паукер. Ее младшая дочь Мария, чьим отцом был еще один пламенный, французский коммунист Эжен Фрид, осталась в Париже, а потом была переправлена в бельгийскую деревушку, где под именем Розетты скрывалась от нацистов.
Влад был вдумчивым и задумчивым мальчиком — всегда казалось, что он знает гораздо больше, чем позволяет себе сказать. Тихий, непривычно вежливый и застенчивый, неуклюже сутулый, он поразил меня сначала своими непомерно большими (так мне казалось), обмороженными руками, потом — рано пришедшей к нему взрослостью. Мы сблизились — настолько, насколько это было возможно в те годы, в том возрасте и с учетом столь разных весовых категорий, в которых мы находились. Иногда меня вкусно кормили у него дома — эти, хоть и не слишком частые, обеды казались мне лукулловыми пирами в полуголодной военной Москве.
Несколько раз я был удостоен присутствия и самой Анны. Случалось, мы сидели за общим столом. Случалось, она входила в комнату, где мы болтали с Владом, чтобы снять с полки книгу или достать папку из ящика стола, и, поняв, что наш разговор идет о политике, на полном серьезе, без малейших признаков снисхождения к возрасту собеседников, включалась в диалог двух подростков. Запомнились ее непривычно короткая седая прическа, по-спортивному прямая спина, сеть глубоких морщин на высоком лбу, стальной блеск в глазах, неизменная папироса в зубах — исходившие от всего ее облика нервность и исступленность. Общаясь с ней, я вполне мог допустить, что ее пламенность существовала не только на газетных страницах, что, подчиняясь неукоснительной дисциплине, она была способна отречься не только от мужа, но и взойти, если этого потребует партия, и на дыбу, и на костер…
Впрочем, ее отречение от мужа, с которым она уже находилась в разводе, было скорее формальным, чем истинным. Даже вернувшись в спасшую ее из румынской тюрьмы Москву, она не отказалась от фамилии «врага народа» и не сменила фамилию своим детям. Хотя вполне могла это сделать — уже потому, что пользовалась в партийной среде по меньшей мере двумя псевдонимами: Софья Марин и Мария Григориас. Один из них мог бы стать ее новым именем. Не захотела…
Иногда Влад давал мне читать сверхсекретные бюллетени — «тассовки» и радиоперехват, — которые составлялись без вмешательства цензоров для очень большого начальства. Естественно, их получала и Анна Паукер, представлявшая в Коминтерне свою компартию, то есть, иначе сказать, имевшую связь с советской агентурой в Румынии. Эти «тассовки» мало походили на ту лабуду, которой потчевала «Правда» обывателей и простаков.
Но меня поражало не это. Очень часто содержание секретных «тассовок» чуть ли не в точности совпадало с тем, что вычитывал между строк в той же «Правде» Иван Кузьмич. Уже одно это побуждало меня и впредь затевать интеллектуальные игры с самим собой, чтобы проникнуть в тайны общедоступной печати: с тех пор я уже не сомневался, что при умении и некотором напряжении извилин из нее можно извлечь действительно правду, а не только лежащую на поверхности, задрапированную словесной шелухой, постылую пропагандистскую ложь.
Пиршеству запретного чтения очень скоро пришел конец. Случайно проходя по коридору мимо комнаты, где я жадно углубился в очередной бюллетень, Анна Паукер метнула на него свой взгляд, и уже через минуту сестра Влада Таня бюллетень у меня отобрала, сказав, что он вдруг понадобился маме для неотложной работы. Не знаю, какой разговор имела мать с сыном, но больше ничего «совершенно секретного» я в этом доме ни разу не видел.
Влад исчез так же внезапно, как появился. Вчера еще был в школе, сегодня пропал… На телефонный звонок в квартире никто не ответил. Как и на мой настойчивый — абсолютно невежливый, потому что тревожный — стук в дверь. «Кузьма», выслушав сообщение о пропаже ученика, остудил меня репликой, все расставившей на свои места: «Не нашего ума дело».
Несколько лет спустя я увидел молодого офицера в незнакомой мне форме какой-то иной страны, выходящего с кульком в руке из знаменитого (существует и поныне) кондитерского магазина в Столешниковом. «Влад!» — воскликнул я, не веря своим глазам. «А-а, здорово», — откликнулся он таким обыденным тоном, точно мы вчера еще виделись в школе. Откуда-то появились двое других офицеров в точно такой же форме — Влад, вытащив из кулька плитку шоколада и вручив ее мне, пожелал «всяких благ» и поспешно удалился вместе с ними.
Из газет я узнал, что в это время в Москве гостила правительственная румынская делегация, так что не связать этот факт с нашей неожиданной встречей я, конечно, не мог. Судя по сообщению, Анны в делегации не было, — значит, Влад стал играть в Румынии, еще не полностью завоеванной большевиками, но фактически им уже подконтрольной, какую-то самостоятельную роль. Теперь он снова исчез с моего горизонта — последующие события позволяли считать, что скорее всего — навсегда.
Анны Паукер, которая стала секретарем румынского ЦК и министром иностранных дел, не могла не коснуться сталинская метла. Потому хотя бы, что была она дочерью раввина, от рождения до замужества носила фамилию Рабинович и принадлежала к тому кругу восточноевропейских вассалов Кремля (Рудольф Сланский, Трайчо Костов и другие), которые должны были уступить место новым лакеям, не имевшим за спиной никакого
личного прошлого. Руководящее партийное ядро (Василе Лука, Теохари Джорджеску, Лукреций Патрашкану и прочие) подверглось, естественно, ликвидации. В 1952 году со всех постов сместили и Анну. И, несомненно, казнили бы, не дай дуба товарищ Сталин. Ее «вину» усугубило бы то, что дети — Таня и Влад — так и остались Паукерами: это не могло не считаться демонстративным вызовом партии и предательством делу международного коммунизма.
Несокрушимую румынскую коммунистку не спасла даже хрущевская оттепель, вернувшая к активной политической жизни подвергшихся чисткам, но все-таки выживших функционеров высшего ранга — Гомулку и Гусака, например. Для захватившей ключевые посты группы Георгиу-Дежа эта воинствующая «интернационалистка» была решительно ни к чему. Восемь лет она провела фактически под домашним арестом и погибла от рака, недотянув идо семидесяти лет.
Начиная с шестидесятых годов я много раз бывал в Бухаресте, и меня всегда подмывало разыскать Влада — к тому времени это уже не казалось опасным. В телефонной книге его фамилии я не нашел, а мои знакомые «из местных» на вопросы отвечали так неохотно, что внушили мне сомнения в целесообразности дальнейших поисков. И все же мы с Владом встретились — через полвека после того, как он предстал предо мной в мундире румынского офицера. Это он разыскал меня, а не я его.
Вышедшая сначала во Франции моя книга «Отель Люкс», повествующая о некоторых, к тому времени еще не известных страницах истории Коминтерна, начиналась кратким воспоминанием о встрече с Анной и о том впечатлении, которое произвел на меня, мальчишку, учившегося читать «между строк», хитроумно учиненный Сталиным его роспуск. Влад прочел эту книгу и откликнулся: найти автора не представляло никакого труда.
Лишь тогда стало ясно, почему мои бухарестские попытки оканчивались ничем: сразу после смерти матери Влад покинул страну, в которой по сути не имел вообще никаких корней (он родился в Вене, вырос в Москве) и которая не проявила к нему никакой любви, но зато сполна — отчуждение. Он обосновался во Франции, сделав там карьеру «простого» рабочего, потом «простого» инженера. Высокая квалификация и добросовестный труд оплачиваются совсем не плохо. На скопленные деньги он своими руками построил посреди леса комфортабельный и красивый дом в ближнем парижском пригороде, и мы часто теперь попиваем там домашнее вино, вспоминая былые дни и нашу школу.
Почти в то же время, что и Влад, «исчез» еще один ученик нашей школы — из той же плеяды детей коминтерновцев. Я его часто встречал на переменах — долговязого, с неправдоподобно большой шапкой темных волос, лениво разгуливавшего по коридору в обществе почтительной свиты и щурившего узкие щелочки глаз. Встречал, но знаком не был: он был старше меня — разница лет тогда казалась огромной. А просто так подойти к обладателю легендарной фамилии я, разумеется, не решился. Этой школьной легендой был Конрад Вольф — за глаза мы его называли «Коня».
Отец Кони — Фридрих Вольф — был в ту пору человеком очень известным: немецкий писатель-антифашист, эмигрировавший в Советский Союз, автор популярных пьес, шедших в московских театрах, и фильмов, гремевших на всю страну. Кто не знал тогда «Профессора Мамлока», «Матросов из Катарро», «Совета богов»?! В отличие от Влада Паукера, Кони (это его точное сокращенное имя) стал не иностранным, а советским офицером, воюя вместе с отцом против «своих». Разумеется, нацистов никто из порядочных людей «своими» никогда не считал, а воевать с соотечественниками, которые являются классовыми вратами, по коминтерновским понятиям было делом не только естественным, но просто священным.
Мы познакомились с Кони на каком-то из традиционных вечеров встречи бывших выпускников нашей школы, проходивших и проходящих в конце ноября каждого года. В Москву он приезжал регулярно, учился в московском ВГИКе и стал видным гедеэровским режиссером, поставившим известные в свое время фильмы «Мама, я жив!», «Мне было девятнадцать», «Гойя», «Звезды» (страстное разоблачение антисемитизма) и еще многие другие. Мое знакомство с заграничной (все-таки заграничной) знаменитостью в одном из классов еще не уничтоженной школы, возможно, и не имело бы продолжения, если бы вскоре — таковы причудливые зигзаги судьбы — я не оказался с ним за одним столом в гостях у общего болгарского друга: кинодраматург Анжел Вагенштайн, домашнее имя которого — Джеки, был сценаристом лучших работ Конрада Вольфа, и этот дуэт имел множество амбициозных планов, из которых свершить удалось лишь малую часть.
С той софийской встречи началась наша дружба, и вряд ли потом был хоть один приезд Кони в Москву, который обошелся без его визита ко мне. Раза два он приносил с собой уже готовое тесто и какой-то особый, невесть где приготовленный фарш и приступал на кухне к священнодействию: он сам с гордостью называл себя величайшим мастером производства пельменей. За золотую медаль в этом первенстве с ним мог бороться разве что Сергей Аполлинариевич Герасимов, наш выдающийся кинодеятель, у которого Кони учился во ВГИКе явно не только мастерству режиссуры.
Но чаще готовил не он, а моя мама: всегда — фаршированного судака, притом в немыслимых количествах. Это блюдо, которое Кони считал памятью о счастливом детстве, мы запивали белым рейнским вином, специально им купленным для этой цели в восточноберлинских «эксквизитах»: так назывались магазины, торговавшие товарами из ФРГ. Отлученные от другой половины своей родины, гедеэровские граждане приобщались таким образом за большие деньги к дарам процветавшей Германии — той, что оказалась по ту сторону берлинской стены.
Кони Вольф был преуспевающим деятелем культуры в своей, искусственно созданной и потому обреченной на исчезновение, ни на что не похожей стране. Его сделали членом ЦК, депутатом того декоративного учреждения, которое называлось парламентом, президентом Академии искусств. Дома он олицетворял собою официальную культурную политику «страны немецких трудящихся», за пределами этой страны многочисленные друзья и коллеги воспринимали его просто как Конрада Вольфа, талантливого и честного человека: если он кого-то и представлял, то лишь самого себя.
Однажды ко мне ввалилась большая компания: кроме Кони, Джеки и нашего общего друга Юры Ханютина, пришел еще один иностранец, говоривший по-русски едва ли не лучше, чем иной коренной москвич. Это был брат Кони — Миша. Только в качестве брата он и был мне представлен. Пройдет немало времени, прежде чем я узнаю, что его истинное имя — Маркус и что во всем мире он считается «гением шпионажа». Маркус Вольф — теперь это ни для кого не секрет — на протяжении многих лет возглавлял гедеэровскую разведку («штази») и сумел завербовать в свои агенты людей, входивших в ближайшее окружение руководителей ФРГ. А в общей сложности он имел на Западе несколько тысяч, возможно — несколько десятков тысяч агентов. Легко представить себе, какие услуги он оказал лубянским товарищам!
Если верно, а это, видимо, верно, что работа шпиона сродни работе артиста, то пребывание Маркуса на этом, говоря мягко, не самом уважаемом посту следует считать совершенно нормальным. Он действительно обладал какой-то сценической харизмой, хотя к театру в собственном смысле слова не имел ни малейшего отношения. И еще он привлекал остроумием, живостью мысли, находчивостью, эрудицией, способностью поддерживать компетентной нетривиально любой разговор на любую тему. Женщины были от него без ума, потому что в довершение ко всему Бог ему даровал еще и на редкость приятную внешность. Конечно, Кони знал, кем работает его брат, хотя — это столь же бесспорно — не мог знать о деталях, а тем паче о персональном составе его агентуры. Думаю, говорить о служебных делах старшего брата было в семье не принято: у них — и наедине, и в компании — находилось немало других общих тем.
В тот хорошо сохранившийся в памяти вечер Кони вернулся к сюжету, о котором кратко рассказывал мне двумя годами раньше — в Берлине, в мемориальных комнатах Брехта, только что открытых для публики. Великого драматурга угораздило поселиться в доме, расположенном прямо на кладбище, и это вносило в наш разговор — для меня, по крайней мере, — какую-то нервную ноту. Возможно, поэтому я слушал его тогда вполуха, а теперь, совсем в другой обстановке, заразился его увлеченностью. Вместе с Джеки Вагенштайном он собирался воплотить тот сюжет на экране.
Эта, увы, несостоявшаяся картина возвращала нас в наше общее детство, в нашу общую школу, где завязывался тутой узел отношений героев, отношений, которым предстояло потом развиваться драматично и даже трагично. Тем трагичней, что сюжет не был выдуман, а взят из реальной жизни: человеком, оказавшимся в итоге по другую сторону баррикады, — непримиримым и заклятым врагом, — был закадычнейший друг детства обоих братьев, сначала сбежавший от германских нацистов в Москву, потом от русских коммунистов в Америку и проклявший впоследствии свои прежние романтические порывы и юношеские мечты. Кони об этом смертельно скорбел, а Маркус-Миша — прагматик и человек конкретного дела — относился к другу-предателю со своих должностных позиций: враг есть враг, и он должен быть сокрушен.
Впрочем, теперь мне кажется, что такой была его позиция только в служебное время, а, поедая фаршированную рыбу и запивая ее рейнским вином в московской квартире своего однокашника, Миша был не столь беспощаден. Истинным чувствам он выхода не давал, но они, мне кажется, были куда ближе к чувствам родного брата, чем других генералов из «штази». Это стало особенно ясно той же ночью. После дружеской пирушки мы все, кроме Юры, отправились на вокзал: у каждого из нас на следующий день были дела в Ленинграде. У Миши — вполне вероятно, в известном всем ленинградцам «Большом Доме», у Кони, Джеки и меня — на Ленфильме.
В «Стреле» мы не сомкнули глаз ни на одну минуту. Собрались в «братском» купе и продолжили наше застолье. тогда и открылось, что есть у Кони и Миши еще с очень далеких лет «истинный кореш» — изгнанник и враг народа Андрей Синявский, а у Кони еще и другой — Лева Копелев, диссидент, которого вот-вот тоже выпрут из родной страны: в годы войны Кони служил под его началом в той пропагандистской команде, которая пыталась влиять на мозги фашистских солдат. «Хорошо бы всем нам встретиться и обняться», — сказал под утро Кони. В глазах примолкшего Миши я прочел очевидную зависть: такое проявление человеческих чувств ему было напрочь заказано.
Да и Кони был повязан своим высоким общественным положением. Решительное несогласие с лишением гражданства ГДР «немецкого Высоцкого» Вольфа Бирмана он высказывал партийным товарищам с глазу на глаз, но подписать письмо протеста — вместе с крупнейшими деятелями культуры ГДР, — однако же, не посмел. Он был против вторжения в Чехословакию, всем сердцем сочувствовал «Пражской весне» и не раз говорил мне об этом, но проявить свое сочувствие публично — в какой бы то ни было форме, — конечно, не мог. Это страшно его угнетало, но, согласившись однажды играть предложенную ему роль, он сыграть другую, прямо противоположную первой, уже был не в силах. Да и особое положение Маркуса связывало его по рукам и ногам.
К этой душевной драме добавилась и еще одна, личная: жена, очаровательная актриса Кристель Боденштайн, которую он безумно любил, ушла от него — внезапно и бесповоротно, — повергнув в жестокий шок. Возможно, это были не две драмы, а все та же — одна: жене могло осточертеть ставшее привычным «раздвоение личности», эта вечная необходимость играть на подмостках жизни. Увлечение другим мужчиной, который не стоил и мизинца отвергнутого Кони, вполне вероятно, было просто бегством от той психологической неуютности, которая ее угнетала. Со мной Кони об этом, естественно, не говорил, но есть вещи, которые могут быть поняты и без всяких слов.
Настигший его и безжалостно скрутивший за короткое время рак был, мне кажется, следствием той внутренней боли, с которой не мог справиться даже его могучий организм. Чувствуя приближение смерти, Кони приехал в Москву и обошел — со следившей за ним кинокамерой — все дорогие ему, памятные места: дом, где жил, нашу сто десятую, Переделкино. Там была дача отца, там прошло его счастливое детство.
О смерти Кони я узнал с большим опозданием, вернувшись из какого-то дальнего вояжа. Миша выполнил волю брата — в той форме, которая была ему доступна: подробно рассказал о неосуществленном замысле Кони в своей талантливо написанной книге «Тройка», которая — во избежание аллюзий с нашими кошмарными «тройками» — получила в русском переводе несколько измененное название: «Трое из тридцатых». В ней он уже не так категоричен в отвержении «друга-предателя», да, пожалуй, и вообще предателем его не считает, понимая, в какие ловушки загонял людей наш жестокий двадцатый век.
Лишь одна фраза в этой интереснейшей книге меня покоробила. Про нашу, общую с ним, сто десятую он позволил себе свысока написать: «Там совсем не осталось отпрысков „бывших“ — дворянства и старой интеллигенции». Если даже и не осталось, то радоваться тут нечему — только скорбеть в печальном молчании. Но, по счастью, пусть и не дворянских, но «отпрысков» старой интеллигенции там еще все же хватало, — именно это и позволяло ей сохранять свой высокий уровень. Нравственный и интеллектуальный. Иван Кузьмич, прочитав высокомерные Мишины строки, вряд ли одобрил бы его «классовую» спесь.
Маркус сумел выйти из тех испытаний, которые выпали на его долю в объединенной Германии. Я не смею его ни судить, ни прощать — тем более, что лично предо мной он ни в чем не виновен, а кристально чистым и беспорочным в наших условиях мог быть лишь тот, кто на пушечный выстрел не приближался к политической и общественной жизни.
Мне трудно представить себе, как повел бы себя Кони в тех обстоятельствах, которые сложились после восемьдесят девятого года. Он был человеком принципов, совестливым и честным. Казнить мог только себя, но ни в коем случае других. Тем паче тех, с кем жил и работал. Джеки Вагенштайн, верный прежним идеалам и своему партизанскому прошлому, не принял крушения вассального болгарского коммунизма, остался с теми, кто продолжал следовать «социалистическому выбору», хотя — хорошо это помню — всегда возмущался нарушением прав человека и подавлением свободы личности. Думаю, Кони пришлось бы не очень легко, доживи он до наших дней. Охотников свести с ним счеты, мстя за благополучие при прежнем режиме, нашлось бы немало.
От своих друзей я не могу требовать полного совпадения в мыслях, чувствах, манере поведения и оценке событий. Добиваясь свободы для себя, я оставляю, естественно, такое же право на эту свободу за всеми другими. Возможно, мне пришлось бы сегодня жестоко спорить с Конрадом Вольфом, но, убежден, на нашу дружбу это ни в коем случае повлиять не смогло бы. Наверно, и в этом проявилось бы влияние школы — с ее терпимостью и уважением к личности. Бесследным оно пройти не могло. Влияние на него, на меня, на всех, кто учился у благороднейшего русского самородка, которого звали «Кузьма».
Глава 3.
Театр драмы на Лубянке
Война застала меня в Ленинграде. Точнее, под Ленинградом. Мамин брат с женой и маленькой дочкой, моей двоюродной сестрой, снял на лето дачу в живописном поселочке Тярлево — между Пушкиным (Царским Селом) и Павловском: точно на полпути. Туда и отправила меня мама. Всего лишь несколько безмятежно проведенных дней были прерваны дядиным возгласом: «Дети! Война!» Он выкрикнул это еще до того, как Молотов, заикаясь, начал свою знаменитую речь.
Ученический билет, который был у меня с собой, дал мне право на покупку билета: выезд из города «в частном порядке» был разрешен лишь оказавшимся там иногородним. Другие могли эвакуироваться только организованно — по утвержденным спискам. Я повез двух, совсем еще малолетних, моих кузин. В сверхпереполненном общем вагоне даже сидеть можно было только по очереди. Поезд тащился в Москву целые сутки. Но все-таки дотащился.
Девочек удалось сразу отправить дальше — в Сибирь: их там ждали другие тети. А мы с мамой остались в Москве. С противогазом через плечо я дежурил у подъезда, неистово кидаясь на курильщиков, ожидавших трамвая: остановка была как раз напротив нашего дома. Мне кто-то сказал, что с помощью зажженной папиросы вражеские лазутчики дают сигнал немецким летчикам. Надо мной просто-напросто подшутили, но я все воспринимал слишком всерьез. Самое поразительное: курильщики безропотно подчинялись приказам мальчишки и после первого же замечания поспешно гасили окурок.
По сигналу воздушной тревоги все жильцы нашего дома отправлялись в подвал — там было оборудовано бомбоубежище. Но двадцать первого июля я почему-то решил обмануть маму и соврал, что укроюсь в метро. Хотя до ближайшей станции «Динамо» было довольно далеко, мама меня отпустила. А сам я через другой подъезд взобрался на чердак…
Это была та самая ночь, когда случилась первая бомбежка Москвы. Хорошо помню скрещенные лучи прожекторов, которые вели фашистские бомбардировщики, помогая прицельному огню зениток, следы трассирующих пуль и вспышки снарядов в ночном, посеревшем от света небе, крики восторга и на нашей крыше, и на всех соседних, когда схваченный лучами самолет вдруг вспыхнул, задымил и стал падать… И зрелище немыслимой красоты: взрывающиеся от прямого попадания бомб цистерны на путях возле Белорусского вокзала — тысячи разноцветных искр гляделись, как сказочный фейерверк. При воспоминании о том, что эта трагедия греховно ощущалась мною как красота, я и сейчас испытываю стыд перед собою самим.
Уже начало светать, когда на чердак, пробив крышу, попала зажигательная бомба — она пыхтела и фыркала, распространяя зловоние, вздрагивая и кружась. Вместе с жившим в нашем доме рыжим пианистом (никак не вспомню его фамилии) мы сумели воткнуть ее в кучу песка, предусмотрительно завезенного сюда еще в самые первые дни войны. Про этот «геройский подвиг» кто-то, спустившись в подвал, поспешил рассказать укрывшейся там маме, и вскоре я с ужасом увидел ее на чердаке: она прогнала меня в подвал. Таким был мой первый военный опыт. Какой-никакой, но все же военный…
Второй пришелся уже на ноябрь. Мама больше не мешала мне дежурить на чердаке — война вошла в быт, стала повседневьем. Изменились и критерии страха: с его ощущением, вероятно, нельзя жить слишком долго — наступает привычка. В одну из ночей я увидел, как несколько «зажигалок» упало на трибуны находившегося напротив «Стадиона юных пионеров». Москва уже обезлюдела, на стадионе не было никого. Я кинулся вниз по лестнице, пересек абсолютно темную, заснеженную Беговую. Откуда-то сзади раздался оглушительный свист патруля.
Когда патруль настиг меня на стадионе, две «зажигалки» я успел уже утопить в промерзшем и усыпанном снегом песке. Третья — вдали от меня — подожгла деревянные трибуны. Пожар — по счастью, он не был сильным, пламя никак не разгоралось — гасили пожарные, приехавшие лишь через полчаса. Патруль записал мою фамилию и, к моему удивлению, вместо «спасибо» пообещал сообщить родителям и в комендатуру, чтобы я «не шлялся без присмотра в ночное время».
Кому-то, видимо, сообщил, потому что пять лет спустя меня вызвали то ли в военкомат, то ли в райисполком, чтобы вручить медаль «За оборону Москвы». Никаких других наград у меня, по счастью, нет. Этой — дорожу и горжусь.
В августе и сентябре, когда объявляли тревогу, мы обычно уже не спускались в подвал, а собирались в просторной по нынешним меркам прихожей нашей квартиры, закрыв двери в комнаты и на кухню, чтобы не видеть того, что происходит за окнами. Это называлось у нас «психологическим убежищем». В прихожую были выставлены диван, кресло и пианино, на котором я во время бомбежки имел дерзость бренчать. Но чаще, и это было истинным наслаждением, музицировали другие.
Среди многих прочих жильцов нашего дома — точнее, его надстройки, сделанной Радиокомитетом, — было несколько известных артистов и музыкантов. Некоторые из них еще оставались в Москве и стали захаживать к нам — скоротать время до тех пор, пока не объявляли отбой. Особенно четко помню двоих.
Прежде всего Александра Цфасмана, композитора и пианиста-виртуоза, руководителя оркестра, на концерты которого мама водила меня еще до войны. Почему-то остались в памяти дешевые хохмочки конферансье: «ДОзвольте РЕкомендовать вам, МИлые зрители, ФАктически СОЛЬиста на рояле ЛЯксандра Цфасмана…» Его блистательные джазовые вариации заглушали доносившиеся иногда сквозь наглухо закрытые двери звуки разрывающихся снарядов. Жена Александра Наумовича, по-моему, американка или во всяком случае «привезенная» им из Америки, слушала его с восхищением, но испуганно вздрагивала и чуть ли не сползала с дивана при каждом услышанном выстреле. В нашем «психологическом убежище» много шутили, но жена Цфасмана, подавляя в себе распиравший ее смех, лишь издавала гортанные звуки и закрывала рот рукой: в Америке ей внушили, что смех способствует появлению морщин.
В конце пятидесятых Цфасман позвал нас с мамой в театр Образцова на пародийный спектакль «Под шорох твоих ресниц»: кто еще из наших композиторов мог бы написать истинно «американскую» музыку? Той жены уже не было, или, возможно, она так изменилась, что я ее не узнал, а спросить у композитора не решился. В конце шестидесятых мы случайно встретились на софийской улице — он приехал в составе туристской группы коллег. Даже в Болгарию знаменитые музыканты не могли поехать по-человечески: каждый самостоятельно, с программой поличным интересам и склонностям…
Я спросил Александра Наумовича, помнит ли он наше «психологическое убежище».
— Еще бы! — воскликнул он. — Вы особенно любили (он стал меня звать почему-то на вы) вот это. — И пропел несколько тактов одной своей композиции.
Я пригласил его поужинать в горном ресторанчике на Витоше — он замахал руками:
— Как же я, Арик (вспомнил мое детское имя), могу бросить группу? Это у нас не положено.
Оставалось только вздохнуть…
Вторым был человек, имя которого сейчас прочно забылось, а тогда его знал каждый, потому что каждый был радиослушателем, — он пел по радио едва ли не ежедневно. Борис Дейнека, обладатель редкого по красоте баритонального баса, был тогда на вершине успеха: незадолго до войны на всесоюзном конкурсе вокалистов он получил первую премию, опередив другого жильца нашего дома, лирического тенора Георгия Виноградова, кумира московских барышень. К нам домой Виноградов не захаживал, а Дейнека бывал довольно часто — обычно не сразу после объявления воздушной тревоги, а с опозданием минут на пятнадцать. «Уже все в сборе?» — обычно спрашивал он, открывая без стука незамкнутую входную дверь. Его просили спеть, он никогда не отказывался, иногда аккомпанируя себе сам, иногда прося Цфасмана ему «подыграть». Репертуар не помню — кроме одного романса, который мне почему-то запал в душу. По моей просьбе он даже его повторял. В памяти от этого романса остались только финальные строки: «И вздохнув, сказал: „Это не слеза — дым застлал глаза“».
Потом визиты его прекратились. Пожалуй, прекратились и сидения в «психологическом убежище»: время наступило слишком тревожное, нервное, страшный день 16 октября — всеобщая московская паника — остался уже позади, и грозное приближение конца ощущалось всеми и повсеместно. Откуда мы могли тогда знать, что фюрер (глупый, но умный!) вообще не имел намерения вступать ни в Москву, ни в Ленинград «до победного и окончательного» завершения войны с Россией? Не хотел повторять ошибку Наполеона…
В самом конце ноября я вдруг снова увидел Бориса Степановича в несколько странной и неожиданной мизансцене: под его руководством трое дядек, из которых двое были в военных ватниках, грузили на открытый фургон белый рояль… Возможно, не будь рояль белым, эта картина запечатлелась бы в памяти не столь рельефно.
— Начнутся бомбежки, — не очень внятно пробормотал Дейнека, — надо спасать рояль. Это самое ценное, что у меня есть.
Никакого диалога с мальчишкой он, конечно, не вел, и я не осмелился ему напомнить, что бомбежки не
начнутся, что они уже давно
начались, иначе он не проводил бы ночи в нашем «психологическом», и что никто не знает, куда именно упадет бомба. Маму мой рассказ удивил, но она решила, что Дейнека повез свой рояль на хорошо укрытый склад Радиокомитета, солистом которого он по-прежнему был.
Прошло совсем немного времени — фашистов уже отогнали от Москвы, значит, это было не раньше второй половины декабря, а скорее всего в январе сорок второго, — маму вызвали в военную прокуратуру. Она пришла совершенно разбитая, в мерзлой комнате (наш дом в ту зиму не отапливался) лежала на диване с повязкой на голове, спасаясь от жестокой мигрени. Из ее слов я понял, что Дейнека арестован, а ее расспрашивали о том, не высказывал ли он намерений «перейти на сторону врага». Поскольку таких намерений он точно при нас не высказывал, мама, не боясь быть обвиненной во лжи, дала свидетельские показания в его защиту. О рояле умолчала— имела право и на это: ведь не она видела эту сцену, а я. Но про меня ее никто не спросил.
Много позже вскрылось, куда делся белый рояль. Дейнека перевез его на дачу — в район поселка Манихино, неподалеку от Истры. Там, поблизости один от другого, располагались дачные кооперативы «Вокалист ГАБТа» и «НИЛ» («Наука и литература»). Одна из дач принадлежала Дейнеке. Конечно, у поселка было меньше шансов пострадать от бомбежек, но зато он располагался километрах в сорока к западу от Москвы, и немцам предстояло дойти до него раньше, чем до самой столицы…
За «покушение на переход к врагу» (стало быть, его где-то перехватали) Дейнеке, если не ошибаюсь, дали десять лет лагерей. В конце пятидесятых маму снова вызвали в военную прокуратуру по этому делу — оно пересматривалось. Ей пришлось лишь повторить то, что она говорила за полтора десятилетия до того: никакими сведениями, уличающими Бориса Степановича, она не располагала и не располагает. Судя по тому, что какое-то время спустя в газете промелькнуло сообщение о певце Борисе Дейнеке, солисте Новосибирской филармонии, он был реабилитирован, но в Москву не вернулся.
История эта, однако, продолжает оставаться довольно загадочной. Не столько история самого Дейнеки, сколько многих его коллег, оказавшихся тогда же и там же и заочно осужденных как «изменники родине» в марте 1942 года военной коллегией Верховного суда СССР, заседавшей под началом зловещего Василия Ульриха.
В качестве дожидавшихся и дождавшихся на своих дачах прихода фашистов были заочно приговорены к смертной казни режиссер, заслуженный артист РСФСР Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин (сын уже скончавшейся к тому времени актрисы Малого театра Марии Михайловны Блюменталь-Тамариной), один из трех (наряду с Козловским и Лемешевым) «главных» теноров Большого театра, заслуженный артист РСФСР Иван Данилович Жадан, солисты оперы того же театра Александр
Александрович Волков, Иннокентий Фокиевич Редикульцев и Иван Алексеевич Сердюков, артист театра имени Вахтангова, заслуженный деятель искусств Освальд Федорович Глазунов и концертмейстер Большого театра Агда Ивановна Стенрос. Они оказались на дачах со всеми членами своей семьи. Блюменталь-Тамарин — тот не только с женой, Инной Александровной Лощилиной, но еще и с молодой женщиной (на 33 года моложе его) Тамарой С., которая в судебных документах названа его «сожительницей»: обе — и «законная», и «незаконная» — жили вполне дружно.
Семьи других осужденных состояли из пяти-шести человек. Некоторые пребывали там вместе с домработницами. Немцы заняли поселок не ранее 27 ноября и были изгнаны из него примерно 8–9 декабря. Но артистов там не оказалось: все они отбыли с отступавшими фашистскими частями. Блюменталь-Тамарин — и с женой, и с любовницей. Жадан — с женой и сыном… Коренные жители села — «аборигены» — остались в своих, частично разрушенных домах: стало быть, если отступавшие фашисты кого-то и угоняли вместе с собой, то весьма избирательно.
Ситуация казалась абсолютно ясной и однозначной. Нежелание всех названных лиц эвакуироваться или хотя бы принять участие в тех спектаклях, которые их театральные труппы давали тогда в Москве, было подтверждено многочисленными свидетелями. Не имевший намерения дожидаться немцев, но также озабоченный сохранностью своего дачного имущества, известный певец Владимир Политковский покинул Манихино перед самым приходом оккупантов — значит, такая возможность была…
Однако документы, подшитые к делу уже после вынесения приговора, вносят в эту, вроде бы очевидную, картину столько вопросительных знаков, что разобраться в истине становится совсем не просто. Документ, подписанный Ульрихом, имел такую беспощадную концовку «При задержании упомянутых лиц приговор немедленно привести в исполнение в присутствии военного прокурора». Многие вскоре были задержаны (а некоторые всего лишь обнаружены, но не задержаны), однако приводить приговор в исполнение никто не спешил. В 1944 году Сердюков с супругой были уже в Москве — их не только не расстреляли, но отменили приговор. Семья Волковых вернулась позже — приговор по их делу был тоже отменен. Аналогичная судьба постигла и приговор по делу Глазунова, который жил в Риге (он латыш, его подлинная фамилия Глазнек), играл в местном театре и откатываться дальше на запад вместе с отступавшими немцами желания не имел.
Жадан глухо исчез, и только в разгар горбачевской перестройки появились достоверные сведения о его судьбе. Оказалось, он жив. Специально ли дожидался немцев, добровольно ли ушел с ними — этого уже никто не узнает. Так или иначе, в 1942–1944 годах он не только жил в Германии, но записал несколько дисков на всемирно известной тогда фабрике звукозаписи «Полвдор», а в 1944 году оказался в Праге и пел вместе с хором армии Власова. Судьба жены и сына не известна — его подругой до последнего, смертного часа стала американка Дорис, которая была моложе Ольги Никифоровны, жены Жадана на 22 года.
Если он действительно стремился к яркой и более обеспеченной «другой жизни», то она не состоялась: вряд ли работа садовником на удаленном от всего света острове Сент-Джон в Вест-Индии была для него предпочтительней триумфальной карьеры прославленного солиста Большого. Оказавшись в Германии, он лишил себя возможности выбора, отрезал путь назад. Но вот ведь с Волковым и Сердюковым, которые тоже при странных обстоятельствах оказались на оккупированной территории, — с ними не сделали ничего. И опять же: а могли он это предвидеть?
Вполне вероятно и другое: не воспылав любовью к большевикам, Жадан был готов любым путем и любой ценой вырваться из их жарких объятий. Именно так скорее всего и было. Но война внесла коррективы даже в эту проблему. Альтернативы — большевизм или нацизм? — не было. Для артиста и быть не могло. Была другая: со своей страной или против нее? Не случайно же почти вся русская эмиграция — даже самые лютые враги большевизма — желали тогда победы советского оружия, а не его поражения. Довод: что такого он сделал? В вермахте не служил, никого не закладывал, разве что пел… — этот довод не кажется мне убедительным. Даже теперь, ретроспективно. Но — расстрел?! При чем тут расстрел?. Да и не только расстрел, но и любое другое, какое бы то ни было, наказание. Ведь он не был солдатом, присяги не принимал, стало быть, «изменить» — в строго юридическом смысле — вообще не мог. Но советское правосознание это не правосознание нормального общества, там критерии были иными. Наказанием для певца могла стать, должна была стать и действительно стала его последующая судьба.
Иван Жадан спасся не только от длинных Лубянских рук, но и от себя самого на крохотном островке посреди океана, он умер в 1995 году на пороге своего 93-летия, успев побывать за два с небольшим года до смерти в Москве. Умер, увы, не артист, а садовник. С ним, как говорится, все ясно. А вот история Блюменталь-Тамарина куда как загадочней, в ней до сих пор множество белых пятен.
Оказавшись в немецком тылу, он был принят со всеми почестями как «фольксдойче», получил доступ к микрофону и регулярно выступал как по-немецки, обращаясь к фашистским солдатам, так и по-русски — к советским. Кстати, как этнический немец Блюменталь-Тамарин должен был по сталинскому указу отбыть в глубь страны, но избежал этой участи — наряду с прочими «полезными» немцами О.Ю. Шмидтом, Э.Т. Кренкелем и другими. Блюменталь-Тамарину дали квартиру в Берлине, где он вступил в контакт с хорошо известной ему по московской артистической среде Ольгой Константиновной Чеховой, самой знаменитой из всех находившихся в Германии актеров русского происхождения, успевшей уже к тому времени стать звездой немецкого кино и театра. В последнее время о ней у нас много написано, издана и ее книга «Мои часы идут иначе», из которой, впрочем, ничего правдивого о ее тайной службе узнать нельзя. Тайная служба — это строго законспирированная работа на советскую разведку, настолько законспирированная, что о ней, кажется, и в Москве никто, кроме Берии и одного-двух его самых ближайших сотрудников, ничего не знал.
Есть даже версия, и она мне кажется вполне вероятной, что он лично — через кого-то из безоглядно преданных — ее завербовал. Семья Ольги Чеховой, в девичестве Книппер, жила на Кавказе, в Грузии, где она и родилась. Остались там и прочные связи. Уехала в Германию сестра Ольги, Ада, преподавала русский язык и одновременно «кое-что» сообщала время от времени советским товарищам. Брат Лев служил в Белой армии, эмигрировал в Югославию, но очень быстро вернулся домой и никак не пострадал за свое прошлое. Еще того более — он стал знаменитым композитором, автором опер, балетов, симфоний (дважды отмечен Сталинской премией), но прославился одной-единственной песней «Полюшко-поле». И уж совсем никакой славы ему, естественно, не принесла другая его ипостась: он был тщательно законспирированным агентом советской разведки. В случае сдачи Москвы фашистам Лев Книппер должен был остаться в столице, стать коллаборантом (фольксдойче! родной брат германской звезды Ольги Чеховой!) и осуществить некую крупномасштабную лубянскую операцию, подвергнув себя смертельной опасности.
До этого не дошло, но в иных, не столь громких по замыслу операциях он участвовал. В каких? Где и как он действовал, — практически об этом ничего не известно, хотя, казалось бы, одна только его не то альпинистская, не то этнографическая экспедиция в Турцию в начале тридцатых годов, о которой нигде нет ни слова, должна была бы привлечь к себе хоть чье-то внимание.
Найти ход в Берлине к третьей из этой семьи — самой главной и самой важной, — к Ольге Констаниновне Чеховой большого труда не составляло.
Ольга Чехова была лично — можно сказать, интимно — знакома и даже дружна с Гитлером и семьей Герингов. Блюменталь-Тамарин, войдя с ней в контакт, хорошо рассчитал, что она может замолвить словечко о нем в таких верхах, а может быть, с ее помощью он и сам удостоится чести… Он не знал, однако, ничего о ее тайной жизни и шел, в сущности, прямо «в пасть к зверю».
Такие же планы, только с противоположным знаком, имели и люди, оставшиеся в Москве. Им было поручено Сталиным организовать убийство Гитлера (если удалось прикончить Троцкого, почему бы и с Гитлером не поступить точно так же?). Вряд ли был для этого более подходящий канал, чем любимица фюрера и лубянский агент Ольга Чехова. Но сама она, ясное дело, на роль убийцы не годилась. Для этого был подобран другой кандидат. Совершенно поразительным образом — не в жизни, а в лубянских кабинетах, — пути Блюменталь-Тамарина и потенциального убийцы Гитлера пересеклись.
Актриса Камерного театра Августа (Гутя, как звали ее близкие люди) Миклашевская, имя которой неразрывно связано с Есениным и его стихами (ей посвящен цикл «Любовь хулигана», включающий семь стихотворений, в том числе «Заметался пожар голубой…», «Пускай ты выпита другим, но мне осталось, мне осталось…», «Дорогая, сядем рядом…»), была замужем за артистом балета Львом Лащилиным, братом жены Блюменталь-Тамарина Инны Лащилиной. Лев был тогда очень известным человеком в мире балета — вместе с Игорем Моисеевым, кстати сказать, он поставил в Большом балет Оранского «Футболист». В 1933 году стал заслуженным артистом республики — тогда эти звания еще не подверглись инфляции. Сын Августы, боксер Игорь Миклашевский, был завербован для выполнения «особого задания правительства». Ему предстояло нелегально перейти линию фронта, подвергнуться самым изощренным проверкам и добиться встречи в Берлине со своей родной тетей Инной, а стало быть и ее мужем — его дядей. Через них войти в контакте Ольгой Константиновной Чеховой и передать ей инструкции, не информируя, разумеется, насчет подробностей задуманной операции.
План был осуществлен великолепно (дядя пришел в восторг от поступка племянника, перешедшего к немцам) и скорее всего был бы доведен до конца (с непосредственным участием Чеховой), если бы Сталин вдруг не передумал. Он умел просчитывать варианты на много ходов вперед, как истинный гроссмейстер политических интриг. Сталин прекрасно понял (версия Павла Судоплатова, как и историка и писателя Льва Безыменского, мне представляется весьма убедительной), что устранение Гитлера откроет сразу же для его преемника путь к сепаратному миру с союзниками, а этого он боялся еще больше, чем пребывания Гитлера на верховном посту в третьем рейхе. В последнюю минуту был дан отбой. Прежде чем сбежать, Игорь Миклашевский завершил свою операцию финальной точкой, подобающей террористу: он убил дядю-изменника — Всеволода Блюменталь-Тамарина. На судьбе Ольги Чеховой это не отразилось никак.
…Мне не дает покоя одно совпадение, которое, если это и правда случайность, наводит на мысли о непознанных тайнах взаимосвязи явлений.
Убив своего дядю, Игорь подался почему-то во Францию — видимо, имел заранее специальные указания на этот счет. Вскоре после его прибытия в еще оккупированный нацистами Париж там загадочно умирает один очень известный русский эмигрант: Константин Михайлович Миклашевский. Его находят в постели отравившимся газом: якобы он просто забыл перекрыть газовую трубку.
К.М. Миклашевский — известный в свое время питерский режиссер. Он принимал участие в постановке сатирической пьески Горького «Работяга Славотеков», сразу же снятой со сцены по приказу Зиновьева, усмотревшего в главном герое самого себя. К. М. Миклашевский (он был еще и актером, и историком театра) эмигрировал в середине двадцатых годов, стал в Париже и антикваром. Его «лавка древностей» служила в Париже местом конспиративных встреч. «За» кого и «против» кого он был? На какие силы работал?
По официальной версии, Игорь Миклашевский, находясь во Франции, присоединился к отрядам Сопротивления и участвовал в операциях «маки». Этим операциям посвящена во Франции огромная литература, иностранное, тем более русское, участие в них отмечается особо. Имени Игоря Миклашевского нет ни водном источнике. Скорее всего, он участвовал совсем в других операциях, о которых французские авторы не знали и знать не могли.
Я не знаю, имел ли И. Миклашевский какое-либо отношение к К. Миклашевскому. Но — до чего поразительна цепь совпадений! Столь редкая фамилия… Тоже, как и Августа, человек из театральной среды… Тот же Париж… «Несчастный случай» — прием, отработанный спецслужбами множество раз.
Счастливый поворот в артистической судьбе Августы Леонидовны Миклашевской «случайно» тоже совпал с завершением спецоперации, возложенной на ее сына. Пребывая долгие годы на провинциальной сцене (последнее время в городе Кирове, бывшей Вятке), она вдруг была возвращена в Камерный театр. Принята в партию, получила звание заслуженной артистки, а несколько лет спустя приняла участие в травле своего учителя и наставника Александра Таирова. Возможно, к этому ее обязывало положение матери удостоенного особого доверия советского патриота.
О подробностях акции Игоря Миклашевского никаких публикаций нет, хотя о военных подвигах своих сотрудников Лубянка рассказывает сейчас довольно охотно. Полностью замалчивается тайная работа крупного Лубянского агента Льва Книппера. Не имеет никакой официальной версии и судьба Блюменталь-Тамарина, хотя какой же сейчас может быть секрет в истории перехода к врагу всего лишь артиста (уж Власову-то он не чета!) и к уничтожению советским разведчиком еще одного предателя? Возможно, эта история лишь одно из звеньев какой-то очень важной цепи, разматывать которую Лубянка пока не хочет.
…Прошло много лет. Наступили девяностые годы. В главном холле ЦДЛ я встретил Виктора Николаевича Ильина, уже переставшего к тому времени быть организационным секретарем Московского отделения Союза писателей. Он подсел ко мне на диван, просверлил сквозь стекла очков изучающе цепким взглядом и загадочно произнес:
— У меня для вас есть один грандиозный сюжет. Мне кажется, вы смогли бы его раскрутить увлекательно и без перехлестов. Не в стиле сегодняшних разоблачителей или вчерашних воспевателей. Достойно… — И, опередив мой вопрос, поспешно добавил: — Вот-вот снимут секретность, и я вам все расскажу. Потому что лучше, чем я, эту историю никто не знает.
Очень скоро Ильина насмерть сбила машина. Возможно, и это был просто несчастный случай. Сплошь — одни случаи… И все — несчастные! Хорошо осведомленные люди поставили гибель В.Н. Ильина в связь с теми планами, которыми он с кем-то делился: рассказать о том, что знал. А знал он многое: до своего ареста в сорок третьем году он был генералом госбезопасности и имел самое прямое отношение к наиболее дерзким акциям этого ведомства.
Теперь достоверно известно: именно он, Виктор Николаевич Ильин, выполняя задание Сталина, которое тот дал убойных дел мастерам — Эйтингону и Судоплатову, — разработал план ликвидации Гитлера в Берлине и лично завербовал для осуществления плана Игоря Миклашевского, разыскав его в Ленинграде, в одной из воинских частей.
Не этот ли «грандиозный сюжет» он имел в виду, когда мы с ним встретились в последний раз? Если так, то краткий наш разговор в ЦДЛ можно считать концовкой сюжета, и только по этой причине я позволил себе включить рассказ о по-прежнему загадочной операции советских спецслужб («вот-вот снимут секретность» — так до сих пор и снимают) в свою мемуарную книгу.
По нормальной логике развивавшихся тогда событий маме надо было взять меня в охапку и бежать как можно дальше на восток, опасаясь вполне вероятного и очень близкого вступления немцев в Москву. Противотанковые заграждения пересекли Ленинградский проспект недалеко от нашего дома, там же были сооружены из бетонных глыб и мешков с песком оборонительные сооружения. Квадратные окошечки пулеметных гнезд позволяли зримо представить себе бои, которые со дня на день развернутся там, где еще совсем недавно шла повседневная мирная жизнь.
Насчет того, какая судьба ожидала нас в этом случае, сомневаться не приходилось: информация о том, что происходило на оккупированных территориях, была если и неполной, то абсолютно точной. Не могу объяснить, почему за себя мама вообще не боялась: никакой особенной храбростью она не отличалась. А почему не боялась за меня, — это я знаю вполне достоверно, хотя надежда ее на мое спасение могла и не сбыться. Но наступило шестое декабря, началось советское контрнаступление под Москвой, и вопрос решился сам собой.
Еще за несколько лет до войны, оставшись одна и работая с утра до ночи на нескольких службах, мама дала довольно странное объявление в «Вечерней Москве»: «Ищу воспитательницу со знанием языков для сына Аркадия». Странным оно было потому, что в нем сообщалось мое имя: не все ли равно той, что откликнется, как ребенка зовут? Мама никогда не могла мне объяснить, что заставило ее так поступить. Но интуиция не подвела.
Первый звонок раздался тем же вечером. Он же был и последним. Позвонившая женщина сказала, что принимает предложение, не интересуясь условиями. Мама ответила тем же: ей понравился голос звонившей. Лишь годы спустя я узнал, что поистине сказочным образом идеально совпали интересы обеих «сторон».
Евгения Карловна Боборыкина, которой шел уже восьмой десяток, была некогда замужем за младшим братом плодовитейшего писателя прошлого века Петра Боборыкина, овдовела в молодом возрасте и больше замуж не вышла. Она жила в Армянском переулке вместе с сестрой Ниной Карловной и ее мужем — в сохранившемся и поныне маленьком особнячке (дом номер пять). Когда-то они занимали весь первый этаж, потом «самоуплотнились» — за семьей оставили четыре комнаты.
У двух сестер до «революции» было еще два брата — оба популярные в Москве адвокаты: Владимир и Аркадий Тубентали, обрусевшие остзейские бароны. Их очень хорошо знали и в артистическом мире: они были завсегдатаями Литературно-художественного кружка. Стало быть, и моя Евгения Карловна, которую я стал звать «танте» (tante — по-немецки тетя), тоже была в девичестве баронессой. Братья, мягко скажем, не приняли большевистский режим и оба были расстреляны. Стоит ли объяснять, почему Евгения Карловна, которая, как я понимаю, материально ни в чем не нуждалась, но имела потребность заботиться о каком-либо живом существе, откликнулась столь стремительно на мамино объявление, где было названо мое имя? Брат Аркадий был ею особо любим.
Она говорила со мной по-немецки, водила на выставки и в театры, обсуждала, как со взрослым, прочитанные книги, учила сидеть за столом, правильно пользуясь посудой, приборами и салфеткой. У мамы свободных денег не было, и «танте» тайком от нее ходила со мной в рестораны, обучая правилам поведения в подобных местах, выбору блюд и учтивой застольной беседе. Помню ее любимое место — кафе «Красный мак» на углу Столешникова и Петровки: этого здания больше не существует. Как и другого, тоже ею любимого: ресторана «Мюр и Мюрелиз» внутри ЦУМа. Здание, впрочем, есть — нет ресторана. тогда он еще был, хоть и под другим названием. Там мы ели — самому не верится — медвежьи котлеты!
Мама хмурилась, слушая мои восторженные рассказы, хватала телефонную трубку: «Евгения Карловна, что вы делаете?!» Не знаю, что «танте» ей отвечала, но походы в рестораны, не так уж, впрочем, и частые, продолжались. Она же была моей неизменной защитницей, если у нас с мамой случался конфликт. Первый номер телефона, который я выучил и запомнил на всю жизнь, — К5-16-36 — принадлежал моей «танте»: ей я звонил, чтобы поделиться своими обидами, в те дни, когда она не приходила к нам на Якиманку, а потом и на Беговую.
Напомню: по сталинскому распоряжению все этнические немцы с началом войны подлежали выселению в Казахстан, но мои Карловны никуда не уехали. Защитой им служила охранная грамота, выданная еще в 1918 году мужу Нины Карловны — Николаю Александровичу Шнейдеру. Она была подписана Лениным, и я ее видел своими глазами. По рассказам «танте», профессор-ляринголог Шнейдер принимал участие в лечении Ленина, но ни в одном опубликованном документе, ни в одном свидетельстве очевидца этой фамилии я не встретил. Тем не менее факт остается фактом: грамоту видел, и семья из трех человек, включая двух немок, никуда из Москвы не уехала. Евгения Карловна с противогазом и медицинской сумкой дежурила морозными ночами на улице, неизвестно от кого охраняя свой невзрачный особнячок. Нина Карловна помогала детям, оставшимся в военной Москве без родителей и без крова.
В последних числах ноября — кажется, в тот самый день, когда мне повстречался Дейнека с его белым роялем, — я переехал жить к «танте». Маме она сказала:
— За Аркадия не беспокойтесь, но как помочь вам, я не знаю.
Мама, естественно, сказала, что ее волнует только моя судьба. Я жил у «танте» до 9 декабря. Радиотарелка не выключалась ни на минуту. Музыка Штрауса то и дело прерывалась воем сирен. Днем я гулял один по обезлюдевшим, но все же не утратившим признаков жизни ближайшим улицам и переулкам. Один раз зашел в закусочную на Маросейке — она, как ни странно, еще работала, и там даже подавали мясное рагу с картошкой. Точнее — картошку с рагу… Официантка не удивилась, что обслуживает мальчишку, сказала только: «А хлеб у нас по карточкам». Я съел порцию без хлеба и заказал еще одну. Примерно полтинника не хватало, — официантка махнула рукой. «Дома не кормят», — понимающе сказала она. Дома меня кормили, но шикануть самому в закусочной было приятно.
Надо ли считать, что мои Карловны готовились к приходу немцев и были уверены, что меня спасут? Вероятно, да. Но Николай Александрович был крещенным евреем, а нацистов, в отличие от юдофобов царского времени, интересовало не вероисповедание, а исключительно этнические корни. И вряд ли ему послужила бы грамота Ленина. Если и послужила бы, то совсем в ином варианте.
Профессор Шнейдер умер в конце войны. «Танте» пережила его на два года, Нина Карловна — на восемь лет. И после смерти мужа она продолжала пользоваться правами персонального пенсионера союзного значения.
В наследство от «танте» у меня остался барометр прошлого века. Он всегда обещает хорошую погоду.
Глава 4.
Как много, представьте себе, доброты…
Сомнений в том, что я стану юристом, не было никаких: про будущую свою профессию я знал еще с детства, она не была мне навязана, вся домашняя атмосфера — и книги на полках, и разговоры, которые дома велись, — с неизбежностью определили мой выбор. Но и то поветрие, что вспыхнуло тогда в молодежной среде, не обошло меня стороной. Открылся Институт международных отношений — о нем много писали в газетах. Завлекательная реклама не имела никакого практического смысла: в тот институт не поступали, туда
направляли и
приглашали. С моими анкетными данными вход в этот вуз был напрочь заказан. Оставался вариант утешительный: Институт внешней торговли (ИВТ). До поры до времени более демократичный. И к тому же — с юридическим факультетом: убивалось, стало быть, сразу два зайца.
Все вступительные экзамены (в том числе и по иностранному языку, что для этого института считалось особенно важным) я сдал на пятерки. Но приемную комиссию смутил мой возраст, среди поступавших больше не было никого, кому накануне исполнилось бы только шестнадцать лет. Сергей Дмитриевич Сергеев, директор института, будущий заместитель министра внешней торговли, мягко посоветовал мне поступать «через годик-другой». Члены комиссии дружно закивали головами.
Лишь одна пожилая дама, сидевшая на диване в самом дальнем углу просторного директорского кабинета, возразила, с чуть ироничной улыбкой напомнив пословицу: «Молодость это тот недостаток, который непременно проходит». Довод был не из сильных — после того, как директор уже высказал свое мнение. И однако, выждав короткую паузу, Сергеев подвел итог: «Избавляйтесь скорее от своего недостатка. Вы приняты».
Лицо той, что меня спасла, запомнилось сразу: слишком крупное для ее роста, очень значительное, с высоким лбом, — его высоту еще больше подчеркивала устремленная вверх копна дивно уложенных, густых волос — темных, с серебристым отливом. Все отличало ее от тех женщин, с которыми мне приходилось встречаться в повседневной жизни: аристократичность манер, безупречный вкус в одежде, интеллигентность речи, мудрые глаза, излучавшие и строгость, и доброту. Вскоре я узнал ее имя, значительно позже — удивительную судьбу.
Профессор Екатерина Абрамовна Флейшиц заведовала в институте кафедрой гражданского права и в ту пору исполняла обязанности декана юридического факультета. Еще не пришла пора удивляться тому, что женщина с таким именем, отчеством и фамилией занимает подобный пост в столь высоком учреждении. Институт пытался собрать преподавательский состав самой высокой пробы: ни одной посредственности в профессорском корпусе ИВТ я не помню. Скорее всего и поэтому его выпускники заняли впоследствии заметное место не в одной лишь торговой сфере, зачастую служившей крышей для вполне однозначных «спецопераций», но еще и в науке и политической жизни.
Среди тех, кто учился там одновременно со мной, был не только ставший вскоре всемирно известным «Гордон Лондсдейл», послуживший прообразом главного героя фильма «Мертвый сезон» (то есть советский супершпион Конон Молодый, которого под этим — подлинным — именем все мы и знали), но и будущие академики Олег Богомолов и Владимир Лаптев, будущий председатель Конституционного суда Владимир Туманов, множество профессоров, по книгам которых учатся сегодняшние студенты.
Екатерина Абрамовна была в общем ряду работавших в полную силу могикан-корифеев начала века, чьи труды печатались в лучших журналах «царского времени», — эти реликты преподавали и в Институте внешней торговли, и на юрфаке МГУ, где вскорости я оказался. Имена их сегодня мало кто помнит, тогда же они были на слуху у многих гуманитариев среднего и старшего поколений, поскольку ученые-правоведы все еще продолжали играть важную роль в духовной жизни страны, а не только в профессиональном кругу.
Профессор Флейшиц отличалась от своих ровесников и коллег хотя бы тем, что за несколько десятилетий до нашей с ней встречи уже существовала не только весьма обширная научная литература, созданная ею самой, но и литература совсем другого жанра, ей посвященная: страстная, острая, вовлекшая в круг своих авторов очень громкие и престижные имена политической публицистики своего времени.
Дочь известного украинского адвоката, юная Флейшиц сразу по завершении гимназии отправилась в Париж, мечтая получить юридическое образование, доступ к которому для женщин в России был практически невозможен. Блестящие способности позволили ей за три года сдать все положенные экзамены и получить диплом Сорбонны, соответствующий нынешнему диплому кандидата юридических наук. С высочайшего (то есть императорского) соизволения ей было разрешено сдать экстерном экзамены и за юрфак Петербургского университета — четырехлетний курс она одолела за четырнадцать месяцев и, благодаря своим двум дипломам, была принята в число помощников присяжных поверенных при Петербургской судебной палате.
Первый день, проведенный ею в качестве уголовного защитника, был и последним. Весьма популярный тогда прокурор Ненарокомов, имя которого не раз встречается в исторической литературе, решительно отказался вести поединок с женщиной-адвокатом и покинул зал заседаний. Процесс сорвался.
Мельчайшее, вполне ординарное дело о краже бильярдных шаров, которое должно было стать профессиональным дебютом молодой адвокатессы, привлекло к себе, благодаря этому скандалу, внимание крупнейших столичных и провинциальных газет. «Биржевые ведомости», «Речь», «Русское слово», «Петербургская газета» — все они неделями и месяцами обсуждали перипетии чрезвычайного факта, ставшего предметом жарких дискуссий в Государственной Думе. О вознамерившейся стать адвокатом Екатерине Флейшиц писали и высказывались с публичных трибун такие разные деятели, как министр юстиции Щегловитов (по прозвищу «Ванька-Каин»), мракобес, черносотенец и хулиган Владимир Пуришкевич — с одной стороны, и сенатор Анатолий Федорович Кони, страстный поборник женского равенства на адвокатском поприще, — с другой.
Сама Екатерина Абрамовна с юмором относилась к тем, давно отшумевшим баталиям, отвергая прочно укрепившееся за ней звание первой русской женщины-адвоката. «Я была первой, — говорила она мне позже, когда наши отношения уже перестали быть отношениями студента и профессора, — кого выгнали из адвокатуры. Ни одного слова мне сказать в зале суда так и не дали». Особенно ее забавляла аргументация, которой пользовались гонители. В законе было сказано, что адвокатом может быть «лицо, имеющее высшее юридическое образование». Лицо, а не — «мужчина или женщина»! Отсюда делался странный филологический вывод: «лицо» слово хоть и среднего рода, но употребляется в законодательстве лишь применительно к мужчинам. Никакого другого толкования грамотеи типа Пуришкевича и его банды признавать не хотели.
У Екатерины Абрамовны было еще одно первенство в российской истории. Она действительно стала первой женщиной, получившей в нашей стране степень доктора юридических наук. Произошло это в 1940 году, а годом позже ее диссертация была издана с грифом «для служебного пользования» — ни в продажу, ни в библиотеки она не поступила. Тайна, в ней содержавшаяся, и впрямь была значительной, а раскрытие ее могло нанести непоправимый ущерб государственным интересам. Называлась диссертация так: «Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран». Личные права — то есть право на имя (в прямом и переносном смысле), право на честь и достоинство, право на репутацию… Их защита в судебном порядке… Для публики — вполне очевидная крамола: какие оговорки ни делай, из диссертации с непреложностью вытекало, где и какие личные права существуют, а где их нет и не может быть.
Счастливая случайность не дала мне возможности потерять ее в качестве профессора: Флейшиц преподавала не только в ИВТ, но и в МГУ. Она на мгновение онемела, увидев меня в сентябре на лекции среди студентов университета: ведь в бывшем моем институте распустили слух, что с изгнанием из ИВТ (об этом — в следующей главе) я стал обладателем «волчьего билета».
Теперь наше общение стало особенно частым. Не реже раза в неделю я бывал в ее квартирке на одной из Парковых улиц, в Измайлове, куда надо было добираться от станции метро на редко ходившем автобусе. Эвакуированная из Ленинграда, она не имела в Москве никакого жилья и приняла как благословенный дар устроенный ей институтом приют в двухэтажном коттедже — одном из десятков, построенных после войны руками немецких военнопленных. Наши беседы затягивались иногда до глубокой ночи. Увлеченности Екатерины Абрамовны я обязан выбором дальнейшей специализации: она влюбила меня в авторское право.
Здесь, на Парковой, мне и привелось утешать ее в горе, которым она мало с кем могла поделиться.
С Парижем у нее были связаны воспоминания не только о счастливой студенческой жизни, но и о несчастной любви, итогом которой остался сын. По совокупности сложных личных причин, достаточно, впрочем, понятных, она была вынуждена оставить его во Франции, а потом оказаться и вовсе отрезанной от сына в результате тех самых десяти дней, которые потрясли мир. Лишь однажды, в 1924-м, Госбанк, где она работала юрисконсультом, устроил ей командировку в Берлин, и туда на свидание к матери приехал элегантный и стройный юноша, ни слова не знавший по-русски. За несколько дней, проведенных вместе, оба поняли, что не могут жить друг без друга, и, казалось, одного этого было достаточно, чтобы остаться… Тем более ей, для которой немецкий, французский и английский были столь же «родными», что русский, а дипломы и знания открывали возможности для блестящей карьеры на множестве поприщ в любой стране.
Я так и не понял, почему этого не случилось. Сама Екатерина Абрамовна мне об этом не говорила, спрашивать я не посмел — тем более тогда: казематов Лубянки я избежал только чудом, и память об этом была еще слишком свежа. Насколько я могу судить по обрывочным косвенным данным, ей опять пришлось выбирать между сыном и тем — уже другим — человеком, который тогда был ей близок и оставался в Советском Союзе. Она избрала его, но и этот союз очень быстро распался. А хода «туда» уже не было…
Сына своего Екатерина Абрамовна никогда больше не видела, но за жизнью его следила издалека — по письмам и обрывочной информации знакомых, навещавших Париж. Она знала, что в 1940-м ее сын, к тому времени тоже юрист, с оккупацией Франции не смирился, безоговорочно поддержал генерала де Голля и стал одним из самых близких его сотрудников.
Знала не только она, но и наши секретные службы. В годы войны такое родство если и не украшало, то во всяком случае не слишком портило ее биографию, сразу после — как раз наоборот. На пике борьбы с «космополитами», одной из жертв которой стала профессор Флейшиц, вменили бы ей и «сына-врага», но судьба решила иначе: он умер внезапно от сердечного приступа.
Кто-то из общих знакомых мне об этом сказал, и я помчался на Парковую. Стояло жаркое лето. Екатерина Абрамовна открыла дверь — мокрая повязка на лбу была слабым спасением не только от жары, но и от боли, которую она не хотела скрывать. Мой приход вынудил ее подняться с дивана, где она лежала — в полном одиночестве, прикрывшись пледом, несмотря на жару. Рядом, на столе, в красивой вишневой рамке, стояла карточка сына, удивительно на нее похожего, типичного молодого француза из интеллигентной семьи. И рядом — миниатюрная вазочка с одной-единственной белой гвоздикой.
Я долго, пока не стемнело, сидел в кресле рядом с диваном, время от времени по просьбе Екатерины Абрамовны смачивая высыхавшую на лбу повязку или поднося стакан с водой к ее потрескавшимся губам. Мы почти все время молчали. Я бы сразу ушел, почувствовав, что мое присутствие ей в тягость. Но оно явно не было в тягость, и лишь много позже Булат объяснил — мне и всем нам, — как много, представьте себе, доброты в молчанье, в молчанье…
Нам предстояло видеться еще множество раз, но никогда мы не возвращались в разговорах к тому горькому дню, который сблизил нас еще больше. Оказавшись в третий раз (после ИВТ и МГУ) вместе (я стал аспирантом того института и даже того самого сектора, где тоже работала Екатерина Абрамовна), мы редко говорили о ставших общими научных проблемах, но всегда — о музыке и литературе, философии и истории, и даже просто о прозе жизни: к бытовым проблемам она относилась вполне равнодушно, хотя врожденная культура и европейское воспитание повелевали ей заботиться о своей внешности, о безупречно строгой одежде и эстетике интерьера.
Она охотно согласилась стать одним из официальных оппонентов на защите моей кандидатской, и это дало мне радость новых и частых встреч с нею, — беседы об авторском праве естественно перетекали в диалоги о природе творчества и его результатах, то есть о том, ради чего авторское право, собственно, и существует. Ее эрудиция не подавляла, а восхищала меня, а споры (как мы яростно спорили!) были школой терпимости и уважения к своему собеседнику.
Защита шла долго и увлекательно. Официальных оппонентов (вторым был профессор И.С. Перетерский, не только крупный ученый, но и консультант МИДа в ранге посла) сменили неофициальные — вполне внушительным числом. Они спорили не столько со мной, сколько друг с другом, диссертант, естественно, волновался, — в разгар дискуссии Екатерина Абрамовна, вопреки правилам и традициям, на глазах у всех, подошла ко мне и положила руку на мой лоб. И в то же мгновенье я вспомнил сумерки
того жаркого дня, и наше молчанье, и повязку на лбу, которую я смачивал водой из-под крана…
Пошлой манере заранее приглашать ученый совет на выпивку и жратву по случаю удачной защиты я не последовал, но, когда объявили результаты голосования, несколько друзей предложили «отметить событие» в каком-нибудь ресторане. Мы выбрали Дом актера, и, конечно, я тут же попросил Екатерину Абрамовну поехать с нами. «А вот это, коллега, уже без меня», — сказала она, отделив себя жестом от шумной молодежной толпы. Я часто вспоминал потом ее одинокую фигурку, бредущую к метро по Кропоткинской, когда битком забитая наша машина промчалась мимо — в предвкушении радостного застолья. Вспоминал — и каждый раз отчего-то сжимало сердце.
Судьба все же оказалась к ней благосклонной. Ей удалось сменить жилье — из тесной квартирки на окраине переселиться в просторную на Кутузовском, когда на месте бывшего кладбища прорубили широченную магистраль, вдоль которой построили уныло похожие друг на друга дома, удобные, видимо, для жильцов и ставшие очень престижными. Но другая удача не шла ни в какое сравнение с первой: вдова ее сына, молодая французская журналистка Клод Дей, хорошо говорившая по-русски, добилась назначения корреспондентом газеты «Франс-суар» в Москве и приехала сюда вместе с дочерью Майот — внучкой Екатерины Абрамовны Флейшиц, которая наконец-то, в глубокой старости, обрела нечто похожее на семью, хотя они и жили порознь. Радость была недолгой: по какой-то причине Клод в Москве не задержалась.
Здесь я ее никогда не видел — Екатерина Абрамовна не выносила наружу свои семейные тайны, да и не были мы в общем-то так уж интимно близки, не дружили «домами». В потоке ежедневной текучки я постыдно утрачивал связь с теми, кто сделал меня таким, каким я стал. тогда это не замечалось, зато стало вполне очевидным сейчас. Но много позже, опять-таки волей счастливого случая, я встретил Клод Дей в Париже: меня свел с ней Поль Торез, сын того Тореза, Мориса, главы «братской» французской компартии, полный его антипод, талантливый историк искусств и художественный критик. Мы назначили встречу в кафе «Селектлатен», которого больше, увы, не существует.
В глубине слабо освещенного зала Поль сидел с молодой дамой. «Мы с вами заочно знакомы, — сказала она, — Екатерина Абрамовна рассказывала о вас». Наступили уже другие времена (не
совсем еще, правда, другие, но все же…), в редчайших случаях границы чуть приоткрывались, и французская журналистка ждала свекровь, которая вот-вот должна была — с перерывом на полвека — снова приехать в Париж. Мы могли бы встретиться
там — какой это был бы праздник души! Но командировка жены подошла к концу, предстояло возвращение, перенести отъезд на другую дату было уже невозможно.
Оказалось, в этом не было и нужды. За несколько дней до отъезда в Париж (уже был куплен билет) Екатерине Абрамовне стало плохо. Она успела вызвать врача и даже открыть ему дверь, упав на его руки с вопросом: «Это конец?». Ответить врач не успел, потому что действительно это был конец, ловко придуманный безжалостным драматургом для трагедийной пьесы.
Официально ей было тогда ровно восемьдесят, по документам архива — восемьдесят шесть. Имеет ли это значение сейчас? Имело ли тогда?
По какой-то, непонятной мне самому, цепочке ассоциаций я вспоминаю Екатерину Абрамовну Флейшиц, смотря время от времени телевизионные передачи об ушедших от нас замечательных актерах или художниках, писателях, музыкантах. Они живы в памяти многих, от них остались произведения, любимые многими, понятные и доступные, привлекающие к себе интерес. К себе, а значит и к авторам. Осталось и то, что можно всем показать, что можно услышать: кинокадры и телехроника, картины, пластинки, кассеты.
Богатство личности профессора Флейшиц, яркость и драматизм ее судьбы, интеллигентность, широта взгляда, ее духовный мир и влияние на умы тех, кто годы спустя создавал правовую базу свободной России, — все это ничуть не менее замечательно. И не менее достойно внимания. Но людям этой профессии остаться в памяти поколений, к сожалению, не суждено. Фильмов о них не ставят. Книг — для публики — не пишут. Имя замечательной женщины — профессора Екатерины Абрамовны Флейшиц — осталось в далеком прошлом, а если теперь иногда вспоминается, то лишь в крайне узком, все более и более редеющем кругу.
Для меня оно значило очень много. Значит еще и сейчас.
Глава 5.
Страсти по Саломее
Институт внешней торговли, где я проучился три года, оставил о себе лишь самые грустные воспоминания. Уже на втором курсе я вляпался в одну идиотскую историю, которая могла слишком дорого мне обойтись.
Наш институт не походил и не мог походить на обычные вузы. Как-никак это была пресловутая кузница не только внешнеторговых, но и шпионских кадров. Во главе партийной и комсомольской организаций там не могли стоять случайные люди: их направляли с большого верха, и они представляли в институте не только Старую площадь, но и площадь имени Железного Феликса. Освобожденным комсомольским секретарем прислали некую Тамару Морозову — курносую девицу лет двадцати восьми, абсолютно невзрачную и бесцветную, но уже с повадками партаппаратчицы. Мне она показалась просто перезрелой пэтэушницей с подходящими анкетными данными. Единственная деталь, которая привлекала внимание на процедуре ее представления и которая хорошо запомнилась, — кокетливо сдвинутый набок берет по моде комсомолок двадцатых годов: долгое время она вообще его не снимала, не найдя для себя, как видно, подходящей прически.
Честно говоря, мне было решительно все равно, кто возглавляет комсомольский комитет института: в активистах я не ходил и к этому не стремился. Но кому-то она оказалась помехой. На чьи-то карьерные амбиции посягнула или могла посягнуть. И на очередных выборах (формально ведь «выбирали» даже назначенных!) ее вознамерились прокатить. Один из студентов, с которым я даже и не был близок, уговорил меня обрабатывать тех, кого он назвал «болотом»: пусть голосуют против Тамары.
Все-таки прав был директор Сергеев, полагая, что я еще не дорос до
этого института: никакого опыта интриг и групповой борьбы у меня не было, просчитывать наперед последствия своих поступков я не умел. Легко поддавшись на уговоры, я кому-то вяло внушал голосовать против Тамары, хотя личного о ней мнения — ни хорошего, ни плохого — вообще тогда не имел. Поскольку доносчиками, как легко догадаться, были в институте, если не каждый второй, то уж во всяком случае каждый третий, информация о моих советах дошла до нужных ушей уже через несколько дней. Последствия ждать себя не заставили.
Суд вершил все тот же комсомольский комитет, руководимый так и не сброшенной с
пьедестала Тамарой. Страстные обвинители — такие же студенты, как я, — сравнили дурацкую нашу затею (чего уж там мелочиться?!) с «фракционной борьбой троцкистско-бухаринских предателей», призывая поступить так, «как партия поступает с любыми фракционерами». Напыщенный пафос этих речей было трудно воспринимать всерьез, хотя я и очень старался. Одна невольная усмешка — всего лишь одна! — стала отягчающим вину обстоятельством: «Посмотрите, — воскликнула Тамара Морозова, — он не только не раскаивается, а еще над нами смеется». Ожидал самого худшего, но отделался строгачом! Радоваться, однако, было еще рано.
Соответствующие службы, видимо, только тогда вплотную занялись изучением биографии юного «фракционера». Не столько, впрочем, моей, сколько — семьи. Без труда раскопали, что один дядя расстрелян, другой избежал ареста, покончив с собой, третий находится в ссылке. И что покойный отец вместе со всеми своими братьями некогда был активным меньшевиком. тогда-то и вызвал меня к себе наш кадровик, в недавнем прошлом министр госбезопасности Абхазии, — Николай Романович Акаба. И, ничего не объясняя, предложил убираться подобру-поздорову…
Об этом подробно рассказано в моей книге «Царица доказательств» — о прокуроре Вышинском, поскольку именно он, лютый палач, парадоксальнейшим образом оказался моим спасителем и пристроил на учебу в Московски й университет. И он же годом позже спас от приставленного ко мне доносчика, которого мама из-за его топорной назойливости почти сразу разоблачила. О том, как я избежал запланированного ареста, рассказано в той же книге — нет смысла здесь повторяться.
Во главе института пребывал уже не Сергеев (тот пошел на повышение — стал заместителем министра внешней торговли). Его заменил добродушный толстяк Афанасий Андреевич Змеул, не чуждый, кстати сказать, интереса к литературе. Он устраивал в институте встречи с писателями, — однажды, познакомившись с ним на курорте, привел даже Леонида Леонова. Перед очень куцой аудиторией (большинству студентов ИВТ это имя ничего не говорило) он скучно бубнил о встречах с Горьким и о том, сколь великое будущее предрекал ему классик. Свой рассказ неожиданно завершил театральным жестом. Показав всем могучую длань, дал такой комментарий: «Вот эту руку пожимал Горький, а его рука еще помнила рукопожатие Льва Толстого. Так передается литературная эстафета».
Самое большое достоинство Афанасия Андреевича было все же в другом. Он имел совершенно очаровательную дочь Майю. Она приходила на наши институтские вечера еще будучи школьницей, потом и сама стала студенткой этого института. Помню, с одного вечера мы возвращались уже за полночь в битком набитой машине, — Майе пришлось сесть мне на колени. Было бы странно, если бы эта, доставившая тогда мне немало приятных волнений поездка стерлась из памяти. Вскоре Майя вышла замуж за седеющего красавца Романа Кармена, «кинолетописца советской эпохи», а еще позже стала женой Васи Аксенова, к тому времени уже моего друга. Так поразительно кольцуются судьбы. До тех пор, пока это Васе не надоело, я не раз донимал его сладким воспоминанием: ведь скорее всего я был первым (или хотя бы одним из первых) мужчиной, на коленях которого сидела его будущая жена.
Увы, Змеул не ударил палец о палец, чтобы защитить своего студента. Наверно, он и не мог этого сделать: кадровые вопросы не находились в его компетенции. Тамара Морозова, не говоря уже об Акабе, имела гораздо большую власть, чем он. К тому же была она в то время невестой нашего студента Геннадия Журавлева: он был на десять лет моложе ее, а меня любил, как и она, — любовью брата. Журавлев дослужился до поста заместителя министра внешней торговли по кадрам, потом стал послом в Египте. Прочитав газетную информацию о его назначении, я живо представил себе эту пару, принимающую в своей резиденции послов других государств…
Выговор «за фракционную деятельность» догнал меня через несколько лет, вторично толкая на край пропасти. Случилось это уже после того, как я стал дипломированным юристом и был принят в аспирантуру состоявшего при министерстве юстиции Всесоюзного института юридических наук (ВИЮН).
Точнее — я был
заочным аспирантом, что в данном случае имеет весьма существенное значение. Служба в ведомственном институте, то есть в одном из департаментов министерства (аспирантура формально тоже считалась службой), давала приличный статус советского чиновника, неизбежно прошедшего фильтр отдела кадров. Заочные аспиранты такого статуса не имели, кадровики этого министерства ими не интересовались. Зато ими должны были интересоваться другие кадровики — по месту их основной работы. Обязательным условием приема в заочную аспирантуру являлось представление справки с места работы и характеристики — традиционно советского аттестата о благонадежности. Но дирекция ВИЮНа этим правилом пренебрегла. Не приняв в очную аспирантуру ни одного кандидата-еврея, она приняла в заочную всех, ни от кого не потребовав тех документов, которые должны были оградить институт от чуждых ему элементов. Все «заочные» ничем не отличались от очных (даже были приняты на комсомольский учет), кроме разве что одного: они не получали стипендии. Но это тогда не казалось серьезной бедой.
Среди очных, между прочим, какое-то время пребывала тоже одна бывшая студентка института внешней торговли, примечательная лишь тем, что была близкой подругой Конона Молодого, вошедшего в историю шпионажа под именем Гордон Лонсдейл. Все, кто их знал по институту, полагали, что они муж и жена. Румяная, приветливая и очень легкая в общении, Варвара Маркина (или Рыжая Вава, как ее звали из-за тутой косы с медным отливом и круглого лица в веснушках) запомнилась мне загадочной улыбкой Джоконды, означавшей, как видно, что ей доступны такие тайны, знать которые заказано нам. Я, конечно, спросил ее о Кононе, не вкладывая в свой вопрос никакой задней мысли, — и она с улыбкой ответила мне, что, окончив институт, Конон получил назначение в Китай, а она вот-вот отправится вслед за ним.
Конон, как стало известно многие годы спустя, пребывал в это время совсем на другом конце планеты. Еще один наш бывший студент, Сева Потерухин, встретил его случайно на римской улице и с восторгом чуть ли не кинулся ему на шею. Конон на безупречном английском громко сообщил Севе, что тот обознался, а потом на чистом русском, с применением непарламентской лексики, шепотом объяснил ему, куда он должен немедленно убираться.
Директором ВИЮНа состоял человек, имя которого юристы того поколения хорошо знали. Иван Терентьевич Голяков впервые «обозначился», когда стал запасным судьей на первом Большом московском процессе (дело Зиновьева—Каменева). Потом из рядового члена военной коллегии, подписавшего сотни расстрельных приговоров, он выросло председателя Верховного суда СССР и, наконец, завершил свой путь на посту директора ВИЮНа. Если бы я писал роман, в котором прообразом моего героя послужил Голяков, я попробовал бы создать сложный и противоречивый портрет человека, в котором безоглядная службистская жестокость, ревностное исполнение любого приказа, даже самого кровожадного, уживались с мягкостью, добродушием, готовностью помочь. И еще — с эрудицией: Голяков был большим книгочеем, обладателем ценнейшей книжной коллекции, автором опубликованных историко-литературных работ.
К сожалению, я должен согласиться с мнением одного из лучших западных знатоков истории советской юстиции, канадского профессора Питера Соломона: «И.Т. Голяков не заслужил того издевательского изображения, которым удостоил его А. И. Солженицын в „Архипелаге ГУЛАГ“». И в самом деле: он был одним из немногих на таком уровне, а, возможно, и просто единственным, который осмелился назвать беззаконие беззаконием и пытался исправить хоть что-то. 3 декабря 1939 года он обратился с письмом к Сталину и Молотову, обращая их внимание на множество «ошибочных приговоров», вынесенных Военной коллегией Верховного суда СССР, и предлагая их «пересмотреть». Сталин на его письмо вообще не ответил, а Молотов предложение Голякова отверг. Тогда Иван Терентьевич стал добиваться «программы-минимум»: он просил разрешить Пленуму Верхсуда дать судам указания «скорректировать» практику по делам об антисоветской агитации. Если бы это предложение было принято, многие были бы реабилитированы еще тогда, а другие вообще избежали бы лагеря. Не разрешили и этого: Вышинский со ссылкой на Молотова сообщил Голякову, что принятие его предложения «нецелесообразно».
В ВИЮНе судьба снова свела меня с Екатериной Абрамовной Флейшиц: она состояла научным сотрудником сектора гражданского права, где я и проходил аспирантуру. Руководил сектором хорошо известный еще дореволюционным юристам профессор Дмитрий Михайлович Генкин, человек незлобивый, ученый средней руки, отличившийся тем, что ко дню своего 80-летия преподнес себе царский подарок: вступил в КПСС. И через неполных два года скончался…
Моим руководителем вызвался быть относительно молодой по тогдашним меркам (ему не было и пятидесяти) профессор Сергей Никитич Братусь, показавшийся мне сначала хмурым, замкнутым и ко всему равнодушным. Очень скоро я смог убедиться, насколько был неправ.
Не прошло и года, как против меня затеяли еще одно персональное комсомольское дело. И на этот раз главный пункт обвинения звучал более чем зловеще: «Умышленно сорвал выполнение важнейшего политического задания, в качестве агитатора не обеспечил своевременную явку избирателей на участок для голосования». Справедливости ради надо сказать, что обвинение было не слишком далеким от истины: у меня действительно не хватило духа врываться в квартиры и требовать, как тогда полагалось, от жителей «вверенного» мне микрорайона, чтобы они, все как один, разыграли спектакль голосования не позже, чем в семь утра. Иные пожаловали на участок только в двенадцать, а были еще и такие, что подтянулись чуть ли не в два. Когда к ним нагрянула райкомовская инспекция, уличая — не столько их, сколько меня — в антисоветском поступке, жители правдиво ответили, что агитатор про «обязательный час» явки ничего им не говорил, а то и вообще к ним не пожаловал, иначе они, разумеется, приползли бы чуть свет…
Тотчас всплыл предыдущий строгач, уже к тому времени снятый. Мне напомнили, что тогда мой проступок был тоже с антисоветским душком. Бывший «фракционер» превратился в «неразоружившегося врага, цинично надругавшегося над оказанным ему политическим доверием», — с такими, естественно, не церемонились. Зычным голосом громыхал на трибуне будущий сотрудник Президиума Верховного Совета СССР и будущий доктор наук Всеволод Васильев в тесном содружестве с очаровательной аспиранткой, бывшей студенткой МГУ (моего же, кажется, курса) Диной Розанцевой: логика общей борьбы вскоре сделала их мужем и женой. (Лишь одна аспирантка нашла в себе мужество назвать инквизицию инквизицией, хотя именно с ней мы и не были вовсе дружны. Впоследствии Елена Андреевна Лукашева стала видным теоретиком права, уважаемым и авторитетным ученым.) Но с особенным сладострастием — ехидным, въедливым голосом — меня распинала здешняя Тамара Морозова: не в юбке, а в брюках. Эту роль исполнял аспирант Андрей Жудро.
Узнав о том, что именно он является нашим комсомольским секретарем, мама почти успокоилась: с его отцом, адвокатом Константином Александровичем Жудро, она не раз выступала в судебных процессах и считала его своим товарищем. Ей казалось, что сын коллеги, с которым она была в очень добрых отношениях и которого уважала, сумеет смягчить готовившийся удар. Получилось иначе, но и тогда мама искренне думала, что Андрей (вскоре он станет видным специалистом по морскому международному праву) просто не мог поступить иначе, а его отец избегает с ней встреч лишь потому, что сгорает от стыда и мучается угрызением совести. Полное прозрение пришло лишь через четверть века, опять-таки неожиданным образом закольцевав этот минисюжет.
Через четверть века… Меня неплохо к тому времени знали многие узники ГУЛАГа — и как практикующего адвоката, не раз помогавшего их товарищам по несчастью, и как журналиста, пишущего на близкие им темы. Поэтому почта с просьбой о помощи давно перестала меня удивлять. Постепенно отходя от адвокатской практики, я стал отвечать, что в качестве защитника ничем помочь им не смогу, но (когда осуждение казалось мне сомнительным, а тем паче несправедливым) готов сотрудничать с другим адвокатом, если тот сочтет, что вмешательство газеты может оказаться полезным. Именно так я и ответил Владимиру Александровичу, отбывавшему в Якутии суровое наказание по обвинению в явно вымышленном изнасиловании. Некоторое время спустя от Владимира пришло еще одно письмо:
«…Прилагаю ответ адвоката К.А. Жудро, который я получил, обратившись к нему за помощью и сообщив, что Вы вызвались участвовать вместе с избранным мною защитником в моем спасении. Неужели у Вас в Москве принято так лаяться друг с другом, вместо того, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи? Письмо, которое я Вам пересылаю, мне противно держать в руке, поэтому и копии с него не снимаю, а просто отправляю Вам. Делайте с ним, что хотите…»
А вот и само письмо дорогого коллеги:
«…Про Ваксберга знаю, это московский адвокат. Он сумел проникнуть в среду работников „Литературной газеты“ и, как Вы его величаете, стал „писателем“. Он только забыл Вас уведомить, что исключался из Комсомола — этот тщательно скрываемый им факт говорит сам за себя. Теперь, узнав это, Вы можете составить более полное и точное представление о личности так называемого „писателя“. Я ни в какой помощи Ваксберга не нуждаюсь. Видимо, не случайно после войны Министерство Юстиции СССР дважды командировало меня в числе других избранных адвокатов на процессы немецких военных преступников».
Говорят, автор этих строк считался умным человеком, но ему и в голову не пришло, как он смешон своими «разоблачениями» спустя почти тридцать лет (какая память, однако!) и бахвальством насчет своей «избранности». А то никто не знал и не знает, по каким параметрам отбирались адвокаты на эти театрализованные процессы, где вина подсудимых была действительно очевидна, но и приговор предрешен, так что функция защиты сводилась к игре в показушный демократический ритуал по правилам советской «юстиции»…
Второй акт двухактной пьесы закончился так, как и предполагалось. На этот раз били наотмашь. «Сдайте билет!» — палаческим тоном приказал мне секретарь райкома, объявляя о моем исключении. Я сдал. Приглашенные на судилище мои товарищи-аспиранты с каменными лицами наблюдали за актом гражданской казни. Что следует обычно за исключением — на пике второй волны Большого террора, — они не знать не могли. Первое непременное следствие — еще одно исключение: из аспирантуры. Затем — выселение «тунеядца»: ведь формально я нигде не работал. А затем (или сразу) что-нибудь и покруче.
Вот тут-то и произошло то, чего я меньше всего ожидал. На следующий день раздался телефонный звонок: профессор Братусь! Это было более чем странно: всего три дня назад он уехал на зимние каникулы — кататься на лыжах в Закарпатье. Его возвращения я ждал не раньше, чем через две недели.
— Вас нельзя было оставить одного так надолго, — коротко, с нарочитой, как мне показалось, сухостью сказал он. — Я уже договорился: завтра в десять утра вас примет Кудрявцев.
Заместитель министра юстиции СССР Петр Иванович Кудрявцев, как и Голяков, был страстным книжником. Каждую субботу он с утра обходил букинистов, — там мы и встречались с ним время от времени, ибо и я любил прикупить (по мере своих возможностей) какой-нибудь раритет. Для постоянных искателей эти лавки служили тогда и клубами. Мы нередко болтали на книжные темы, стоя у прилавка в существующем и поныне магазинчике возле МХАТа, но он ни разу не спросил меня, кто я такой. Покупатель — и только. Легко представить себе его удивление, когда подлежащим изгнанию антисоветчиком оказался человек, чье лицо ему примелькалось. Возможно, поэтому он долго молчал, не зная, как приступить к разговору. Потом сказал:
— Исключать из аспирантуры мы вас не будем. Подайте апелляцию в горком. Раскайтесь… Во что бы то ни стало раскайтесь! Вас восстановят. И пишите скорей диссертацию.
Он окликнул меня, когда я был уже у двери:
— Вас не было в букинистическом уже целый месяц. А я, между прочим, купил прижизненное издание «Обрыва» с автографом Гончарова. Идите, идите, вам не до этого…
Вечером опять позвонил Братусь:
— Аркадий, ваш вопрос закрыт. Делайте то, что сказал Кудрявцев. Я снова уезжаю в Карпаты. Теперь уже с легким сердцем…
Так оно все и вышло. Заседание горкома комсомола (почему-то около полуночи) вел секретарь Георг Мясников. С ним мы еще дважды пересечемся, но через многие годы. «Вы осознаете свой проступок? — спросил он и не дал мне ответить. — Осознаете. Давно пора!.. В таком случае есть предложение заменить исключение строгим выговором. Возражений нет?» Возражений не было.
Через несколько дней, уже в райкоме, мне выписали новый билет. Гроза миновала. Кто всех жарче поздравил меня, когда с новым билетом в кармане я явился в ВИЮН на очередное заседание сектора? Догадаться нетрудно: Дина, Всеволод и Андрей.
Гроза миновала? Как бы не так!
Прошло меньше года. Перед уходом на каникулы руководитель семинара по «марксистско-ленинской диалектике» профессор К.И. Тройников собрал наши рефераты, чтобы проверить их на досуге и по окончании каникул обсудить на семинаре. В первый же или второй день после этого кратковременного отпуска произошла та сцена, при воспоминании о которой у меня и сейчас пробегает холодок по спине.
Мой реферат был посвящен марксистско-ленинской трактовке национальных проблем, и, естественно, его фундаментом была известная сталинская работа «Марксизм и национальный вопрос». В отдельном разделе реферата шла речь об антисемитизме, и это явление тоже, естественно, трактовалось исключительно с официальных сталинских позиций как худший вид каннибализма. Попутно юный автор, демонстрируя свою эрудицию, вспоминал о хрестоматийном деле Дрейфуса, цитируя письмо Чехова своему издателю и другу (тогда еще другу) Алексею Суворину от 6 февраля 1898 года: «…заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней. Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: „это француз гадит, это жиды, это Вильгельм…“ Капитал… масоны… — это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство! Они, конечно, дурной знак. Раз французы заговорили о жидах… то это значит… что в них завелся червь, что они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою взбаламученную совесть… Первыми должны были поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации, — так и случилось…»
Это был, разумеется, чеховский отклик на знаменитое «Я обвиняю!» Эмиля Золя.
За несколько минут до начала семинара, встретившись со мной в институтском коридоре, Тройников схватил меня за локоть и затащил в пустую комнату.
— Вы с ума сошли! — зашипел он, доставая из портфеля мой манускрипт. — Мальчишка! Фрондер! Вы дурак или провокатор?
Поверит ли мне кто-нибудь, что я ничего, абсолютно ничего не понял из этого почти истерического всхлипа?
Что случилось? Чем я прогневал профессора? Реферат представлял собою не более чем добросовестное изложение догматических сталинских взглядов и, если чем-либо и страдал, то разве что чрезмерной компилятивностью. Но профессор, брезгливо держа манускрипт, как ужа, зажатого двумя пальцами, совал мне его, продолжая шипеть:
— Держите и никому не показывайте! Уничтожьте! Перепишите! Возьмите другую тему! Безумец!
Он вылетел, пылая, из комнаты и уже через несколько минут, весь красный и потный, открыл семинар. Открыл тем, что публично сделал мне выговор: все, мол, сдали к сроку свои рефераты, и только я один ничего не сдал! Нарушил… Подвел… На мою беду другой аспирант, Толя Тилле, вздумал меня поддержать. Он напомнил, что лично видел, как я передал профессору свой реферат, и лично слышал, как я извинялся за то, что не успел его перепечатать. Назревал скандал. Скандал тем более острый, что я подтвердил упреки профессора, пытаясь оправдаться за свое «опоздание».
Бдительный Толя заподозрил неладное. Теперь он понял, что дело не в забывчивости, не в рассеянности профессора, а в чем-то другом. «Реферат был о национальных проблемах», — вспомнил он и такую подробность. «Нет!» — вырвалось у меня. «Как — нет?!» — мой выручатель чуть не задохнулся от гнева: ведь я действительно беззастенчиво врал, глядя ему в глаза. Тройников схватился за сердце. Семинар закончился, не начавшись.
На следующее утро меня вызвал к себе Голяков.
— Давайте сюда ваше сочиненьице, — с какой-то нарочитой усталостью тихо произнес он. — Давайте, давайте… Тройников мне все рассказал. — Он полистал рукопись. — Ну, где эта крамола?
Нашел сам, но читать не стал. Попросил секретаршу — благороднейшую Веру Ивановну — никого в кабинет не пускать. И зажег спичку. Минут через десять несколько страниц «крамолы» превратились в груду пепла, заполнившую просторную пепельницу директора. Он вытряхнул ее через форточку и завершил мизансцену коротким резюме:
— Пока Карл Иосифович будет болеть, напишите реферат на другую тему. Если вам не хочется сорвать защиту своей диссертации. Или чего похуже. А если хочется, то мы вам, естественно, мешать не станем.
Тем же вечером мама сказала: «Тебе тоже лучше всего заболеть. С глаз долой — это самое лучшее, что можно сейчас придумать». «Болея», я, однако, не лишил себя удовольствия, которое доставляла себе вся Москва. Прервал работу в «Ленинке» и пошел оттуда поблизости — в кино «Ударник» — смотреть «Тарзана». До такой степени увлекся сюжетом, что оставил на балконе после сеанса папку с почти написанной диссертацией.
Папка так и не нашлась. Второго экземпляра у меня не было — рукопись еще не побывала у машинистки. Пришлось все писать заново. Мне кажется, это пошло диссертации на пользу. Впрочем, в этой последней истории никто не виновен, кроме меня самого.
А Толя Тилле в старости вдруг обозначился. Всплыл из полного небытия.
Сын древней латышской большевички (кажется, так), он всегда отличался едкой иронией — ко всему и ко всем. Особенно доставалось коммунистическим штампам и всевозможным советским реалиям — он их вышучивал особенно хлестко и, главное, справедливо, нередко повергая меня в смущение: возражать было нелепо, соглашаться опасно. Наши пути разошлись давным-давно, я не видел его не то что годами — десятилетиями. Прочитал как-то в газете очередной разнос художников-нонконформистов, среди них без удивления нашел Толину дочь Алису: все правильно, гены есть гены, так и должно было случиться с дочерью такого отца…
И вот совсем уж недавно, с начала девяностых годов, мне стали попадаться пространные статьи доктора юридических наук Анатолия Тилле в «Правде» и «Советской России». Статьи вполне определенной направленности — в характерной стилистике этих газет. Во славу доктрин, которые так едко и непримиримо он когда-то вышучивал. И даже с призывами не отменять — еще того больше: активно использовать! — смертную казнь. После Синявского, Максимова и Зиновьева может ли кого-нибудь удивить еще один такой поворот?
До защиты диссертации меня не допустили буквально в последний момент — за день до срока, уже объявленного в «Вечерней Москве». Кто-то, прочитав объявление, видимо, подсуетился. Формальная причина: нигде не работает и имеет не снятый строгий выговор. Предстояло устранить обе эти причины. Сталина уже не было, Берии тоже, «врачи-убийцы» освобождены и признаны жертвами произвола — стало легче дышать. Второй строгач с меня сняли незамедлительно, не вдаваясь ни в какие подробности. И сразу же приняли в московскую адвокатуру: у кого-то из ее тогдашних начальников возникла неплохая идея создавать адвокатские «династии». Если существуют и пользуются общественным признанием потомственные сталевары, потомственные врачи, потомственные артисты, почему бы не быть и потомственным адвокатам? Для этой роли я как раз подходил по всем статьям: мать и отец, дед по матери и несколько дядей состояли в адвокатуре. Пришел и мой час.
Меня определили в юридическую консультацию у Земляного вала — далеко не самую престижную в сравнении с теми, что располагались в центре Москвы. Зато — всего лишь потому, что она находилась рядом с его домом, на улице Карла Маркса, — в ней работал самый легендарный из отечественных адвокатов того времени Илья Давидович Брауде. Он пожелал, чтобы я стал его помощником. Одним из… Но все же помощником. Оказалось: это большая удача.
Легендарным Брауде стал оттого, что он участвовал в двух Больших московских процессах — втором и третьем: в деле Пятакова — Радека защищал начальника Южно-Уральской железной дороги Князева, а в деле Бухарина — Рыкова — «убийцу» Горького и Макса Пешкова доктора Левина. За этими процессами следил весь мир, о них, естественно, писали и все советские газеты, имена «защитников», исправно выполнявших свою декоративную роль, тоже склонялись на все лады в публиковавшихся судебных отчетах. Другой возможности «попасть в печать» у советских адвокатов не было: эту профессию как бы не замечали.
Брауде считался адвокатом номер один не потому, что сподобился быть допущенным к тем кровавым сталинским действам, а — совсем напротив — ему оказали столь горькую честь как раз потому, что он и на самом деле был первоклассным адвокатом, обратившим на себя внимание еще до семнадцатого года, а в начале двадцатых уже гремевшим в скандальных уголовных процессах: пресса нэповских времен писала о них охотно и очень подробно. Его коньком была так называемая психологическая защита — то, что скорее подходило для суда присяжных, чем для подчинявшихся райкомам и прямому начальству бездушных советских судей. Изучать имеющиеся улики, их анализировать, давать им юридическую оценку — всему этому Брауде был совершенно чужд и, возьмись за такой анализ, выглядел бы, наверно, беспомощным и жалким. Зато там, где речь шла о сложных, запутанных человеческих отношениях, он был кум королю: буквально завораживал лишенных эмоций судей увлекательными рассказами о неведомых им душевных муках своих подзащитных, нередко добиваясь эффекта, который другим его коллегам был бы в советском суде не под силу.
Когда-то он сам сочинял книжицы про дела, в которых участвовал, — они выходили мизерными тиражами в двадцатые годы под названием «Из записок защитника», — но гораздо больше осталось в его черновиках, судьба которых мне не известна, и в тех устных воспоминаниях, которым он предавался, а я по глупости и лени не удосужился их записать.
Помню его рассказ об одном деле, где речь шла о загадочной смерти какой-то малозначительной артистки музыкальной комедии в начале двадцатых годов. То ли она самоубилась, то ли пала жертвой юного сожителя, покусившегося на ее бриллианты и инсценировавшего самоубийство. Дело это Брауде выиграл, сумев убедить судей в том, что бесспорных доказательств вины его подзащитного обвинение не представило. Детали в памяти не остались, но меня поразило, как даже в его пересказе спустя тридцать лет после событий он ловко сочетал тонкий психологический анализ с «социальной» терминологией и «классовым» подходом. Погибшая представала в его рассказе не столько жертвой трагической любви, актерской экзальтации и неутоленных желаний, сколько «продуктом капиталистических отношений и связанной с ними угарной ресторанно-опереточной обстановки». При всей их увлекательности, рассказы Брауде производили на меня и тогда странное впечатление — могу об этом судить хотя бы потому, что запомнились обрывки характеристик, данных им героям той драмы и обстановке, в которой она развивалась: «мелкобуржуазная богема», «мещанская идеология», «эксцентричность низвергнутого класса» — меня удивило использование таких речений не в письменном тексте и не в выступлении перед судьями, а в приватном, хоть и профессиональном, разговоре с молодым помощником. Но он вжился в нее, в эту терминологию, она вошла в привычный его лексикон, и он уже не ощущал той опостылевшей демагогичности, которой она отличалась.
Другое дело, о котором он мне рассказывал, было еще более экзотичным, и я не сразу поверил в его достоверность, — пока сам не столкнулся с похожим (ему посвящен мой рассказ «Второе дыхание»). Весьма обеспеченная и хорошо образованная адвокатесса средних лет (разумеется, «представительница крупного капитала из буржуазной семьи») влюбилась в своего очень молодого клиента-рабочего, отличавшегося не большими познаниями, а неистощимой физической силой. Ради этого были заброшены «хлюпик-муж» — «немощный попутчик рабочего класса» — и «партийная среда», в которой супруги проводили свободное время. В перерывах между страстями породистый самец глумился над «недорезанной буржуйкой» и однажды, не сумев сдержать своей ярости, проткнул возлюбленной пальцем левый глаз. За членовредительство, несмотря на пылкую речь Брауде в защиту «несдержанного пролетария», был осужден — совсем не сурово: к двум годам лишения свободы. Не отбыв и одного, вернулся на волю и сочетался с одноглазой возлюбленной законным браком: приворожила она его все-таки темпераментом и эрудицией. Брауде носился с идеей сделать из этой истории для кино криминальную мелодраму, хотя и сам понимал всю утопичность своего дерзкого замысла.
Наше деловое сотрудничество длилось всего полтора года — вскоре Илья Давидович умер. Но за это время мы участвовали с ним в нескольких делах: одному я посвятил рассказ «Мертвый узел», о другом никто никогда не писал, хотя в наше время, случись нечто подобное, эта бытовая драма стала бы предметом множества телепередач и газет-но-журнальных публикаций.
Забыл имя героини, но хорошо помню ее необычную фамилию: Таланкина-Крылова. Сухощавая, угловатая, с выпиравшими из-под туго натянутого платья ключицами дама лет пятидесяти, издали похожая на переростка, которому тесно в детских одеждах. Длинная коса через плечо и нечто похожее на гимназический передник еще больше подчеркивали ее «детскость». При близком рассмотрении, однако, все опрокидывалось навзничь: миловидное лицо представало зловещей маской из-за плохо подтянутых складок и кустарно заштукатуренных морщин, а стройный торс — обтянутым кожей скелетом. Симпатичный подросток моментально превращался в Бабу-Ягу.
У нее не было никакой определенной профессии, разве что такая: перманентно чья-то жена. Число ее браков — юридических и фактических (браков — не связей) — подбиралось чуть ли не к двум десяткам. Попутно она баловалась участием сначала в кордебалете каких-то третьестепенных трупп, потом в различных театральных и киномассовках, что давало ей основание именоваться актрисой. И действительно — вызванная на процесс свидетелем, по ее просьбе, Клавдия Петровна Шульженко называла знакомую ей Таланкину «артисткой, которой не повезло», и отмечала ее «отзывчивость, скромность, даже девичью застенчивость». Пожалуй, в каком-то смысле та и была артисткой, хоть и не очень застенчивой, — это видно из того, как сыграла она свою коронную роль, приведшую ее на скамью подсудимых.
«Жарким летним днем», как написали бы в каком-нибудь сентиментальном романе, ехала наша Таланкина на электричке, направляясь вроде бы на подмосковное кладбище, где была похоронена ее единственная, очень рано умершая дочь Злата. И в том же, битком набитом вагоне ехал морской офицер, красавец двадцати четырех лет, имея совсем иную — не печальную, а счастливую цель: на даче, в лесу возле озера, его ждал известный в стране адмирал, под чьим началом он несколько лет служил. Юная дочь адмирала была его невестой, а недели через две должна была стать и женой.
Никто не знает в точности, что именно произошло в те полчаса, которые капитан-лейтенант Виктор и актриса (пусть так!) Таланкина провели, очень тесно общаясь друг с другом, на «борту» электрички. Итогом явилось то, что вместо обеда у адмирала он оказался на детской могиле, где оставил записку, воткнув ее в холмик (коряво нацарапанная и полуистлевшая, она тоже попала потом в судебное дело): «Дорогая Златочка! Клянусь тебе всегда любить твою замечательную мать и быть ей верным до гроба. Виктор».
Тем же вечером он приступил к исполнению этой клятвы, о чем в дневнике, который исправно вела Таланкина, была сделана подробная запись. Впоследствии дневник тоже приобщили к судебному делу в качестве вещественного доказательства. На правах помощника адвоката я имел возможность с ним ознакомиться. Это было первое прочитанное мною откровенно эротическое сочинение с довольно искусно выписанными натуралистическими подробностями — они свидетельствовали как минимум об одном: в порыве безумной страсти авторесса ни на минуту не теряла контроля над собой и дотошно фиксировала в памяти всю феерию их любви. У дневника был эпиграф — из Игоря Северянина: «Для изысканной женщины ночь — всегда новобрачная…»
В деле (а может быть, в моей памяти?) не осталось никаких следов, которые помогли бы понять, как адмирал реагировал на внезапное исчезновение своего без пяти минут зятя. Где вообще служил офицер и хватился ли кто-нибудь, обнаружив его пропажу? Таланкина укрыла Виктора в какой-то развалюхе в Марьиной Роще — в комнате без удобств с наглухо задраенными окнами. Там они предавались любви, о чем она педантично делала ежедневные записи в своем дневнике. Уходя за продуктами, замыкала его на ключ.
Как коротал он долгие часы одиночества — при свете всегда горящего ночника? О чем думал, долгими неделями, не видя солнца, которым в то лето наслаждалась Москва? Про это в дневнике Таланкиной нет ни единого слова. Зато есть много о том, какими, неведомыми ему дотоле, утехами забавляла она его, предварительно накормив калорийной едой. Много позже я понял: все ее экзотические приемы были заимствованы из «Кама-Сутры», тогда еще никому у нас недоступной. Никому — кроме Таланкиной…
Через какое-то время его терпению пришел конец. Виктор потребовал воли — хотя бы для того, чтобы «немного подышать». Блистательный офицер таял на глазах. Уже не только ночами, но и днем его душил кашель. Ей показалось, что начинается туберкулез: она встревожилась не за него — за себя. Милостиво разрешила показаться врачам. Следила исподтишка за его передвижением по городу и однажды обнаружила, что он заходит не только в поликлинику — еще в какой-то многоэтажный дом. Как и во всяком доме, там скорее всего проживали и молодые дамы. Ее фантазии хватило, чтобы додумать, кого бы он мог навещать и чем это может закончиться. К тому же его бурная страсть резко пошла на убыль: оба эти события она связала одно с другим. И приняла решение.
Впоследствии дотошный следователь, найдя при обыске читательский билет Таланкиной в Ленинскую библиотеку, поработает там несколько дней — в отделе, где хранились листки с заказами на книги, и найдет то, что искал. Круг интересов артистки в этот период оказался весьма специфичным: она углубилась в сочинения по фармацевтике, изучая все, что написано там о ядах. В двух местах на полях книг сохранились даже пометки: экспертиза установила, что они были сделаны ее рукой. К тому же (случается и такое!) именно эти книги, кроме нее, вообще не заказывал несколько лет ни один читатель.
Легко догадаться о том, что было после. Труднее — о том, что было после этого «после». «Ты клятвопреступник! — восклицала она, когда Виктор, отравленный какой-то безумной смесью, уже корчился в агонии, утратив способность даже кричать. — Ты обманул мою Златочку! Я имею теперь полное право тебя убить!» Никто не слышал этих слов — она сама записала их в своем дневнике. Записала и то, что случилось потом, когда, после адских мучений, Виктор уже погиб.
Она заранее готовилась и к этому. Самым обыкновенным топором Таланкина отрубила его голову и завела на патефоне предварительно купленную пластинку: танец Саломеи из оперы Рихарда Штрауса. Она исполняла его на каком-то просмотре при поступлении в балетную труппу. Теперь в ее руках был не реквизит, не муляж — истинная голова истинной жертвы… Ночью она закопала ее под окном той развалюхи, где прошли их бурные дни и ночи. Обезглавленный труп вывезла за город — на какую-то свалку. И вскоре была арестована: как поиск привел именно к ней — это большого интереса не представляет.
У Таланкиной не было никого, кто мог бы пригласить для нее адвоката. А он — по процедуре — ей полагался: в таких случаях его бесплатно предоставляла коллегия. Узнав про телефонограмму из городского суда и — в общих чертах — о рассказанном выше сюжете, Брауде потребовал, чтобы защита была поручена только ему. Все свои самые знаменитые дела он вел, так всегда получалось, совершенно бесплатно. Но они-то и приносили ему ту известность, которой неизменно — в куда более заурядных делах — сопутствуют деньги.
Другого подобного процесса мне видеть не приходилось. Не столько по существу, сколько по атмосфере, царившей в зале. Председательствовала одна из старейшин советской «юстиции», член Мосгорсуда Чувилина, обвинял один из самых известных в то время прокуроров Николай Шанявский. Народу слетелось видимо-невидимо, за отсутствием мест многие расположились прямо на полу, на ступеньках, ведущих к судейскому столу, и даже рядом с Таланкиной — на скамье подсудимых, слишком просторной для этого дела, рассчитанной не на одного, а на несколько обвиняемых. Непосвященный мог сразу и не разобрать, кто на этой скамье подсудимый, а кто просто зритель. Значительную часть этих зрителей составляли студенты медицинского института — их привела с собой профессор Фелинская, знаменитый специалист по судебной психиатрии: она выступала в роли эксперта.
В своем гимназическом наряде, с косой через плечо, Таланкина чувствовала себя актрисой на сцене — кому-то томно улыбалась, кому-то посылала воздушные поцелуи. Я сидел рядом с Брауде, спиной к ней: оборачиваясь, видел ее — казалось, силком натянутую на череп — зловещую маску и запавшие голубые глаза с густо намазанными тушью ресницами. В перерыве проникшиеся ко мне симпатией девочки-секретарши, хихикая, провели меня в какой-то подвальный чулан, где хранилось еще одно вещественное доказательство: оно фигурировало в материалах дела, но не выставлялось напоказ в зале суда. Это был заспиртованный в банке пенис несчастного Виктора: до самого ареста Таланкиной он служил главным украшением того закутка, где свершилось убийство и где она продолжала жить.
На этом процессе Брауде чувствовал себя в своей стихии. Излюбленным методом его защиты были аргументированные ходатайства о признании подсудимого невменяемым. Он и диссертацию написал об этом — о том, как психическая болезнь освобождает совсем от ответственности или делает ее менее суровой. Это много позже «психушка» стала пострашней лагеря и тюрьмы — от карательной медицины старались избавиться все, кому ее навязывали спецслужбы. А в те, более ранние времена психиатрическая клиника с полным к тому основанием считалась избавлением от куда большего зла. Адвокат, которому удавалось так повернуть дело, чтобы его клиента поместили в психушку, считал себя победителем. И действительно был таковым.
В деле Таланкиной эта позиция напрашивалась сама собой. Но профессор Фелинская спутала все карты защиты. Очень яркая, эффектная, крупная, с несомненным ораторским даром, она убедительно доказывала, что в данном случае речь идет об имитации душевной болезни очень опасным для общества, предельно развращенным и извращенным во всех отношениях человеком. Давая заключение, она обращалась не столько к суду, не столько к прокурору и адвокату, сколько к залу — к своим студентам, не сводившим с нее восхищенных глаз и покрывшим ее страстную речь бурными аплодисментами. Особо восторженных пришлось выводить из зала. Увлекшись этим занятием, конвой на какое-то время оставил Таланкину одну, и она свободно обошла несколько приглянувшихся ей мужчин, многозначительно и благодарно пожимая им руки. Потом ее возвратили на отведенное ей место — процесс продолжался.
Последовал еще один неожиданный поворот: получив слово для обвинительной речи, Шанявский произнес то, что никогда еще не звучало в зале суда и не было предусмотрено никаким законом. Он сказал, что не может позволить себе обвинять человека, которого он убежденно считает душевнобольным. Но и отказаться от обвинения при наличии экспертного заключения о вменяемости подсудимой не может тоже. Ему не остается ничего другого, как отказаться от речи и от дальнейшего участия в процессе.
С этими словами, на глазах у обескураженных судей, Шанявский поднялся и, опираясь на палку (он сильно хромал), проковылял к двери.
Вот тут-то и наступил для Брауде его звездный час. Оппонентом осталась одна Фелинская. Но в отличие от прокурора, она — эксперт — не имела права на ответную реплику. Единственное (оно же последнее) слово сохранялось за адвокатом. Он мог говорить все, что хотел, — Фелинской довелось лишь молча слушать его и сардонически улыбаться.
Брауде ухватился за одно наиболее слабое место в речи Фелинской: она утверждала, что, подробно излагая в дневнике хрестоматийные симптомы своей мнимой душевной болезни, Таланкина, напротив, демонстрирует критическое к себе отношение, «взгляд со стороны», а это является признаком душевно здорового человека. «В том, что несведущим людям кажется свидетельством болезни, — восклицала Фелинская, — специалисты легко усматривают симуляцию». Процитировав этот пассаж из ее выступления, Брауде впился в Фелинскую цепким взглядом и, хорошо зная, что ответить ему она все равно не сможет, стал шпынять ее риторическими вопросами.
— Значит, Достоевский не страдал эпилепсией? Он же детально воспроизвел все ее симптомы в «Идиоте». А у Мопассана не было раздвоенного сознания, не было мании преследования, он не страдал кошмаром галлюцинаций? Значит, он все это попросту симулировал, раз сумел написать «Орля» и с беспощадной точностью воспроизвести все признаки своей болезни? тогда, выходит, и у Есенина не было никакой белой горячки, если он точнее и лучше всякого психиатра воспроизвел ее симптомы в «Черном человеке»? Вы мне скажете: эвон, куда хватил! Причем тут Таланкина — рядом с Достоевским, Есениным и Мопассаном? Но у нас ведь не урок истории литературы, а — волей-неволей, нас
вынудила к этому профессор Фелинская, — урок психиатрии. Для врача нет и не может быть писателей и балерин — есть только больные. И если больные имеют элементарный багаж знаний, если они еще не дошли до полного распада сознания, то они остаются способными описывать свои переживания. Одни — гениально, как это сделали названные мною классики. Другие — в меру своих ординарных способностей, как это сделала Таланкина. Ваша карта бита, профессор, как сказал один герой одной повести пера одного писателя.
Аплодировать было некому. Но (возможно, мне так показалось) непререкаемый авторитет Фелинской в глазах ее студентов чуть-чуть пошатнулся. Во всяком случае, Брауде заставил их о чем-то задуматься и подвергнуть критическому анализу то, что считалось бесспорным. Но судью он не заставил задуматься ни о чем. На итог процесса блестящий его монолог влияния не оказал.
Таланкину осудили на десять лет и отправили в какой-то уральский лагерь. Помнится, Брауде говорил мне, что получил от нее из лагеря одно сумбурное письмо, содержание которого осталось для меня неизвестным. Вскоре он умер — рухнул внезапно, едва перевалив через семидесятилетний рубеж. На похоронах я увидел Чувилину — она принесла букет хризантем и, ни с кем не обмолвившись ни единым словом, ушла.
А еще через несколько месяцев к ней, в служебный ее кабинет, явилась Таланкина: все такая же Баба-Яга, но со здоровым румянцем на впалых щеках. Уральские эксперты признали ее душевнобольной, и, чтобы не затевать многосложный новый процесс, местная Фемида пошла по кратчайшему пути: тамошние судьи «сактировали» ее, то есть освободили от дальнейшего отбытия наказания по состоянию здоровья — тогда это часто практиковалось «для разгрузки колоний».
Счастливая Таланкина расцеловала Чувилину, долго благодарила за внимание к ней, уверяла, что в восторге от того, как прошел судебный процесс, кляла Фелинскую и всплакнула о Брауде. Она просила вернуть дорогие ее сердцу реликвии — дневник и заспиртованный пенис, — поскольку для правосудия они уже значения не имели. Чувилина сразу же выразила готовность выполнить обе просьбы и, оставив ее в кабинете под присмотром своей секретарши, пошла за «вещдоками» — а точнее, в соседнюю комнату, чтобы вызвать по телефону конвой. Взяла на себя смелость действовать незамедлительно, полагая, что уральский суд нарушил закон, ее приговор никем не отменен и, стало быть, оставаясь в силе, должен быть исполнен.
«Беглянку» вернули в лагерь — только в другой. Годы спустя, столкнувшись с Чувилиной в Мосгорсуде, я напомнил ей ту историю и спросил, каким было ее продолжение. Этого она не знала, зато объяснила, каким образом наша актриса оказалась временно на свободе. Она влюбила в себя и начальника «учреждения», где отбывала наказание, и старшего по должности врача из медчасти. Несколько месяцев обучала их таинствам любви, о которых в своей глухомани они не имели ни малейшего представления.
Остальное было уже делом техники. Тем паче, что, порабощенные ее магнетизмом, два мужика воспылали ревностью друг к другу, но вовремя спохватились, трезво сообразив, что от этой колдуньи лучше избавиться как можно скорей. К тому же, плотно пройдя у нее курс обучения, каждый из них — без хлопот и угрозы тяжких последствий — мог найти себе и другие объекты для тех же утех.
Еще одно памятное мне дело было не столь экстравагантным. Трагическим — в полном смысле этого слова. И очень характерным — по глубинной своей сути, в которую никто не хотел и не смел проникать, — для времени, когда все это произошло. Брауде защищал подростка, убившего своего отца. Фамилию мальчика — С-в — помню отлично, но не назову: сегодня ему где-то под шестьдесят, надеюсь, он здравствует и вряд ли желает огласки.
Подобных дел в практике Брауде и раньше было немало, все они походили друг на друга не только фабулой, но и мотивами преступления. Одна и та же модель: самодур-отец, издевавшийся над женой, над другими своими детьми, над тем, кто потом стал его убийцей…
Дело С-ва отличалось, однако, деталями, отражавшими горькие реалии военных годов. На отца-солдата в сорок втором пришла похоронка — пять лет мать одна поднимала троих малолетних детей. В сорок седьмом вышла замуж тоже за бывшего воина — вся семья его погибла в Смоленске от немецких фугасов. Чуть подросшие дети новой жены стали ему родными и даже — не сразу и с робостью — назвали его отцом. Появился в семье и четвертый ребенок, получивший имя того, кого считали погибшим. И тут «погибший» вернулся: плененный, он прошел сначала фашистский, потом и советский лагерь. «Прощен» еще не был, но свободу обрел.
Второй отец тотчас и безропотно уступил место собрату и товарищу по несчастью. А первый мстил самым близким — любимым и любящим — за все то, что пережил. С каждым днем издевательства становились все изощреннее. Мать и дети каждый вечер был и обязаны на коленях просить у него прощения неизвестно за что, после чего он приступал к экзекуции. Помещенные в папку с делом фотоснимки, запечатлевшие на теле жертв следы его солдатского ремня и солдатских сапог, повергали в отчаяние. Это было зрелище не для слабонервных.
Девочки мучились, но терпели. Мальчик не смог. После очередного «сеанса», когда мать без сознания валялась на полу, сестры от боли уже не кричали, а только скулили, он ударил вдымину пьяного отца табуретом по голове, а потом добил тяжеленной пряжкой того же ремня, которым отец остервенело учил его «справедливости». И сразу же вызвал милицию.
Перед старым российским судом присяжных в чем-то похожие дела проходили не так уж редко — в этой похожести, видимо, была какая-то печальная закономерность. Сопряженная не только с общественными процессами и чрезвычайными событиями внешнего порядка. Исход таких процессов был всегда только один: присяжные выносили оправдательный вердикт, — разумеется, если защитник сумел пробудить в них сочувствие к преступнику, который на самом деле тоже был жертвой. В советском суде такой финал заведомо исключался: ведь судьям было предписано судить не «по совести», а «по закону». Закон же оправдания для убийц, чем бы ни было продиктовано ими содеянное, не предусматривал. Аналогом оправдания считалось условное осуждение. Этого Брауде и добивался.
Судил Иван Михайлович Климов, тоже из ветеранов, судья с аскетически мрачным, непроницаемым лицом и с голосом настолько тихим, что до меня порой долетали только обрывки его вопросов. Привыкший к этому Брауде вообще ничего не слышал, но непостижимым образом безошибочно угадывал произнесенный Климовым текст. Зато прокурором выступала хрупкая седая женщина, могучему голосу которой мог бы позавидовать любой митинговый оратор. В тридцатые, а особенно в двадцатые годы имя Анны Моисеевны Гозман беспрерывно мелькало в печати: она выступала обвинителем в самых громких делах. Бытовых, а не политических. Вместе с Брауде они составили прекрасный дуэт — непонятно было только одно: кто же из них настоящий защитник. Гозман, в сущности, тоже не обвиняла, а защищала, не скупясь на осуждение того, кто был истинным виновником этой беды.
И все же Брауде был корректнее и тоньше: о случившемся он говорил как о величайшей трагедии — отзвуке войны, искалечившей многие души и судьбы. «Между строк» читалось гораздо большее — осуждение тех, кто обрек миллионы пленных страдальцев на дополнительные мучения, окончательно их доломавшие. Оттепель еще не наступила, но ее близящийся приход уже ощущался, Брауде успел его уловить и откликнуться, пока еще очень робко, на вступление страны в новые времена.
С-ву определили три года условно. Потом мне кто-то рассказывал, что будто бы он даже стал студентом Института международных отношений. Возможно и это, хотя верится слабо: ведь и при условном осуждении судимость за ним сохранялась, а она, пусть формально впоследствии снятая, не могла не испортить анкету.
Лебединая песня Ильи Давидовича Брауде на адвокатской трибуне глубоко запала мне в душу. Помню и блистательный ход, который он нашел для финала своей речи. Нет, он не просил ни о снисхождении, ни об условности приговора. Напротив, он чуть ли не взывал к максимальной суровости! Только мастер своего дела мог отважиться на подобный прием.
— Факт доказан, притом с непреложностью: С-в совершил тягчайшее преступление. Убил сознательно и жестоко. Убил чудовище — озверевшего, потерявшего человеческий облик садиста, но — отца! Несчастного безумца, представлявшего опасность для окружающих. Судите подростка по всей строгости — вы не ошибетесь. Но ваш приговор, каким бы он ни был, — сущий пустяк в сравнении с тем кошмаром, на который сам С-в себя обрек. До конца своих дней он не сможет забыть, что убил отца, его породившего, оставил сиротами любимых сестер, спас от побоев, да, спас, но и сделал страдалицей мать, которая в свои тридцать шесть — взгляните, пожалуйста, на нее — уже выглядит глубокой старухой. Чем вы можете еще его наказать? Мукой физической? И только? И только! А мукой душевной он наказан уже, притом навсегда, и этот суровейший приговор не сможет смягчить даже Верховный суд. Теперь решайте. Судите. Исполняйте свой долг.
Вот такую речь записал я за Брауде — точнее, ее финал. Кажется, это было последнее его дело. Но мои воспоминания о нем этим не завершаются.
Мне очень хотелось его расспросить о самых громких процессах, участником которых он был. Тома стенографических отчетов были в нашей домашней библиотеке, я читал их взахлеб по нескольку раз, хотя мама просила меня «не увлекаться». Она не хотела входить в их подробное обсуждение, а в мой критический взгляд не особенно верила, да, наверно, его же боялась, зная, что особая сдержанность за сыном ее не водилась. У меня была к Брауде уйма вопросов, но задать хотя бы один я не решался, даже часто оставаясь с ним наедине у него дома — в квартире на улице Карла Маркса. Случай представился неожиданно — и не по моей инициативе.
Пришло сообщение о смерти Вышинского. Мрачный, погруженный в себя, Брауде пробормотал: «Человек, который знал все». Несколько недель спустя мы возвращались с ним после какого-то судебного процесса, и он, оглядываясь по сторонам, вдруг прошептал: «Прошло семнадцать лет, а я и сейчас помню все репетиции…» Сбивчиво, обрывистыми, короткими фразами он рассказал о том, как в кабинете Вышинского репетировали бессмысленные вопросы «защиты» экспертам-медикам, которые должны были подтвердить на публичном процессе обвинение подсудимых в убийстве Менжинского и Куйбышева, Горького и его сына Макса. Отрепетировав вопрос и уточнив, когда именно он должен быть задан, Вышинский строго предупредил: «Смотрите в этот момент на меня». — «Почему?» — не понял я. «Он обладал гипнотической силой. Видя его глаза, я съеживался, как кролик перед удавом». И Брауде — тучный, рыхлый, с тяжелой одышкой — съежился так, что я почти физически ощутил на себе магическую силу взгляда всемогущего прокурора.
При работе над делом Таланкиной, где Брауде готовился обнажить скрытый от посторонних глаз механизм любовных страданий, я воспользовался случаем, чтобы вроде бы невзначай напомнить о «роковой страсти» Ягоды к невестке Горького Тимоше, подвигнувшей влюбленного монстра на убийство соперника — законного мужа. Судя по «стенографическому отчету», о подробностях этого любовно-политического убийства Ягода рассказал на закрытом заседании суда, где, как лапидарно сказано в отчете, подтвердил, что убийством Макса преследовал «также личные цели».
В надежде узнать что-то конкретное про эти цели, я и осмелился спросить Брауде, о чем же все-таки шла речь на том закрытом заседании. Я заранее был уверен, что Брауде от ответа уклонится, сославшись на запрет раскрывать «секреты». Но он сказал нечто совершенно непостижимое: «В этом заседании я не участвовал».
Адвокат не участвовал в заседании суда?! Тем более тот, кто защищает подсудимого (доктора Левина), прямо причастного к эпизоду, ради обсуждения которого двери суда были закрыты для публики?! Больше расспрашивать Брауде я не мог. Вопрос повис в воздухе.
Теперь я сопоставляю его ответ со всем, что известно из других достоверных источников, и укрепляюсь в сомнении: да состоялось ли оно вообще — это «закрытое» заседание? Ведь никакого стенографического отчета и даже краткого протокола этого заседания, как несколько лет назад свидетельствовал А.Н. Яковлев, в архиве не обнаружено.
Сделать такой вывод можно было бы, сопоставляя всего лишь письменные источники. Но признание прямого свидетеля мне представляется аргументом важнейшим. Могу лишь пожалеть, что оказался столь щепетильным (если точнее — растяпой) и не выжал из Ильи Давидовича еще хотя бы одну (а если и больше?) существенную деталь. От другого последнего могиканина (с ним я был в гораздо менее близком контакте), адвоката Сергея Константиновича Казначеева (он участвовал во втором московском процессе, известном как дело Пятакова — Радека), я совсем случайно, как бы ненароком, узнал, что адвокаты ни одного тома дела в руках не держали, понятия не имели об их содержании, а располагали только опубликованным в печати обвинительным заключением. Догадаться можно было и об этом, но насколько ценнее прямое свидетельство, полученное опять-таки из первых рук!..
В адвокатуре я застал еще несколько корифеев, сохранившихся с тех далеких времен, когда их работа уголовных защитников имела реальный, порой даже очень немалый, смысл. Самым видным из них был Матвей Александрович Оцеп — его знал еще Ленин. Знал потому, что Оцеп защищал (если точнее: искренне думал, что защищает) Романа Малиновского, члена ЦК большевиков, депутата Четвертой Государственной Думы и платного полицейского агента. Скорее всего: двойного агента — полицейского в стане большевиков и большевистского — в недрах полиции. На инсценированном процессе осенью 1918 года присутствовал Ленин, слушал речь молодого юриста и претензий к ней не имел. Семь лет спустя Оцеп защищал другого разоблаченного агента — Ивана Окладского, предателя своих друзей из «Народной воли». Безотносительно к результату, речь его безупречна — отмеченная тонким психологизмом, она доставит удовольствие каждому, кто к ней обратится. Воспринимая ее не столько как нечто утилитарное, а как произведение «чистого искусства».
Вообще же Матвей Александрович тяготел не к художественному, а научному анализу — те его речи, которые мне удалось слышать, отличались множеством ссылок на разные теоретические труды и стилизованной философской лексикой. Не очень ясно представляю, какую пользу его клиентам это могло принести в кондовом советском суде. Но репутация у него была безупречная, коллеги с полным к тому основанием считали его непререкаемым авторитетом.
Имена этих коллег уже всеми забыты, но иные из них заслуживают благодарной памяти. И еще — глубокого сожаления: из-за того, что не дожили до времен, когда адвокаты и в суде, и в обществе стали, наконец, играть достойную роль, а их потенциал мог бы развернуться в полную меру. Софья Васильевна Каллистратова, Леонид Захарович Катц, Леонид Александрович Ветвинский, Виктор Григорьевич Викторович, Константин Дмитриевич Чижов, Наум Максимович Фляге, Николай Петрович Белов, Яков Семенович Киселев, Василий Александрович Самсонов и, конечно, более молодые, успешно работающие и сейчас, Татьяна Георгиевна Кузнецова, Таисия Григорьевна Лемперт — каждый из них, сам о том не ведая, укрепил во мне уважение к нашей обшей профессии, которая никогда не казалось мне службой и всегда — служением…
Глава 6.
Продажа поштучно
Среди преподавателей Института внешней торговли был человек, который не относился к числу стариков-корифеев, но оставил в моей памяти незабываемый след. Профессор Серафим Александрович Покровский читал курс истории русского государства и права — читал с такой увлеченностью, которая не могла передаться разве что полным тупицам. Таковых, по счастью, на моем курсе было немного. А, возможно, не было и совсем. Оттого чуть ли не каждую его лекцию сопровождали аплодисменты, которых, похоже, он ждал, завершая очередной свой рассказ какой-нибудь эффектной концовкой и непременно за полминуты до перерыва.
Он принимал восторги как должное, его козлиная бородка тряслась от смеха, глаза небесной синевы хитро блестели, быстрым движением он откидывал назад копну чуть тронутых сединой волос и подводил итог овациям заготовленным, видно, заранее латинским афоризмом, никакого отношения к содержанию лекции не имевшим. «Omnia mea mecum porto», или «Sic transit gloria mundi», или «Sapienti sat», или что-нибудь еще, столь же банальное, но производившее впечатление мнимым глубокомыслием. Серафим был искусным оратором и рассказчиком Божьей милостью, эрудитом и острословом…
Особый шарм его лекциям придавало не столько их содержание и даже не форма, в которую то облекалось, сколько личность профессора — уже и тогда ее окружала какая-то тайна. На лекциях его коллеги Исая Борисовича Миндлина, внедрявшего в нас с ничуть не меньшей увлеченностью диамат и истмат, имя того же Покровского произносилось уже в ином контексте. Это ему, «тов. С. Покровскому», были адресованы ответы Сталина на письма вождю, первый из которых стал достоянием гласности еще в 1928 году. Со свойственной ему прямотой вождь утверждал, что его адресат «сбился на обывательскую точку зрения», что он «побил все рекорды „диалектического“ крючкотворства», что он «извивается и заметает следы», является «политическим обывателем» и «самовлюбленным нахалом». «Надо обладать нахальством невежды и самодовольством ограниченного эквилибристика, — завершал товарищ Сталин свой второй ответ, — чтобы так бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами, как делаете это Вы, уважаемый Покровский».
Человек, удостоившийся подобных сталинских характеристик, притом не где-нибудь, а в настольной книге каждого советского гражданина, вроде бы должен был не витийствовать в институте «особого типа», к которому, несомненно, принадлежала наша кузница заграничных кадров, а — при лучшем исходе — отбывать срок в заведениях тоже особого, но принципиально иного типа. В том немыслимом парадоксе, с которым мы реально столкнулись, заключалась не только загадка, но еще и зримое доказательство советского гуманизма и социалистической справедливости: получалось, что инакомыслие, если с ним не сопряжена никакая измена, вполне правомерно в нашей свободной стране и наказанию не подвержено.
Мой ответ на экзамене пришелся, как видно, ему по душе. Он не только увенчал его жирной пятеркой в зачетной книжке, но и крепко пожал мне руку, сверкнул голубыми глазками и, конспиративно оглянувшись по сторонам, шепнул в самое ухо: «Далеко пойдете, товарищ!».
Из института он вскоре исчез, и несколько лет мы с ним не встречались. У него была цепкая память на лица — он сразу узнал меня несколько лет спустя, когда мы столкнулись с ним в фойе Большого театра: как оказалось, он был еще и страстным балетоманом, а я ходил без разбора на любые спектакли, если случалось достать билет.
Он помнил почему-то мою фамилию и даже знал, что меня уже вытурили из института, где я так искренно ему аплодировал за его блестящие лекции. Я уплетал в буфете бутерброд с копченой колбасой, запивая его лимонадом, а Покровский с женой Людмилой Васильевной приобщались к шампанскому и дружно звали меня «захаживать запросто в гости». Возвратившись домой, я поведал маме о столь лестном для меня приглашении, но это известие почему-то ее взволновало: она подозрительно относилась к любой попытке сближения с кем бы то ни было, если стремление к контакту естественно не вытекало из предыдущих общений.
Мы встречались еще несколько раз — в Большом и в консерватории (он был к тому же и меломаном), но чаще в ресторане Дома журналистов, который летом располагался в уютном дворике, где каждый стол был отделен от другого миниатюрным барьерчиком, создававшим иллюзию уединения. В обеденные часы я любил иногда забегать в этот престижный и вкусный «нарпит», куда вход был открыт для всех, а цены вполне доступны. Среди завсегдатаев я почти непременно встречал там бражничающего профессора (глаза маслянисто блестят, салат застрял в бороде, волосы поредели и торчат во все стороны) — непременно в обществе застенчивого, интеллигентнейшего Вали Лившица, недавнего еще аспиранта Института права Академии наук, блистательно защитившего кандидатскую, которая — так утверждали его оппоненты — полностью отвечала критериям докторской. Но работы в Москве для него, однако же, не нашлось — с величайшим трудом Вале удалось стать сотрудником горьковского филиала заочного юридического института и, тоскуя по привычной среде, он часто наведывался в Москву.
С Валей я не был близок, но наши матери были знакомы отлично: его мать, профессор Софья Евсеевна Копелянская, самый крупный в то время специалист по правовой охране детства, работала в двадцатые годы вместе с Вышинским — в бытность того заместителем наркома просвещения. Вся служба знаменитого тогда «охматмлада» (охраны материнства и младенчества) была создана и организована при ее ближайшем участии, а умерший (или расстрелянный?) к тому времени Валин отец входил в число преуспевающих московских адвокатов. В стойком дуэте Покровский — Лившиц я не видел ничего странного: два эрудита имели, наверно, множество тем для бесед.
Заглянув очередной раз «на борщ» в любимый Домжур, я снова увидел нашего Серафима, смачно уплетающего шашлык. Глаза блестели плутовато и весело, лицо раскраснелось, в козлиной бородке с проседью застряли кусочки лука. Он щедро наливал вино своему сотрапезнику — им снова был Валя Лившиц. Очень толстые стекла очков скрывали его взгляд, Я помахал рукой профессору, но удостоился лишь кивка.
Боже, как я был удручен: меня не позвали на пир к эрудитам! До чего же мне повезло: меня не позвали…
Финал последовал быстро. В октябре 1952 года Валю в Горьком арестовали, этапировали в Москву и уже 31 декабря преподнесли новогодний подарок: смертный приговор за намерение убить товарища Сталина — еще при советской власти, а всех коммунистов без исключения (стало быть, и себя самого) — после ее свержения. Нетрудно догадаться, что основным и единственным уличителем был профессор Покровский, чистосердечно поведавший о том, что во время застолий ему «доверил как другу» затаившийся враг Валентин Лившиц.
В новогоднюю ночь я мчался на центральный телеграф подавать слезную телеграмму Софьи Евсеевны стойкому заступнику всех обиженных и ее бывшему шефу по Наркомпросу Андрею Януарьевичу Вышинскому. Такие же телеграммы ушли на имя сталинского помощника Поскребышева, председателя Верховного суда СССР Волина и других столь же чутких товарищей. В камере смертников Валю продержали более месяца и 6 февраля, когда все инстанции подтвердили полную обоснованность приговора, наконец, казнили.
А еще через месяц пришли за самим Покровским. В ту ночь, когда умер тиран, Лубянка провела массовые аресты особо важных сексотов: ситуация могла повернуться любой стороной, разумная предосторожность никогда никому не мешала, список избранных арестантов на «день Икс» был составлен заранее. (В ту же ночь, кстати сказать, были арестованы поэт Александр Коваленков, директор-распорядитель МХАТа Игорь Нежный и многие другие товарищи, хорошо известные в ту пору литературно-театральной Москве.)
Прошли годы, прежде чем я смог прочитать дело жертвы и дело его палача, едва не загремевшего вслед за Валей. Едва — потому что времена уже изменились, и, отмучившись в Бутырке чуть более восьми месяцев (с правом получать из тюремной библиотеки не более трех книг в декаду — этот куцый духовный рацион он дважды обжаловал по начальству), профессор был выпушен с дивной формулировкой, предложенной военной прокуратурой: «Принимая во внимание, что Покровский как секретный сотрудник органов НКВД-МГБ разоблачил ряд лиц, враждебно настроенных к существующему в СССР государственному строю… из-под стражи освободить».
Арестованный еще в январе 1934 года за «троцкизм» и сосланный в Башкирию на три года, Покровский (цитирую постановление, вернувшее ему свободу в 1953 году), «отбывая ссылку, по личной инициативе обратился в Белебеевское РО ОГПУ Башкирии с заявлением об антисоветской деятельности ссыльных троцкистов и тогда же был завербован в качестве агента. По возвращении из ссылки Покровский продолжал разрабатывать троцкистов и правых…»
«Разрабатывал» он их так успешно, что один за другим те исчезали в лубянских подвалах. Среди наиболее известных его жертв — крупный цекистский функционер Алексей Стецкий, один из самых видных представителей так называемой «бухаринской школы» Петр Петровский (сын члена Государственной Думы царского времени, впоследствии кандидата в члены политбюро Григория Петровского) — журналист, экономист, редактор «Ленинградской правды» и журнала «Звезда».
Счет менее известных шел на десятки. Среди тех, кому — на основании его доносов — была уготована та же судьба, виднейшие юристы, историки, экономисты: их спасла только смерть тирана. Одним был мой учитель, профессор Борис Сергеевич Никифоров, другим — мой коллега, благополучно здравствующий ныне в Соединенных Штатах, — юрист и правозащитник Константин Михайлович Симис.
Бывший ответственный сотрудник бывшего Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Н.С. Горохов, не допустивший меня до пяти томов партийного дела Покровского («совершенно секретно», а я без «допуска»!), но прочитавший их сам, сказал мне, что профессор «в буквальном смысле торговал людьми, получая хорошую плату поштучно», то есть за каждого, им «разработанного». Он добавил, что, судя по донесениям Покровского, тот делал это не из-под палки, а «по искреннему влечению, получая не только деньги, но и удовольствие от своей работы».
Особое удовольствие, я думаю, доставляла Покровскому хитроумная, хоть и не слишком оригинальная, метода, которую он избрал. С откровенным наслаждением, отводя душу и чувствуя полную безнаказанность, он излагал перед намеченной жертвой дорогие ему взгляды и мысли («У нас нет диктатуры пролетариата, а есть диктатура руководящей верхушки», «Сталин — негодяй и палач, которого надо четвертовать», «Советский режим это фашистский режим, а все советские люди — рабы», «Мы живем в стране лжи и фарисейства»), дожидался (или не дожидался) подтверждающего кивка своего собеседника, а затем в точности воспроизводил свои же слова, вкладывая их в уста разоблачаемого врага. Его хозяева — отдадим им все-таки должное — усомнились в столь безоглядной откровенности профессорских друзей и решили проверить своего агента, вмонтировав, куда следует, микрофончик перед его очередной душевной беседой.
Лубянка к тому времени уже имела какую-то технику, доведенную до совершенства гораздо позднее. 10 сентября 1952 года хозяева Покровского записали его застольную беседу с Лившицем и установили, что «сомневается в истинности учения вождя» (цитата из приговора) не столько Лившиц, сколько Покровский. Те же сведения содержатся в донесении сексота под псевдонимом «Литер Н.»: «Не Лившиц, а Покровский в беседе с ним допускал антисоветские высказывания» (вряд ли Литер сидел с ними за столом: видимо, подслушивал).
Правда раскрылась, хотя жертву это отнюдь не спасло: ведь тот без возражений слушал откровения собеседника и к тому же о них не донес. Но крамольные речи Покровскому все же вменили. В письме Маленкову из Бутырской тюрьмы он — с присущей ему безупречной логичностью — так парировал доводы следствия: «Что же получается? Получается равносильно тому, что послали человека к гитлеровцам с поручением войти в доверие и занять в целях разведки какую-либо должность, а потом арестовали его на основании показаний, что этот человек служил у гитлеровцев. В данном случае, прилагая в качестве основания для ареста показания <…> Лившица, соответствующие работники скрыли решающее обстоятельство дела, что я имел специальное задание по его разоблачению. тогда показания Лившица выглядят уже не как компрометирующий меня материал, а показывают умение и честность советского разведчика, который сумел вскрыть целую злодейскую программу и сатанинские замыслы заклятого и озлобленного врага народа, его звериную ненависть против советского народа и его вождей».
Одиночная тюремная камера и ожидание пули в затылок не способствуют, как видим, соблюдению грамматических правил и пристойной стилистике — ручаюсь, свои лекции Покровский читал на совсем ином литературном уровне, используя при этом куда более богатый и разнообразный словарный запас.
Хвастливо перечисляя в письме Маленкову всех, кого он «разоблачил для органов безопасности» (среди них и видный историк русского права профессор С.В. Юшков, профессор-экономист Н.А. Цаголов, литературовед В.Е. Евгеньев-Максимов и другие), Покровский восклицал: «Дорогой, любимый Георгий Максимилианович, спасите мою жизнь…. дайте мне оставить детям честное имя, чтобы товарищи говорили: вот был человек, делавший серьезные ошибки, но солнце сталинской критики убило все вредные микробы».
Мольбу услышали. «День Икс» прошел, за ненадобностью дальнейшего пребывания на дармовых тюремных харчах 12 ноября 1953 года Покровскому вернули свободу. Несмотря на приведенную выше лестную характеристику, которой сопровождалось его освобождение, решением нового лубянского руководства от 15 апреля 1954 года он был вычеркнут из почетного списка сексотов «за двурушничество, провокационное поведение и дезинформацию». Поистине правая рука не знала, что делает левая. А может быть, знала?..
Как «видный ученый» и «жертва культа личности» Покровский после этого возглавил сектор Института государства и права Академии наук СССР, оказался профессором Всесоюзного заочного юридического института и снова стал завсегдатаем ресторана ЦДЖ, где под карский шашлык и грузинское вино продолжал пленять своей эрудицией доверчивых простаков. Только настойчивость его жертв (главным образом несчастной Валиной матери Софьи Евсеевны Копелянской) и военного прокурора, полковника юстиции Георгия Петровича Шишова, который воевал за посмертную реабилитацию Лившица, слегка притормозила эту бурную деятельность.
Ему оставалось жить еще более двух десятилетий, и все эти годы он потратил на то, чтобы доказывать свою правоту. Прошел Двадцатый съезд, потом Двадцать второй, была опубликована, пока Хрущева не скинули, куча материалов, разоблачавших провокации и провокаторов Лубянки, а он продолжал твердить свое: честно выполнял задания родины, разоблачал презренных врагов народа и потому заслуживает восстановления в партии, из которой его все же поперли, оставив, однако, заведовать сектором истории права в академическом институте!
В 1959 году — только тогда! — реабилитировали Валю, Покровский оспорил и это, возмущенный тем, что в постановлении было сказано, на основании каких «доказательств» тот был осужден. «Лившиц, — продолжал утверждать он, — это разоблаченный мною троцкистско-сионистский террорист, заклятый фаг народа. Почувствовав в Лившице врага, я терпеливо выжидал, когда он сам себя раскроет… и добился, что его антисоветское нутро прорвало. После этого я в интересах и по поручению разведки сделал вид, что являюсь его единомышленником».
Сочиняя эти душераздирающие заклинания, он писал и новые труды по истории. Их никто не хотел печатать — не из-за низкого качества (оно, говорят, было ничуть не хуже тех, что печатались в изобилии), а исключительно по гигиеническим соображениям. Одно лишь упоминание его имени побуждало сколько-нибудь чистоплотного, не растерявшего остатки совести человека опрометью бежать под душ.
По всем Божьим и человеческим законам самому клеветнику было бы нужно занять место на скамье подсудимых, но чашу эту испить довелось разве что нескольким палачам, а вся агентурная челядь успешно ее избежала. Так что я ничуть не удивился, увидев еще раз — один только раз! — Серафима Покровского и его супругу снова в Большом: его вкус и привычки изменению не подверглись. Все в том же буфете, из разных его концов, мы какое-то время пристально смотрели в глаза друг другу, не кланяясь и не сделав никаких движений навстречу. Не помню, кто первым отвел глаза, да и вряд ли это имеет значение. Он что-то шепнул жене, и она тотчас метнула взгляд в мою сторону, но в толпе не разглядела. Глаза его потускнели — это было видно даже издалека, волосы поредели, но сократовский лоб и бородка придавали ему все столь же благообразный облик мыслителя и книгочея.
Я вспомнил в мельчайших подробностях ту последнюю встречу годы спустя, — после того, как на страницах «ЛГ» очень коротко рассказал историю этого страшного человека, с которым меня столкнула судьба, и вскорости получил отклик на свою публикацию от Людмилы Васильевны. Получил, точнее, не я, а Маковский и вслед за ним главный редактор «Правды» Виктор Афанасьев, от которого поступило в нашу газету наглое требование доложить ему о «рассмотрении письма читательницы Покровской»: ведь «Правда» была не такой же газетой, как все остальные, а «директивным органом партии» и поэтому могла обращаться со своими коллегами, как с обычными подчиненными.
«Грязный подонок Ваксберг, — писала Людмила Васильевна, вызвав сочувствие у товарищей-правдистов, — гнусно оклеветал на весь мир моего покойного мужа Серафима Покровского, совершенно бездоказательно назвав его виновным в расстреле молодого ученого-юриста. <…> Он решил осквернить мерзкой клеветой прах честного человека, и мне придется теперь бороться за безупречно доброе имя талантливого русского ученого, павшего жертвой завистников и сионистов».
По крайней мере одно утверждение в этом письме с истиной не расходилось. Серафим Покровский был действительно многогранно талантлив — без всяких кавычек, и, если бы это не было так, фигура его и судьба не представляли бы особого интереса: бездарным негодяям, исправно служившим адской машине уничтожения, поистине несть числа, исследовать каждую особь этой породы в индивидуальном порядке занятие бесполезное. Но Покровский совсем из другого теста, тем он и страшен. И поучителен — тем же.
Совсем молодым (ему было тогда двадцать два) он смело вступил лично со Сталиным в теоретический спор по острейшему в ту пору крестьянскому вопросу. Убедительно и страстно, на богатом историческом материале, он доказывал, что сталинская политика по отношению к так называемым «середнякам» губительна для страны, для ее развития, для ее народно-хозяйственного потенциала, что она неизбежно должна привести к необратимым нравственным, социальным и экономическим потерям. Этим и объясняются та — чрезмерная даже для Сталина — грубость, с которой дал он отлуп молодому ученому, и публикация этих грубостей (без изложения позиции оппонента) — в назидание тем, кому вздумалось бы вдруг повторить опыт самовлюбленного молодого нахала…
«Нахал» был слишком умен и проницателен, чтобы не видеть гнусностей утвердившегося в стране режима и не понимать, что представляет собой великий вождь и учитель. Судя по всему, он ненавидел и презирал его в полную меру, но еще сильнее он любил свою жизнь, свой рабочий стол, свои книги, свою лекционную кафедру, восхищенные глаза студентов и их благодарные аплодисменты. Ценил он себя высоко и хотел избежать напастей, чего бы это ни стоило. Чужие достоинства — тех, кто был столь же незауряден и точно также любил жизнь и работу — в сравнении с этим не имели ни малейшей цены. А если имели, то лишь как товар, который можно продать.
Конечно, ни в какой прописной морали этот сюжет не нуждается, и, однако же, лежащие на поверхности аналогии из более близкой эпохи придают ему особую остроту. Слишком памятны чудесные превращения иных диссидентов с громкими именами. Чем перевертыш талантливей, тем больше поражают метаморфозы, с ним происходящие, и тем трагичней последствия его многогранности.
Честно говоря, известная формула о несовместимости гения и злодейства всегда казалась мне скорее желанным идеалом, чем постылой реальностью. С большим опозданием постиг я ее глубину. Нет, дело не в том, что гений не может стать злодеем. Но, становясь им, он перестает быть гением: Высший Разум неумолимо мстит за измену призванию. Замечательные творения большого писателя, ставшего озлобленным квислингом, ничуть не теряют своего величия. Но создать новые шедевры ему уже не суждено.
Как бы ни казалось неуместным соединение в одном ряду титана и пигмеев, — модель все та же. Талант и совесть — понятия не равнозначные. Злодейство с совестью действительно несовместимо. А с талантом его сочетать удавалось режиму множество раз. Он имел от этого двойной выигрыш: получал лакея и убивал талант.
Крушение такой личности, как Серафим Покровский, сочетавшей в себе палаческое сладострастие с блеском эрудиции и эстетским гурманством, эволюция человека, в кратчайший срок проделавшего путь от мужественного борца за истину до лубянского холуя, — все это ждет своего Достоевского, который когда-нибудь доберется до мрачных закоулков и этой презренной души.
Правда, Покровский не одинок, были еще и другие со схожей судьбой. Например, Валентин Астров, подававший надежды молодой философ, единственный из «бухаринской школы» избежавший террора, с потрохами продавшись своим вербовщикам и лакейски благодаря их за дарованные жизнь и свободу жизнями своих бывших товарищей. Полный перечень его жертв никогда не был опубликован, сам он этого делать, естественно, не стал: грешники-марксисты на исповедь не способны. Позже он оказался членом Союза писателей и благополучно прожил в полной безвестности чуть ли не сто лет.
Но с Астровым я не встречался. С Покровским — пришлось.
Глава 7.
Кто должен быть мертв и хулим
Мой приход в литературную студию МГУ почти совпал с уходом из нее Павла Антокольского, который руководил ею несколько лет. Под его началом прошли при мне только три или четыре занятия. Но этого было вполне достаточно, чтобы я успел опозориться. Думал: вполне обойдусь ролью слушателя и наблюдателя, да и вообще плохо себе представлял, с чем ее едят, эту литературную студию. Влекло любопытство, не больше. И, конечно, — громко звучащее название: студия! К тому же — литературная! Да еще — Московского университета! Занятия проходили в овальном зале клуба МГУ — на углу Герцена и Моховой: позже в клубе разместится знаменитый Студенческий театр, а еще позже зданию будет возвращен его прежний облик университетской церкви.
Отсидеться и отмолчаться мне Антоколький не дал. Заметив новичка, он тут же меня поднял и предложил представиться. Я начал с года и места рождения — по всем правилам советских автобиографий, — и тут же был оглушен громким хохотом студийцев.
— Поберегите эти подробности для отдела кадров, — сказал Антокольский с пленившей меня невозмутимостью, — а нам расскажите, что вы пишете. Прозу? Стихи?
Ничего подобного я не ждал. Публичная исповедь под взглядами десятков насмешников, — нет, к этому я не был готов. Мое затянувшееся молчание побудило Антокольского продолжить перечень жанров.
— Неужели вы критик? Как раз критиков-то нам не хватает. Или пишете пьесы? До сих пор у нас не было ни одного драматурга.
— Стихи, — мучительно выдавил я из себя.
— Прекрасно, — ободрил меня Антокольский. — Со стихов все начинают. Почитайте нам что-нибудь для знакомства.
Черт меня дернул прийти в эту студию!.. Объявление о ней в университетской многотиражке никаких подробностей не содержало, — я не имел ни малейшего представления о том, что там меня ждет. Но выхода не было, как не было, в сущности, и выбора: мой «творческий» багаж состоял к тому времени разве что из пяти стишков, в которых имелось хоть какое-то подобие рифмы. И ритма. И смысла. Кинувшись в омут вниз головой, один из этих стишков я и пролепетал.
— Ты любишь Надсона? — прогнусавил сидевший рядом со мной долговязый парень, предварительно вытерев нос рукавом рваного свитера. В его пальцах была зажата кипа тонких розовых листочков, на которых я увидел аккуратно перепечатанные столбики стихотворных строк.
— Или Северянина? — раздался ангельский девичий голосок.
— Иосифа Уткина, — подсказал еще один эрудит.
— Не льстите новичку, — остановил этот поток насмешек мудрый мэтр. — Никакого отношения к тому, что мы сейчас услышали, названные вами поэты не имеют. А вы, юноша, — обратился он ко мне, — стихи пока не читайте. Пишите, пишите как можно больше. И выбрасывайте в корзину. Если будет жалко, — оставьте. Потом, когда-нибудь, но не скоро, нам почитаете. А пока участвуйте в обсуждении. Тут подобрался способный народ.
Сразу же вслед за мной зачитывал с листочков свои стихотворные сочинения язвительный мой сосед, и я дерзко ему отплатил, назвав их розовой водичкой, за что тут же схлопотал не упреки, а одобрительный смех и аплодисменты. Не смеялся лишь Антокольский, но по лицу его было видно, что немудреная шутка пришлась ему по душе.
Так началась моя учеба. Я сразу же почувствовал себя в своей среде, застенчивость и робость куда-то исчезли. Эти качества были здесь вообще не в чести, каждый приносил на публичное обсуждение то, что мог и умел, и даже самые едкие шутки товарищей не гасили творческую активность, а лишь побуждали к новым свершениям. В меру способностей и сил.
Я убежден, что именно литературная студия избавила меня от комплекса неполноценности, который не надо путать с критическим отношением к себе. «А-а, и ты страдаешь оттого, что мысль не пошла в слова?! — помнится, говорил Вершилов в „Подростке“ Федора Достоевского. — Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным. Дурак всегда доволен тем, что сказал».
Тон в литстудии задавали несколько лиц женского пола и не слишком приятной — скорее, попросту грозной — наружности. Этот свой недостаток они вполне компенсировали надменностью и самоуверенностью — вышучивали всех и вся и вообще вели себя так, словно только им доверены ключи от литературы, только они, и никто другой, имеют право к ней приобщать и от нее отлучать. Их суждения были непререкаемы, а жалкие вирши, явленные народу, не могли, естественно, быть ничем иным, кроме как вкладом в родную словесность. Ровным счетом ничего из них впоследствии не вышло, имена канули в забвение, — даже в области журналистики, где какое-то время они подвизались, перезрелым этим девицам не удалось оставить хоть малюсенький след. А между тем
в студии, где они чувствовали себя хозяйками положения, занимались — им не чета — люди незаурядные, у которых не было нужды ни в какой саморекламе.
Именно здесь я познакомился с Володей Солоухиным, который многие годы спустя, в одной из своих повестей, рассказал о нашей студии и вывел меня под моим подлинным именем: у всех других персонажей вымышленные имена. На суд студийцев Володя выносил, как правило, не много стихов, но за каждым чувствовались талант и несомненное литературное будущее их автора. Часто приходил Евгений Винокуров, очень еще молодой, но уже всеми признанный поэт. Стихи обычно читали по кругу — Женя получал слово «вне очереди». Он обычно отнекивался — «Я же не инвалид, зачем мне уступают место?», — ворчал Винокуров. Наконец, сдавался: «Ладно, одно-два». И читал стихов десять, если не больше. Приходили очень модные тогда «фронтовые поэты» — их так и воспринимали, одной обоймой: Сергей Наровчатов, Михаил Львов, кто-то еще. Приходили не учиться — читать стихи в близкой по духу среде. На правах учеников в студии занимались будущие профессиональные литераторы: прозаик (тогда поэт) Василий Росляков, другой прозаик — Валерий Осипов, чья новелла дала возможность Михаилу Калатозову сделать свой замечательный фильм «Неотправленное письмо». За идеологической чистотой следил будущий поэт Василий Кулемин. Патриотические стихи писал и напевно, со смаком, читал студиец Никита Толстой — правнук Льва Николаевича, нынешний академик, крупный филолог-славист. тогда у него еще не было окладистой бороды à la прадед, но близкое родство с графом Львом не мог усмотреть только слепец.
Студию охотно посещали мэтры, очень разные по таланту, по стилю, по направлению. И все равно — мэтры. Помню Михаила Зенкевича, Веру Инбер, Павла Шубина, Александра Коваленкова. Наезжали в Москву и бывали у нас ленинградцы: маститый Всеволод Рождественский, молодой, смешливый Михаил Дудин. Однажды, в промежутке между двумя отсидками, весь вечер провел с нами Ярослав Смеляков, читал щедро и охотно. «В память о знакомстве» — написал он мне на подаренной в тот вечер книге стихов «Кремлевские ели». Но продолжения знакомства, увы, не было: наши пути с тех пор ни разу не пересеклись.
В отличие от других почетных гостей Михаил Луконин пожелал выслушать сначала студийцев и лишь потом почитать что-нибудь самому. Я к тому времени уже осмелел, чуть ли не возомнив, что слово «поэт» имеет какое-то отношение и ко мне. Огласил, когда очередь дошла до меня, длинный стишок — он был написан под впечатлением летнего посещения Крыма и назывался «Крымские легенды». По неведомой мне причине стишок этот чем-то Луконина зацепил, и свое итоговое выступление он посвятил разбору моего дилетантского творения.
— «Здесь воздух сладок, как халва», — цитировал он пьянеющего от гордости за себя «поэта». — Хорошо! Я чувствую на своих губах сладость этого воздуха.
— Но дальше, дальше!.. — взвилась от негодования одна из юных блюстительниц «уровня». — Там дальше: «С ним можно чай глотать вприкуску». Пусть Аркадий расскажет, как ему эти глотки удаются.
— Во-первых, стихи не кулинарная книга, — срезал девицу Луконин. — Они не должны давать рецепты, как и с чем пить взаправдашний чай. А во-вторых, по-моему, это неплохая метафора. Поэзия, если вы еще не забыли рекомендацию Пушкина, должна быть глуповатой.
— Но это не значит, — завопила неугомонная, — что и сам поэт должен быть глуп!
— Слушайте, — нахмурился Луконин, — что у вас тут за нравы? Вы изощряетесь в остроумии или учитесь стихосложению? — И явно лишь для того, чтобы защитить меня от нападок, продолжил цитату из того же злополучного стишка: — «И волны замедляют бег, и чайки расправляют крылья…» Чувствую гумилевское дыхание!
— Сомнительный комплимент! — вмешался блюститель идеологической чистоты Василий Кулемин, и насмешливые девицы — все разом — дружно зааплодировали.
Такая вот там была атмосфера, в этой литературной студии, и я тепло вспоминаю о ней, потому что даже в самых обидных репликах ущемленных студиек тоже были и молодой азарт, и потребность в свободе слова, и стимул для работы, отвергающей самовлюбленность. К тому времени руководить студией начал присланный сюда Союзом писателей Николай Панов, имя которого знают теперь разве что очень узкие специалисты по литературе двадцатых годов: в те годы он входил в поэтическую группу конструктивистов и печатался под выспренним и безвкусным псевдонимом Дир Туманный. Потом он стихи писать перестал, переключившись на прозу, которая по уровню была вполне под стать его прежней поэзии, и вернул себе в качестве беллетриста прежнее фамильное имя.
Уже и тогда, продолжая писать, он был всеми напрочь забыт, но решил напомнить о себе неожиданным образом. Жаль, что его родной брат, международный шахматный мастер Виктор Панов, не научил Николая Николаевича просчитывать варианты хотя бы на два хода вперед. Готовилось к выходу новое издание Большой Советской Энциклопедии, и редакция, как водится, предварительно посылала на заключение в разные ведомства разработанный ею словник. Список писательских имен, подлежащих включению в Энциклопедию, был направлен в Союз писателей, и там Панов с огорчением обнаружил, что его имени в словнике нет. На очень высокий верх он отправил возмущенное письмо, оснастив его солидной аргументацией. В том числе и такой: не учтен объем всего написанного им, Пановым, и опубликованного в печати! А объем этот намного превосходил литературную продукцию Лермонтова. Не говоря ужо Дельвиге и Веневитинове, которые в Энциклопедию все же попали.
Большей находки для фельетониста придумать было нельзя. «Верха» отправили жалобу обидевшегося поэта алкавшему крови Семену Нариньяни — был в то время такой зубоскал и громила, ревностный исполнитель партийных заказов. И тот накатал в «Правде» подвальчик под непритязательным заголовком: «На букву П.» Панова по имени он не назвал, но все, кто хоть как-то был близок к литературе, его узнали. И добитый громилой Панов бесшумно сошел со сцены. Совсем. Имя его в варианте печатном я, кажется, с тех пор не встречал никогда, хотя здравствовал он еще многие годы. Человек он был неплохой, говорил и толковые вещи, но — увы: от них веяло такой нестерпимой скукой, что даже и очень толковые воспринять было ну никак невозможно…
Среди прочих студийцев сложением, возрастом и стихами выделялся Герман Алексеевич Ганшин, которому уже и тогда было сильно за тридцать. Это не мешало ему ничем не подчеркивать своего отличия и вести себя, как прилежный, исполнительный ученик. У него была какая-то техническая профессия. Он трудился в НИИ и никогда о своей работе не говорил. Не потому, что в ней была какая-то тайна, — просто она не занимала ни в его голове, ни в душе, ни в сердце ни малейшего места. Он любил только поэзию. И жил только ею.
Герман писал очень длинные, с подробно выписанными деталями, сюжетные стихи, воспроизводившие различные эпизоды знаменитых путешествий Магеллана, Колумба, Васко де Гама и прочих мореплавателей, а то и древние легенды и были. Их историческая и географическая экзотика пользовалась в студии большим успехом. Особенно его поддерживал Кулемин — ему нравилась способность Ганшина наводить мосты между ледниковым периодом и нашими днями. Удостоились его похвалы такие строки инженера-поэта: «…Может, через сотню лет/ (Ведь у нас хорошее начало, мы в бою сумеем преуспеть)/ Будем мы на царство капитала/ Так же, как на ящеров, смотреть».
Несмотря на огромную (так мне казалось) разницу в возрасте, Герман ко мне сразу же привязался — возможно, потому, что и я любил слушать его исторические «поэтории». Кстати, скорее уж у него, чем у меня, можно было заметить хоть что-нибудь, отдаленно навеянное Гумилевым. Помню фрагментах из его стихов об Атлантиде: «И когда все вопли и все крики/ С грохотом пучина погребла,/ Может быть, в разорванной тунике/ Мертвая красавица всплыла». Он произносил это с трагическим надрывом в голосе, студийцы смеялись, но аплодировали. Мы часто собирались в просторной холостяцкой комнате, которую он занимал, и читали стихи. К счастью, не свои, а чужие. Настоящие… И однажды Герман вдруг предложил:
— Давай сходим к Пастернаку…
— Ты с ним знаком?! — только и сумел выдохнуть я, предвкушая счастье, которое меня ожидает.
— Конечно, нет. Сходим — познакомимся…
Ворваться без спросу в дом незнакомого человека — тем более Пастернака?.. Это не укладывалось в моем сознании. Но Герман не мог взять в толк, что меня удивляет.
— Вполне нормально, — убеждал он меня. — Поэты всегда ходили друг к другу в гости. Почитать свое, послушать чужое… Не застанем — придем в другой раз. Не робей, вдвоем не страшно. Вот увидишь — он обрадуется. Ты думаешь, он избалован визитами? Да ничего подобного! А общаться-то хочется… Даже гению… Давай сходим, попьем чайку… Он нам только спасибо скажет.
Все это пахло немыслимой авантюрой, но разве ранняя молодость не самое походящее время для авантюр? Тем более, что старший товарищ берет тебя за руку и готов прикрыть своей широкой спиной?!
Поход был назначен на 21 декабря 1948 года. Никакого специального замысла в этом не было — просто у обоих оказался вечер свободным. Лишь год спустя, когда страна праздновала великий праздник— семидесятилетие Земного Бога товарища Сталина, — я сообразил, что мы приурочили свой визит к дню рождения самодержца, который точно в эти часы с омерзением и презрением слушал заздравные тосты других тонкошеих (если бы ТОНКОшеих!) вождей: как известно, рабскую лесть вождь обожал, а рабов и льстецов — ненавидел. Но ни Герман, ни я такую подробность, как дата, не брали в расчет. Совпадение оказалось случайным, но по-своему символическим.
Был очень тихий и очень покойный зимний московский вечер. Снег поскрипывал под ногами. Светила луна. От метро «Библиотека имени Ленина» — через Каменный мост — мы шли пешком, замедляя шаги, словно отодвигая встречу, к которой сами же так стремились. Адрес Пастернака мы нашли в писательском справочнике: он жил в Лаврушенском, напротив Третьяковки, в доме, где чуть ли не за каждой дверью обитал «живой классик». Но не только, не только…
Жил в том доме, к примеру, и один кагебешник очень высокого ранга. Его жена, врач Кремлевской больницы, надиктовала недавно небольшую книгу воспоминаний. Есть там рассказ ее дочери о том, какие мудрые советы давал ей отец. Среди них и такой: «Люба, запомни, здесь водится вредное растение по имени Пастернак».
Вошли в пустынный двор, потом в правый подъезд, где квартира 72 — «вредное растение» обитало именно здесь. Лампочка на шестом этаже не горела, но свет с верхнего и нижнего этажей позволил разглядеть номер на правой от лифта двери.
— Нажимай! — прошептал я Герману, нащупав кнопку звонка.
— Нет, ты… — тоже шепотом возразил Герман, разом утративший прежнюю смелость.
Я позвонил. Через какое-то время послышались шаги, и дверь распахнулась. То, что произошло сразу за этим, и сегодня заставляет меня ощутить холодок на спине. Открывший нам дверь мужчина, всматриваясь в темноту из ярко освещенного коридора, испустил звук, напоминающий стон раненого зверя.
— Кто?! — вскрикнул он, пятясь в глубину коридора от двоих мужчин, без приглашения уже переступивших порог. И снова — в отчаянии, полушепотом: — Кто?..
Моя фигурка вряд ли гляделась грозно, зато плечистый, массивный Герман в своей пыжиковой шапке, надвинутой на лоб, с поднятым воротником тяжелого пальто, вероятно, смахивал на лубянского конвоира. Хлопнувшая дверь лифта, вечер, темная лестница, два мужика (а за ними, возможно, и третий, и пятый…), без спроса вломившиеся в квартиру, — вот что услышал, увидел, почувствовал тогда Пастернак.
Все это я сразу не понял. Мы пребывали совершенно в разных стихиях: он — в ужасе от того, что происходит, я — в эйфории от встречи с ним.
Продолжая пятиться и приставив ладонь ко лбу, чтобы загородиться от мешавшего ему света лампы, Пастернак вдруг отпрянул в каком-то неуклюжем прыжке, и тогда Герман, раньше, чем я, освоивший ситуацию, наконец-то промолвил:
— Борис Леонидович, мы — поэты.
Пастернак замер на том месте, где застали его эти слова. Убрал ладонь со лба. Оглядел нас, уже вошедших в квартиру, с головы до ног. И засмеялся. Сначала заливисто, неудержимо — как ребенок. Потом — страшно… Это был не смех, а — истерика. Жуткая, страшная разрядка человека, вдруг вернувшегося с того света. Не дай Бог никому увидеть ее!..
Нервным, резким движением он снял с нас наши пальто. Не помог снять, а именно снял. Ввел в комнатку — первую направо от входной двери, где, видимо, был рабочий его кабинет. Меня усадил на стул, Герману принес другой, более прочный. Умчался на кухню, оттуда крича: «Сейчас сделаю чай!»
— Я же тебе говорил, — успел мне шепнуть Герман. — Придем, попьем чайку… Видишь, как он доволен.
В квартире, кроме хозяина, явно не было никого — просто чудо, что мы застали Пастернака в Москве. То, что он мог быть в Переделкине, нам вообще в голову не приходило.
Чайник еще не закипел, когда Пастернак — нет, не вошел, не вбежал! — ворвался в свой кабинет, где терпеливо его дожидались два нахала-«поэта». Он сел за миниатюрный свой столик (на нем, помнится, не было ничего, кроме Библии гигантских размеров в старинном кожаном переплете), и стал лихорадочно что-то говорить, нервно хлопая нас по коленям. Стену перед столом украшали крохотный образок и небольшой портрет Анны Ахматовой.
Боясь процитировать Пастернака неточно, я воздержусь от прямой речи. Суть его не связанных между собою, обрывистых фраз сводилась лишь к одному: как он рад — нет, не рад, а счастлив — нас видеть! И чем больше, чем восторженней он восхищался нежданным нашим приходом, тем четче я осознавал, избавление от какой беды он сейчас празднует. Впрочем, весьма вероятно, что
четкое осознание этого пришло ко мне позже, намного позже, но
ощущение чужой драмы, к которой невольно мы прикоснулись и которую сами же обострили, возникло уже тогда.
Мы пили жиденький чай с какими-то сухарями — трогательно бедное угощение, приготовленное безвестным нахалам великим поэтом, не думая вовсе о том, что с ним сейчас происходит. Ганшин говорил о романе, которого «все ждут» (шла речь, конечно, о «Докторе Живаго», но названия романа — по крайней мере для нас— еще не существовало) и который «уже спрашивают в библиотеках». Пастернак, услышав это, снова откликнулся нервным, но уже менее продолжительным хохотом, постепенно приходя в себя и возвращаясь, вероятно, в то состояние, в котором он был до нашего появления.
— Поэты, — сказал он вдруг, — почитайте стихи.
Герман был, как видно, готов, он долго, с пафосом, читал что-то про Магеллана. Пастернак слушал, прикрыв глаза. Не думаю, чтобы он что-нибудь слышал, но мерный, без каких-либо сбоев ритм строки его успокоил.
— Теперь вы, — обратился он ко мне.
Голос его был ровен и тих, в нем ничего уже не осталось от той истерики, свидетелями которой мы только что были.
Это было чистым безумием — читать Пастернаку свои «стихи». Но и не было хода назад. Не глядя на него, я отбубнил стихотворение «Дождь», благо оно было коротким. Страшно сказать: Пастернак принялся его разбирать. Я очень хорошо помню, что он мне сказал, но воспроизводить не буду, чтобы не выглядеть смешным. Ни похвала, ни хула в данном случае не имеют значения, ибо автор стиха как поэт не состоялся. Важно (по крайней мере для меня), что Пастернак, едва оправившись от кошмара, в который мы же его и вогнали, уважительно, на полном серьезе разбирал какие-то строчки, сочиненные мною!
Потом мы стали прощаться. Пастернак подарил Герману переплетенную тетрадочкой пачку листков со стихами из «Доктора Живаго» — добрую половину из них до этого мы не знали — и надписал ему книжку, которую тот предусмотрительно с собой захватил. У меня же с собой не было ничего, и Борис Леонидович увидел, наверно, что я едва не заплакал.
Он вышел из комнаты и принес целых две. Одна, тонюсенькая, была точно такой же, где он оставил автограф Герману: «На ранних поездах». Другая — незадолго до этого изданный сборничек его переводов из грузинских поэтов. Таким образом, я стал обладателем сразу двух книг, подаренных мне Пастернаком, а многие годы спустя Герман отдал мне и свою, сопроводив этот дар глубоко меня тронувшими словами:
— Такая реликвия должна храниться у тебя.
Вот что было написано на тех, что подарены мне: «Аркадию Ваксбергу на счастье» («Грузинские поэты») и «Ваксберг, Аркадий Осипович, будьте счастливы, желаю Вам во всем удачи» («На ранних поездах»). Помимо всего прочего, то был первый случай, когда меня назвали по отчеству, пусть и несколько измененному (отца Бориса Леонидовича, как известно, звали Леонид Осипович, так что его транскрипция, видимо, идет отсюда). Но гораздо важнее та пространная надпись, которую Пастернак оставил на книжке, принесенной Германом и теперь хранящейся в моем архиве.
«Герману Алексеевичу Ганшину. Вы пришли ко мне с Ваксбергом в трудную и роковую минуту, когда я мог ждать беды, и появление вас обоих было радостным облегчением для меня. Спасибо вам обоим, а Вам, Ганшин, отдельно. Желаю счастья и постоянной правоты в жизни. Ваш Б.П. 21 дек. 1948».
Этот автограф документально зафиксировал то состояние, в котором мы застали Бориса Леонидовича, и ту его реакцию на наше вторжение, которую я постарался описать выше. Из биографической хроники поэта, составленной Евгением Борисовичем Пастернаком, и мемуарной книги Ольги Ивинской можно точно определить, какой беды он ждал, открывая дверь двоим незнакомым мужчинам, молча двинувшимся навстречу ему из темноты лестничной клетки, и почему эта минута была для него трудной и роковой.
Судьба так распорядилась, что ко всему этому я оказался причастен: и к ужасу, который в нем породил наш приход, и к счастливой разрядке, к облегченному вздоху, которые последовали за этим. Память о каждом мгновении, проведенном с Пастернаком в тот декабрьский вечер, сохранилась у меня на всю жизнь.
Впервые я увидел его в Колонном зале Дома Союзов третьего апреля сорок шестого на поэтическом вечере приблизительно двадцати московских и ленинградских поэтов. Кажется, первом таком — по масштабу — после войны. Вел его Николай Тихонов, которому потом вменили в вину «пропаганду упаднических стихов», рекламу «не тех» поэтов. Ахматова завершала первое отделение, Пастернак — второе и, стало быть, весь вечер. И ее, и его зал встретил стоя — им обоим, Ахматовой особенно, дорого обошелся этот взрыв восхищения, поклонения и любви.
Я сидел на балконе, прямо над Пастернаком, и не сводил с него глаз. Он казался мне покойным, невозмутимым, погруженным в себя: непохоже, что он слышал чужие стихи. Но когда выступала Ахматова, он вытянул шею, весь к ней устремившись, и так, не двигаясь, просидел все те, достаточно долгие, мне показалось, минуты, пока она читала свое: и старое, хорошо знакомое, и новое — то, что еще не было ни у кого на слуху. Ее долго не отпускали, и Пастернак хлопал вместе со всеми, своими аплодисментами еще больше заводя зал.
Сам он тоже читал щедро, главным образом из стихов, вошедших в сборник «На ранних поездах», но еще и «Стихи из романа». В какой-то момент он виновато повернулся к Тихонову и, увидев его знак, развел руками. Вспыхнула овация, у которой не было конца. Тихонов, а за ним — еще более зычно — Сурков объявили вечер закрытым, но зал опустел ненамного: овация продолжалась, от Пастернака ждали новых стихов. Невидимый дирижер дал знак погасить люстры. Сверкавший огнями зал погрузился в полумрак — лишь тогда поэты кучкой двинулись к бархатным кулисам.
Какая-то сила заставила меня крикнуть с балкона: «Борис Леонидович, почитайте еще!» Пастернак замешкался и остался на сцене один. Теперь уже овация перешла в шквал. Казалось, вот-вот зал осветится снова, и снова будут его стихи. Но зал не осветился, и Пастернак понял, что это приказ. Прощально махнув рукой, он ушел.
Почти два месяца спустя, 27-го мая, в Политехническом состоялся его собственный вечер. Вероятно, самый последний, хотя жить ему оставалось еще целых шестнадцать лет. В августе Сталин устами Жданова даст залп по литературе, после чего ни о каком публичном появлении не только Ахматовой, но и Пастернака, не могло быть и речи. Поразительно: все детали того вечера в Политехническом в памяти не остались. Кроме разве одной: Пастернак спотыкался, забывал слова, — их тут же подсказывали ему десятки людей из зала. Даже когда он читал стихи, в печати не появившиеся. Те самые стихи из романа, которые не вошли в крохотную подборку, опубликованную журналом «Знамя».
Здесь я впервые услышал строки, которые почему-то особенно поразили меня своим вызовом, свободолюбием и достоинством. «Кому быть живым и хвалимым,/ Кто должен быть мертв и хулим/, Известно у нас подхалимам/, Влиятельным только одним». В моем сознании тогда еще не укладывалось, как можно вслух, на публике, у нас произнести такие стихи. Лишь два с половиной года спустя я нашел их в тетрадочке, которую Пастернак подарил Герману. Но десятки людей, оказалось, их знали уже тогда…
Зимой сорок девятого я встретил Пастернака в Большом зале Консерватории, на концерте Генриха Нейгауза. Пастернак был один, и в антракте медленно шел по боковому фойе, разглядывая развешанные на стенах портреты музыкантов. Внимательность, с которой он изучал подпись под каждым портретом, наводила на мысль, что он здесь не был давно. Многие из публики узнали его — почтительно разглядывал и, не смея приблизиться: вокруг Пастернака как бы образовалась воронка, внутри которой не было никого. Только он сам — одинокий и от всего отрешенный.
Я подошел к нему, хотел напомнить о том декабрьском вечере, — он вяло меня перебил:
— Помню, помню, конечно…
Рука его тоже была вялой, и голос глухой, и взгляд совершенно потухший. Мне показалось, что он здесь не по зову души и не от любви к музыке, а по семейной обязанности, и что мысли его — далеко-далеко…
Впрочем, возможно, я был не прав, поскольку — при всей своей отрешенности — он сам вернул меня к той, нашей, единственной, встрече.
— Мои пожелания редко сбываются, — вдруг, после смутившей меня минуты молчания, сказал Борис Леонидович, внимательно на меня посмотрев и сразу же отведя взгляд. — Но я очень хочу, чтобы это — сбылось. Хорошо помню то, что тогда написал: будьте счастливы, желаю вам во всем удачи. Передайте это пожелание и вашему другу.
Он еще раз вяло пожал мою руку и продолжил в одиночестве свой путь вдоль галереи портретов. Не дойдя до конца, повернул в зал: прозвенел звонок.
Живым его больше я не видел ни разу.
Вакханалия вокруг Нобелевской премии, оскорбления, которым его подвергало цековское и лубянское быдло, вынуждали меня все время прокручивать в памяти детали того — для меня исторического — декабрьского вечера, когда Пастернак ждал «гостей дорогих». Сообщение о смерти «члена Литфонда Пастернака», напечатанное в газетенке «Литература и жизнь», уже не было новостью: о случившейся беде я узнал днем раньше от завсегдатаев «Националя». Не было новостью и то, что люди, заправлявшие страной и глумившиеся над ее национальным гением, — ничтожества и дебилы. Но чтобы до такой степени?! Право, их свиноподобные рожи, о которых с таким презрением писал сам Пастернак, открылись мне во всей красе, когда они нашли величайшему русскому поэту столетия подходящую для их разума дефиницию: член Литфонда. Они были достойными наследниками тех монарших угодников, которые устроили взбучку Краевскому за его отклик на гибель Пушкина («Солнце нашей поэзии закатилось»): какое там еще солнце?!.
В Переделкино, на похороны, мы поехали с Володей Глоцером. В электричке встретили Юза Алешковского и Германа Плисецкого, вместе с которым какое-то время я работал в журнале «Семья и школа». Ворота дачи были распахнуты настежь. Народу еще собралось немного: пока что от станции шла не толпа — одиночки. «Во время похорон Пастернака, — утверждает Евтушенко, — агенты КГБ нагло подходили к каждому осмелившемуся прийти попрощаться и фотографировали крупным планом — для досье». Он ошибается. В такой примитивной опереточной пантомиме агенты КГБ не нуждались, всех пришедших (более тысячи человек) отснять было немыслимо, да кто-нибудь мог дать и по шее: ведь «фотограф» не предъявлял снимаемому свое служебное удостоверение. Все было иначе: «элегантнее» и страшнее. Они делали вид, что запечатлевают для потомков историческое событие, исторический день.
Посреди участка, за кинокамерой, установленной на штативе, работала съемочная группа из трех человек. В одном из них я узнал бывшего студента юрфака — он учился курса на два младше меня. Близко знакомы мы не были, но хорошо знали друг друга в лицо. Он вполне однозначно (обожаю это словечко из нынешнего арго) на меня посмотрел, и я понял, что здороваться с ним не имею права. Но о том, что это за тип, сказал Володе. Он понимающе улыбнулся. Позже я часто встречал этого «оператора» в Домжуре — флиртующим (или делавшим вид, что флиртует) с очаровательной барменшей Валей, чье основное место работы было всем хорошо известно. Насчет того, где расписывается в платежной ведомости наш оператор, сомнений тоже быть не могло: ни один, вошедший в ворота дачи, не мог пройти им не замеченным. И объектива камеры — тоже. Я уверен, что пленка эта хранится в архивах надлежащего ведомства. Ее историческая ценность огромна. Уж теперь-то Лубянка могла бы, никак не рискуя своими секретами, показать эту пленку по телевидению. Но вряд ли решится.
Гроб стоял в небольшой проходной комнате первого этажа — мы прошли мимо один раз, потом второй, потом третий… Народу все прибывало. Запомнился Паустовский, с трудом, задыхаясь, одолевший две или три ступеньки крыльца. Он обнимал светловолосую женщину с подурневшим от горя лицом: она рыдала на его плече. Следы былой ее миловидности можно было скорее домыслить, чем зримо увидеть. Позже я понял, что это была Ольга Ивинская. Когда Ливанов (кажется, ножкой табурета) закрыл дверь в дом, спасаясь от напиравшей публики, а еще больше от толпившихся повсюду сексотов, Ивинская — и Паустовский тоже — осталась снаружи.
С другой стороны дачи, у открытого настежь окна, стояло человек сорок: из комнаты доносились звуки рояля, играла Мария Юдина. Кто-то сказал мне, что ее сменяли Святослав Рихтер и Андрей Волконский, но я их не видел и не слышал. В доме, при закрытых дверях, собрались для прощания самые близкие. Во дворе ждали выноса. Ко мне подошла Фрида Вигдорова — писательница и журналистка — с лицом заплаканного подростка. «Они убили его», — совсем буднично, словно читая милицейскую хронику, сказала она. И чем будничней звучала эта ее фраза, тем было страшнее. О том, кто такие — «они», спрашивать было не нужно.
Шествие растянулось почти на километр. Гроб несли на руках по дороге. Я пересек поле, чтобы дожидаться процессии прямо на кладбище. Здесь уже был Каверин. Мне хотелось к нему подойти, что-то сказать, — он издали, молча и хмуро, кивнул.
Места у открытой могилы уже не нашлось. Но через головы стоявших я увидел того самого «оператора», суетившегося теперь возле гроба в качестве распорядителя. До меня долетали только обрывки речи профессора Асмуса, потом еще чей-то голос — резкий, пронзительный: «Митинг окончен». И реплика эта в стиле приказа, и тон, каким была она произнесена, тоже не оставляли сомнения в том, откуда прибыл «шеф протокола». Раздались одинокие голоса: «Подождите», «Пусть скажет кто-то еще», но молотки уже застучали.
Невысокого роста дядька в помятой спецовке, явно под градусом, выкрикнул: «Спасибо ему от рабочих, он болел за трудовой народ». Этот возглас, иногда в чуть искаженной редакции, вошел в разные воспоминания, причем всегда с одной и той же трактовкой. «Пьянчуга, выдававший себя за пролетария», «провокатор, пытавшийся дать повод для разгона собравшихся» — такие оценки прочитал я у разных авторов.
«Провокатор» стоял тогда рядом со мной и на лазутчика «органов» был ничуть не похож. По традиции — в такой день и перед таким событием — приложился, наверно, к бутылке, но ничего похожего на провокацию я в его возгласе и во всем его поведении не заметил. Да и что бы он смог спровоцировать?! Ведь не кричал же он: «Долой советскую власть». Мне кажется, это был один из переделкинских рабочих, — возможно, из той же, многочисленной в ту пору, команды, которая обслуживала разросшийся писательский городок, и, наверно, часто общавшийся с Пастернаком — не с великим поэтом, а просто с приветливым, доброжелательным человеком, жителем дачи, где ему приходилось что-то чинить. Кричал он от сердца, стремясь подать и свой голос в толпе интеллигентов, провожавших в последний путь величайшего из современников. Не понимаю, за что безвестный тот человек заслуживает упреков.
Прошло более четырех лет. В октябре-ноябре шестьдесят четвертого, в доме творчества Комарове, под Ленинградом, мы оказались вместе с Александром Константиновичем Гладковым — писателем и драматургом, чьи великолепные мемуары хорошо известны. Гуляя вечерами по мокрым от дождя комаровским аллеям, вспоминали мы день прощания с Пастернаком. Гладков убеждал меня, что рабочий тот не был рабочим, что никаких спонтанных проявлений человеческой скорби «по отношению к прокаженным» в наших — советских — условиях быть вообще не могло.
Я был и остался при ином мнении. Но зато согласился с другой, более важной, мыслью Гладкова: умершего Пастернака «они» боялись еще больше, чем живого. Не мертвого, а — именно умершего. То есть — в виде бренных останков — остававшегося еще на земле: до того момента, пока над его гробом не возвысится могильный холм. Потому что похороны — это единственное нежелательное публичное «мероприятие», которого власти не могли избежать. Втихаря отправить тело на дровнях в какое-нибудь Михайловское было уже невозможно. Совсем отменить этот «митинг» — тоже нельзя. Ничего другого не оставалось, как скомкать процедуру прощания, опошлить ее и унизить, а потом еще занести в потайную свою картотеку всех, кто посмел участвовать и скорбеть.
К нашим ежевечерним прогулкам вскоре присоединилась приехавшая в Комарово Лидия Корнеевна Чуковская. Только что скинули Хрущева, и этот сюжет был, естественно, в центре наших бесед. Чуковская связывала с его падением какие-то радужные надежды: Хрущев воспринимался ею только как держиморда, топтавший художников и поэтов. Конкретно тех, кого он топтал, она не слишком любила, с творчеством оплеванных им художников знакома вообще не была, но хамский ор всевластного невежды на людей из мира культуры приводил ее в ярость.
Первые признаки перемен — прежде всего, низвержение мракобеса Лысенко — еще больше побуждали ее отнестись с какой-то симпатией к происшедшему перевороту. Гладков был куда менее оптимистичен, неизменно снижая пафос Лидии Корнеевны одной и той же скептической репликой: «Никаких поворотов к лучшему у них вообще не бывает». Это казалось просто ворчанием бывшего лагерника, приучившего себя ни на что не надеяться и готовиться к самому худшему. Чуковская резонно ему возражала: «А как же двадцатый съезд?» Но прав оказался все-таки он.
Уже через год, встретив меня в ЦДЛ, Гладков напомнил о наших комаровских прогулках.
— Собираются откапывать Сталина. И мумию снова сажать на трон. К вам за подписью под протестом еще не приходили?
Что бы могла тогда значить моя подпись? Конечно, никто ко мне за ней не пришел. Но с иллюзиями насчет благих и притом окончательных перемен было давно покончено. Начиналась эпоха самиздата. В подцензурной литературе спешно отрабатывался и внедрялся в практику эзопов язык. Гладков это тоже предвидел, когда мы гуляли с ним в Комарове.
— Загнать совсем в немоту уже никого не удастся. Хрущев сделал главное: сказал вслух, что король голый. А точнее — кровавый палач. Другим Сталин уже никогда не будет. Палач, диктатор, тиран, чудовище… А какими словами это будет выражено на бумаге, большого значения не имеет. Слова найдутся, и читатели их поймут.
Случалось, мы уставали от сугубо политических разговоров, и тогда Лидия Корнеевна, резко меняя пластинку, требовала судебных баек, которых у меня было в запасе великое множество. «Только не кошмарики», — предупреждала она. Вместо кошмариков я вспоминал про курьезы. Поскольку чаще всего они относились к неистощимым богатствам устной и письменной речи, Лидия Корнеевна, ревностный хранитель чистоты языка, слушая меня, пребывала в суровом молчании.
Под свежим впечатлением недавнего процесса по делу об изнасиловании я вспомнил две реплики из показаний свидетельницы и самого обвиняемого, которые показались мне заслуживающими внимания мастеров слова. Свидетельница воспроизводила рассказ потерпевшей — своей подруги: «Он вился, вился вокруг меня, и, наконец, его попытки увенчались успехом». А подсудимый, отрицая, конечно, свою вину и утверждая, что не было никакого насилия, так описывал случившееся: «Я понял, что она испытывает ко мне внутренние чувства. Она пожала мне руку, и я ответил ей взаимностью».
Этот подсудимый был малый не промах, даже в печальном своем положении не терял чувства юмора — потому, возможно, что ни на какое снисхождение рассчитывать не мог. Когда судья, оглашая, как полагается, состав участников процесса, сообщила ему: «Вас защищает адвокат Захер (я выступал на стороне потерпевшей), он тотчас отреагировал: „Ну почему же за хер? Она меня за деньги защищает“». Даже судьиха не могла сдержать смех, да и Лидия Корнеевна оценила экспромт по достоинству, добавив, однако: «Вы могли бы поделиться этим воспоминанием с Александром Константиновичем в мое отсутствие». Но это был скорее протокольный упрек…
Кстати, эта самая Захер по части русского языка тоже отличилась в своей защитительной речи. Ей нужно было склонить суд к тому, чтобы он поверил свидетельнице С-вой — единственной, кто выступал в поддержку ее подзащитного, — а не всем остальным, уличавшим. И она выразила свою мысль так: «Товарищи судьи, прошу вас в совещательной комнате положить С-ву в основу оправдательного приговора». Не положили…
Сама Лидия Корнеевна платила той же монетой — находила в закромах своей памяти разные курьезики. Конечно, совсем иного порядка. От неизбежного ареста она спаслась в тридцатые годы простейшим способом: уехала (с глаз долой!) из Ленинграда в Москву. Потом, кажется, в Киев. О ней забыли. Когда началась послеежовская «оттепель», Корней Иванович прислал ей эзопову телеграмму: «Возвращайся, Петька сильно изменился». Лидия Корнеевна ответила: «Все мужчины обманщики, не вернусь».
Вспоминала о ташкентском своем пребывании в годы войны. Эти рассказы мне плохо запомнились, кроме того, что жила она там вместе с матерью Иосифа Уткина, которую все звали «Матюткина». И была там еще сестра поэта, Гутя, за которой ударял Юзовский. А больше не помню ничего.
Поразила беспощадная объективность, с которой Лидия Корнеевна говорила об отце, при этом любя его и глубоко почитая. Корней Иванович, по ее словам, никогда не имел истинных-интимных — друзей, ибо «человек в глубину» его не интересовал. Тех, с кем он охотно общался, воспринимал только как рассказчиков или собеседников. Не выносил ничью боль, терпеть не мог слушать о ней, сочувствовать, обсуждать. Он охотно откликался на просьбу помочь — Лидия Корнеевна считала, что это тоже своеобразная форма «отмахиванья от беды»: вы просите — я сделаю все, что могу, и баста, и хватит об этом! Если же помочь он ничем не мог, то и разговоры напрасны: незачем трепать нервы друг другу, лучше поговорить о чем-нибудь веселом.
Лидия Корнеевна была «объективно» беспощадной не только к отцу, но и к себе самой. Запомнилось ее признание: «Два понятия я никогда не могла уразуметь — что такое пикантность и что такое женственность». Мы с Гладковым переглянулись…
И помню еще, как она меня срезала, когда, рассказывая о чем-то, я употребил штампованное выражение: «торжествующее хамство». «Каким, интересно, оно может быть? — насмешливо спросила Лидия Корнеевна. — Вы когда-нибудь встречались с застенчивым хамством?»
В Комарове, на берегу залива, вдали от глушилок, легко ловились «вражьи голоса». У меня и у Гладкова были транзисторы, и мы просвещали Лидию Корнеевну новостями «оттуда». Только что Сартр отказался от премии Нобеля, и педантичный Гладков, прослушав сообщение об этом несколько раз, записал текст его заявления с объяснением принятого им решения. Текст этот остался в моем архиве именно в записи Гладкова, — возможно, не аутентичной, но с несомненностью подлинной.
«В нынешних условиях, — нагло вещал этот самодовольный левак, поучавший тех, кто находился в советской клетке, — Нобелевская премия выглядит как награда либо писателям Запада, либо строптивцам с Востока. Ею, например, не увенчали Пабло Неруду, одного из крупнейших поэтов Америки. Речь никогда всерьез не шла о Луи Арагоне, который ее вполне заслуживает. Достойно сожаления, что премию присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову, и что единственное его произведение, удостоенное награды, это книга, изданная за границей и осужденная дома».
То, что, отвергая идеологический привкус Нобелевской премии, этот «отказник» сам рассуждал с откровенно политиканских позиций, призывая увенчивать ею писателей лишь
своего идейного направления, — это, как видно, им в расчет не бралось. Сартр, похоже, был искренне убежден, что писатели Запада вправе (и должны!) быть в оппозиции к своей власти, но он напрочь отказывал Пастернаку в точно таком же праве: быть в оппозиции к своей. Имея возможность свободно издаваться повсюду — в любой стране, на любом континенте, — самому выбирать издателя, публиковать все, что и как он сам написал, «прогрессивный философ» смел отчитывать за такую же вольность своего затравленного и уже покойного коллегу. Барским жестом отказавшись от премии, он забыл, что Пастернак сделал это же вовсе не добровольно, а под оголтелый вой взбесившихся семичастных — тех самых, кто «дома» его осуждал.
— Омерзительный Сартр, — прокомментировала Лидия Корнеевна рассказ о поступке хваленого европейского интеллектуала.
— Советский подголосок, — добавил Гладков.
Теперь, многие годы спустя, при любом упоминании имени «подголоска», я тотчас же вспоминаю, как припечатала его Лидия Корнеевна, притом с ее неповторимой, специфической интонацией — столь же непререкаемой, сколь и четкой. Позже, надо сказать, свое отношение к Сартру она смягчила: как и те же его друзья — Арагон и Неруда, Сартр выступил против расправы над Бродским, и это заставило Лидию Корнеевну изменить свою категорическую оценку.
К Пастернаку — из-за наших диалогов с Гладковым и, конечно, из-за этой скандальной истории с Сартром — мы возвращались не раз.
Лидия Корнеевна, выслушав мой рассказ, безошибочно «идентифицировала» ту женщину, что плакала на плече Паустовского: Ольгу Всеволодовну Ивинскую.
О ней Лидия Корнеевна отзывалась с величайшим презрением, рассказывая, как та крала (кто знает, так ли все это было?) посылки, отправлявшиеся знакомым в ГУЛАГ. Много позже эта версия была печатно изложена ею самой, так что возвращаться к ней необходимости нет. Я, ничего еще не зная ни об Ивинской, ни о том, какую в точности роль она сыграла в жизни Бориса Леонидовича, принимал на веру все, о чем бы Чуковская ни говорила. Тем более, что в сороковые годы она работала вместе с Ивинской в редакции «Нового мира» и, стало быть, имела информацию не из вторых рук.
Иногда до ужина, иногда после Лидия Корнеевна уходила к Ахматовой, которая жила неподалеку. Думаю, только ради того, чтобы быть от нее в непосредственной близости, Чуковская и отважилась на эту комаровскую — совсем не болдинскую — осень: бытовые условия дома творчества были (да и остались) на уровне очень скромном. Ни изумительный воздух, ни ностальгия по детству, которое прошло именно здесь, вряд ли подвигли бы ее искать приюта в неухоженном флигельке, если бы не соседство с Анной Андреевной и возможность встречаться с ней чуть ли не ежедневно.
К Ахматовой Чуковская меня с собой никогда не брала, но приносила оттуда то стихи «мальчиков» (Бродского, Кушнера, Наймана, Рейна), то другую «запретную» литературу и вручала с одним и тем же присловьем: «Разрешаю переписать». Так впервые пришли ко мне «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать», «Варфоломеевская ночь», запись суда над Бродским, которую сделала наша общая с ней приятельница Фрида Вигдорова 18 февраля и 13 марта шестьдесят четвертого года.
Вернувшись в Москву и встретив Фриду Абрамовну в редакции «Литературной газеты», я выразил свой восторг ее журналистским подвигом, напомнив в какой-то связи и о том, как Ивинская крала посылки. Только-только я начал этот рассказ, Фрица прервала меня:
— Немедленно остановитесь! Я знаю, что вы скажете сейчас, — все это я уже слышала от самой Лиды. Какое нам дело, была Ивинская плохой или хорошей? Он любил ее, и только это важно для нас. Оскорбляя его любимую женщину, вы оскорбляете самого Пастернака.
Когда многие годы спустя лубянские, архивные и союзписательские службы (как, впрочем, и представители другой стороны) пытались меня втянуть в судебный спор, который был затеян вокруг отобранных у Ольги Всеволодовны пастернаковских раритетов, я помнил только одно — Фридин крик: «Немедленно остановитесь!» Помнил, давая интервью передаче «Совершенно секретно», которая, «по просьбе трудящихся», была в эфире повторена дважды.
По правде сказать, мне тоже хотелось бы, чтобы весь архив Пастернака находился в одном хранилище, для всех и всегда доступном, а не распылился бы по частным рукам, распроданный теми, кто к самому Пастернаку никакого отношения вообще не имел. Но, понимая всю слабость своей правовой позиции, архивная служба прибегла к совсем другим «аргументам»: все силы были брошены лишь на то, чтобы низвергнуть, унизить, дискредитировать Ольгу Ивинскую, выдав ее, узницу ГУЛАГа, не за любовь и музу поэта, а за сексотку, наседку, стукачку…
Все секретные документы, будто бы подтверждавшие эту версию и разбросанные по разным официальным тайникам, сошлись в одном месте и вскоре оказались в копиях у меня: мне прислали их, чтобы моими руками превратить трагедию в заурядный и пошлый фарс. На это пойти я, конечно, не мог.
Документы, извлеченные из лубянских подвалов, я изучал с величайшей печалью. Не сомневаюсь: сам Пастернак простил бы Ивинской все, за что посмели (пусть даже не без оснований) ее упрекать
сменившие маски, усвоившие новый жаргон фарисеи. Несколько лет спустя наиболее броские фрагменты архива, с развязными комментариями, опубликовал «Московский комсомолец».
Возможно, в письмах из лагеря Лубянским начальникам и на Старую площадь есть и такие пассажи, которые видеть бы не хотелось. Которые отнюдь не возвышают Ивинскую… Возможно. И даже — наверно. Но нам ли судить задним числом тех, кто боролся на каторге за свою жизнь, если, конечно, борясь, он при этом не обрекал на муки кого-то другого? Или пусть даже просто лавировал, безуспешно стремясь вырваться из сетей, куда прожорливые хищники в генеральских погонах затягивали и не такую плотву?
В конце концов Ивинская — не Пастернак, а всего лишь его любовь. «Правая моя рука», как назвал он ее, хотя солидные комментаторы бесстыже пытаются теперь переадресовать эти слова другим женщинам. Вполне, наверно, достойным. Но все же не той, чья рука, как мечтал поэт, должна была утереть его слезы. Называя ее при этом не любовью, не музой, не другом поэта, а его «секретаршей».
Думают этим посмертно унизить. Ее… Но унижают такой примитивной ложью только себя.
В опубликованном дневнике Лидии Корнеевны есть такая запись от 18 ноября 1964 года: «Вечером я позвонила ей <Ахматовой> в Ленинград: рукопись <ахматовская> мною получена, и с первой же оказией я пришлю ей большое письмо». Так получилось, что этой оказией стал я.
Тем же вечером Лидия Корнеевна спросила меня во время прогулки, не собираюсь ли я в город. Надо же: как раз назавтра был уговор о встрече с Наташей Долининой — педагогом и писательницей, дочерью известного литературоведа Григория Гуковского, погибшего в чекистских застенках. Я был ее первым редактором: в издательстве Академии педнаук, с которым у меня были прочные связи, мне удалось создать серию популярных книжек, рассчитанных отнюдь не на авторство академиков. Первой в этом ряду стала Наташина книжица «Мои ученики и их родители». Ее забавляло ослиное это «и-и-их», которое придумали грамотеи в издательстве, но согласилась название не менять: издаться в Москве ленинградцу, если, конечно, он не был секретарем Союза писателей, удавалось не так уж часто.
Вот с Наташей мы и должны были встретиться у нее дома, чтобы поговорить о возможности новой книжки. И просто поболтать, тем более, что она хотела меня познакомить с дочерью, про которую — не без шутливого намека — сказала, что та уже «безусловно на выданье». Встречу с ужином мы запланировали на вечер, но мне ничего не стоило поехать в город пораньше, чтобы выполнить «важное поручение» Лидии Корнеевны. О том, каким оно будет, Чуковская сказала лишь на следующий день, вручая пакет — шепотом, как опытный конспиратор:
— Вы отвезете это к Ахматовой.
И еще тише, склонившись к моему уху:
— Пастернака вы видели, теперь увидите Анну Андреевну. Это будет для вас подарком — на всю жизнь. Моей благодарностью за ваш подарок.
Речь шла о памятном мне и ей эпизоде, имевшем место за несколько лет до этого. В издательстве «Искусство» вышла двумя изданиями моя книга «Издательство и автор» — первый, в сущности, рассказ об авторском праве, адресованный не юристам, а тем, кого эти проблемы задевают больше всего: создателям произведений. Книга обрела популярность в писательской и научной среде, а с издательством у меня установились добрые отношения: там вышло позже еще две моих книги. Замечательные редакторы, с которыми мне довелось работать — Глеб Александрович Виноградов и Аркадий Эммануилович Мильчин, — задумали выпустить и серию книг о редакторском мастерстве, ломая головы над тем, где найти для нее подходящих авторов. А я — бывают же на свете такие случайности — только-только узнал от Чуковской, что именно над такой книгой она и работает, да вот не знает, кто согласится ее издать. Остальное известно: книга «В лаборатории редактора» вышла в свети имела огромный успех далеко не только у тех, кого она профессионально касалась.
Отзвуком выпавшей нам удачи явилась надпись, сделанная Лидией Корнеевной на этой же книге: «Дорогому „наводчику“ Аркадию с пожеланиями успеха на всех путях». Слово, пожалуй, выбрано ею неточно. Я был не наводчиком, а скорее уж сводником, но принципиальной роли это, конечно же, не играло. Главное: с моей помощью автор и издатель нашли друг друга, и книга вышла в рекордно короткий срок, не подвергаясь цензурным наскокам. Вот это и было тем самым подарком, который Лидия Корнеевна имела ввиду…
Самое загадочное: поход к Пастернаку я помню отчетливо — до мельчайших деталей, а от встречи с Ахматовой остались в памяти какие-то разрозненные и случайные картинки, никак не складывающиеся в нечто цельное и объемное. Помню адрес (надо же: Ахматова живет на улице Ленина!), помню очень молодую женщину, открывшую дверь, — худенькую, со странной прической: копна уложенных сзади волос и какая-то неровная челка, закрывающая половину лица. Теперь я знаю, что это была Анна Каминская. Разочарованно (так мне показалось) она крикнула в глубину квартиры: «Это к тебе!»
Главное — помню неуютную, плохо прибранную (совсем не прибранную!) комнату, обставленную старой рухлядью, притом неумело и бестолково. Уже наступили ранние ленинградские сумерки — в комнате, под потолком, горела тусклая лампочка, укрытая матовым колпаком.
Ахматова — в красном халате с черными разводами — величественно сидела за маленьким письменным столом, старинным и некогда, наверно, красивым. С одной стороны на полу стоял таз без воды, с другой валялись журналы и разрозненные, исчерканные пометками машинописные листы. Та Ахматова, которую я видел в Колонном зале и которую создал в своем воображении, никак не соотносилась с той, что сидела теперь рядом со мной. Она сразу же спросила, пишу ли стихи. «Ах, нет…» — разочарованно протянула Ахматова. Стихи я, действительно, давно уже не писал, и мне стало стыдно, что судьба так меня обделила.
Ее низкий, певучий голос, медлительная протяжность, с которой произносилось каждое слово, действовали магически, не давая возможности сосредоточиться на его содержании. Смущала и та отстраненность, с которой она говорила: не глядя в глаза и — не смею утаить свое впечатление — слегка рисуясь.
— Редакторша, — сказала Анна Андреевна, — не хочет помещать три моих любимых ранних стихотворения. Подумаешь!.. Их и так каждый наизусть знает.
Оставалось лишь гадать, что же это за любимые три. В любом случае их действительно знали все наизусть. Но книги классиков, как известно, издаются не только для тех, кто никогда не читал публикуемые в них сочинения.
— Вообще-то, — продолжала она, — я не очень люблю изобретение Гутенберга. Тем более, когда его используют для издания меня в переводах. Почему-то меня всюду переводят из рук вон плохо. Есть только одно исключение: Литва.
На языке вертелся вопрос: разве она знает литовский, чтобы судить? Но его я, конечно, не задал.
Разговор перескакивал с одного на другое, ничем не заканчиваясь и уходя куда-то в песок. Не имела никакого продолжения даже близкая ей тема суда над Бродским. Я стал рассказывать что-то о Фриде, это вроде бы заинтересовало ее, — и тут же она заговорила о другом.
Кто-то ей сказал, будто предполагается изменить школьные программы по литературе, включив туда и Серебряный век. Предмет ее интересов был вполне очевиден, но у меня не хватило смелости сказать, что при нынешних условиях место для Ахматовой в любой измененной программе вряд ли найдется. Сказал другое:
— Что-то сомнительно. Ведь придется потеснить неприкасаемых. Например, Толстого, Чехова, Горького…
Она зацепилась за имена, стала спрашивать, изучают ли в школе «Анну Каренину». Этого я не знал, но тем же вечером мог бы спросить у Долининой.
— Не надо! — махнула рукой Анна Андреевна. — Наверное, изучают. У нас ведь любят таких писателей, которые лгут.
Что-то, видимо, изобразилось на моем лице, и Ахматова знала, что непременно изобразится. Потому-то, наконец, обратила свой взор на меня.
— Разве вы не видите кучу вранья в «Анне Карениной»? Разве может женщина не любить ребенка от любимого человека, терзаясь при этом от разлуки с ребенком оттого, кто ей ненавистен? Сплошное вранье! Толстой навязывает свою драгоценную мысль: женщина, ушедшая от мужа, проститутка, и больше никто. Почитайте в девяностотомном собрании его сочинений не вошедшие в роман главы — там прямо об этом написано.
Вряд ли ей хотелось дискутировать по вопросу, который, судя по ее интонации, она считала предельно ясным. Спросила:
— Вы, конечно, и Чехова любите?
Я охотно кивнул.
— Но за что же? За что?! Вся интеллигенция с ума посходила: ах, Чехов! А у него — что ни герой-художник, то дрянь. В «Попрыгунье» бездарность и развратник, в «Доме с мезонином» бездельник. Это не случайность, а позиция. Довольно паскудная, между прочим.
Уж тут-то возразить было нетрудно, но, снова скажу, никакой дискуссии не предполагалось: все эти оценки были сделаны просто «для сведения» и должны были восприниматься как непреложная истина.
Тут, наконец, она обратила внимание на пакет, который я ей доставил.
— Посмотрим, посмотрим, что нам такое прислали…
Но смотреть не стала: вскрыв пакет и даже не взглянув в содержимое, равнодушно бросила его на пол — возле себя. На пол — не означало, что выкинула: там уже лежали какие-то папки, листы, книга с заложенной страницей. Места на столе для пакета не нашлось.
Я уже тогда, не предполагая, во что потом это выльется, стал собирать свидетельства о метаниях Горького — к большевикам и обратно. И снова — к большевикам. Многие годы спустя итогом этого собирательства явится книга «Гибель Буревестника», вышедшая и у нас, и за рубежом. Среди самых известных и в то же время самых скрываемых в советские времена поступков классика пролетарской литературы было его заступничество за Гумилева, не приведшее к желанному результату. О том, как это было, я и осмелился спросить Ахматову — кому, как не ей, была известна вся правда?
— Ничего подобного не было! — отмахнулась Анна Андреевна. — Все это враки. Про то, что он ездил к Ленину, расплакался, уговорил… Вы это имеете в виду? Что Ленин пообещал Колю отпустить, а по телефону приказал немедленно расстрелять? Все — враки. Выдумка Горького. Или кого-то еще…
Мне хотелось «продолжить тему», расспросить поподробнее, но Ахматова смолкла, замкнулась, давая понять, что продолжения не последует. Я откланялся.
Знаю как факт
своей биографии: был у Ахматовой в ноябре шестьдесят четвертого и провел с ней около двух часов. И все!.. Даже того впечатления, которым поделились с читателем многие мемуаристы, — значительности, величия, надменности, властности, — ничего такого не ощутил. Женщина, которую я посетил, показалась мне одинокой, неухоженной, лишенной тепла и комфорта, всего, на что имеет право долго проживший, многое испытавший, больной человек. А уж Ахматова-то — подавно…
Великий поэт, автор «Реквиема» и «Поэмы без героя», остался в любимых мною стихах. Их чтение — в книге или по памяти — никогда не сопрягается у меня со зримым обликом той печальной, заторможенной, утомленной старухи с высеченным из камня лицом, с которой я имел честь разговаривать и которая проживала на улице Ленина в городе Ленинграде.
Лидии Корнеевне я, конечно, сказал, что в полном восторге и что нет меры моей благодарности за устроенный ею визит. По правде говоря, и не слишком лукавил.
Мы шли по комаровским аллеям — как всегда, вместе с Гладковым, — и Лидия Корнеевна, которую я держал под руку, то и дело толкала меня в бок, чтобы я не слишком откровенничал и вообще говорил потише. Дело в том, что уже не впервые увязался за нами какой-то тип, пребывавший в писательском доме творчества, но к творчеству ни малейшего отношения не имевший. Фамилия его была Захаров. Про себя сообщить что-нибудь этот тип не желал, зато гулять в писательском обществе желал непременно, — избавиться от него нам ни разу не удалось. Лидия Корнеевна была убеждена, что это специально приставленный к ней — именно к ней! — «доброжелатель», и, уходя к Ахматовой, повелевала мне его отвлекать, чтобы он не пошел вслед за нею. Этой детской игрой в конспирацию мы занимались до самого моего отъезда. Чуковская оставалась еще на целый, помнится, месяц, и я тревожился за нее: кто же теперь отвлечет Захарова, как она от него укроется, какой донос он на нее напишет?
Комичная и детективная, эта история нашла отражение в надписи на ее книге о герценовских «Былом и думах», сделанной полтора года спустя: «Дорогому Аркадию Иосифовичу на память о Комарове. Автор. 9.IV.66. P.S. О т. Захарове разрешаю забыть…» Забыть — потому, что никаких следов его филерства обнаружить не удалось, да и было оно, это филерство, плодом несчастного воображения, рожденного насаждавшимся повсеместно страхом. Просто попал по блату какой-то товарищ из чуждой среды в писательский дом и льнул к тем, кто жил в кругу иных, недоступных ему интересов. Жаждал общения, но получал отлуп. Вряд ли он мог предположить, что его простодушный порыв допускал порочное толкование, никакого повода для которого он вроде бы не давал. Только вот кто виноват, что в каждом знакомом и незнакомом все еще виделся сыщик?
За месяц до того, как я получил в дар эту книжку Чуковской, не стало Ахматовой. Она ушла через тринадцать лет — день в день — после того, как откинул копыта ее (и всех нас) учитель и благодетель товарищ Сталин. Лишь это мешает мне вместе с другом моим Левой Разгоном отмечать пятого марта счастливейший праздник — День Избавления.
Глава 8.
Обломок вершины
Я нежился, покачиваясь от легкой волны, на палубе теплохода в Игарском порту под лучами палящего солнца, когда принесли радиограмму от главы московской городской коллегии адвокатов Василия Александровича Самсонова: «Дорогой Аркадий вы включены группу юристов на конгресс международной ассоциации юристов демократов Софии тчк начинается оформление тчк необходимо ваше присутствие тчк возвращайтесь скорее».
Скорее, чем движется теплоход, я возвратиться не мог. До начала конгресса оставалось более двух месяцев. Но для «оформления» — в Болгарию, не в США! — и этот срок уже считался критическим.
Столь лестное предложение я расценил как утешительный приз — компенсацию за то, что меня не пустили в круиз вокруг Европы. Эти круизы стал и тогда пределом мечтаний для тех, кого несколько десятилетий отторгали от всего мира, запирая в замкнутом пространстве необъятных советских границ. Шутка ли: комфортабельное путешествие, да притом еще посещение Афин и Рима, Марселя и Барселоны, Парижа и Гамбурга, Копенгагена и Стокгольма!.. Краткие, но восторженные газетные корреспонденции подхлестывали и без того распаленное воображение, превращая заветный круиз в нечто сродни миражу. Я поддался соблазну, записался в соискатели и сразу же получил отлуп. Вероятно поэтому замена «всей Европы» на какую-то там Болгарию вызвала чувства, весьма далекие от восторга. К тому же известная формула «Курица не птица, Болгария не заграница» уже была в ходу, лишая возможности хвастануть перед кем бы то ни было, какой мне выпал счастливый билет. Могли я знать, что этот билет перевернет всю мою жизнь?
Международная ассоциация юристов-демократов (МАЮД) была, в сущности, филиалом советского пропагандистского аппарата — его порождением и его служкой, наряду со всякими там федерациями женщин и ученых, студентов и журналистов и еще с десятком, если не больше, других. Роль агитаторов успешно играли давно завербованные в агенты советского влияния западные «демократы-интеллектуалы». Они тешили себя иллюзией независимости и ловко рекрутировали в свои ряды других леваков разнообразной окраски, иногда с солидными именами и хорошей репутацией в своих странах. И даже в мире.
Все они — циники и демагоги, реже слепоглухие фанатики и романтики-идеалисты — получали советские подачки, иногда в слегка завуалированной форме, исполняли «социальные заказы», приходившие из Москвы, пудря мозги легковерным мнимой объективностью своих — откровенно прокремлевских — суждений по любому вопросу, который ставился перед ними. Не уверен, что реальный эффект этой агитпроповской липы был хоть сколько-нибудь велик, но вокруг таких федераций и ассоциаций кормились полчища явных аппаратчиков и тайных офицеров спецслужб — они, в свою очередь, врали своим хозяевам, убеждая высокое партийное начальство в исключительной пользе для дела социализма этих дорогостоящих кормушек и в их огромном влиянии на мировое общественное мнение.
Подлинную функцию МАЮД я тогда представлял достаточно смутно, но вряд ли задумывался над этим, предпочитая считать предстоящую поездку просто как предтечу будущих круизов: все уже знали, что Болгария, если пребывание там прошло без инцидентов, открывает двери в «настоящую» Европу.
Группа состояла главным образом из ученых, но в нее включили и несколько адвокатов — с учетом того авторитета, которым пользовалась эта профессия на Западе. Очередная советская туфта: ведь в своей стране адвокатура была не более чем декоративным придатком машины репрессий и никакой реальной роли в осуществлении правосудия не играла.
Поездке предшествовал визит в ЦК: какой-то аппаратный толстопуз гнусавым голосом давал инструкцию о «правилах поведения» за рубежами нашей страны. Доверительно и дружески (а как же иначе?) он предупредил о неизбежных провокациях со стороны «все еще окопавшихся в Болгарии русских белогвардейцев» и повелел каждому подписать «справку», где говорилось, что «с правилами поведения советского гражданина за границей» такой-то ознакомлен и обязуется их исполнять. Среди правил было еще и такое: не вступать ни в какой самовольный контакт ни с кем из жителей данной страны, а при попытке кого-то из жителей такой контакт установить немедленно поставить об этом в известность руководителя группы.
Руководителем был сотрудник правовой секции ВОКСа (будущий ССОД) Валя Нестеров — впоследствии мы с ним успешно сотрудничали, когда он, сколько-то лет отслужив в аппарате ЦК, перешел на работу в международный отдел Госкино. Валя отлично видел, что, по крайней мере, один пункт пресловутых правил я нарушил, но закрыл на это глаза. Впрочем, нарушение случилось под самый конец, а до этого я исправно нес те обязанности, которые на меня возлагались: ходил на все пленарные заседания, участвовал в работе одной из комиссий, вносил коррективы в проект резолюции… Практический эффект многодневной болтовни был заведомо нулевым, но люди приехали все же занятные, в том числе и несколько знаменитостей — из, казалось бы, уже далекого прошлого.
Знаменитостью номер один был сам президент МАЮД Денис Ноуэлл Притт, британский юрист, имя которого сейчас мало кто помнит. тогда оно все еще гремело — не только в болгарской, но и в советской печати.
Королевский адвокат и один из самых известных в стране ораторов, Притт организовал осенью 1933 года так называемый «контрпроцесс» — общественный трибунал из числа очень видных юристов и политических деятелей нескольких стран для проверки справедливости обвинений, выдвинутых нацистами против «поджигателей» Рейхстага. Этот трибунал, предвосхитивший и в чем-то повлиявший на оправдательный приговор, который гитлеровские судьи вынесли позже Георгию Димитрову и его товарищам, стал прообразом будущих международных общественных слушаний по острейшим конфликтным ситуациям и проблемам более позднего времени, в том числе и слушаний о нарушении прав человека в Советском Союзе. Сам же Притт никогда — ни прямо, ни косвенно — ничего дурного о советской политике, внешней и внутренней, не говорил, всегда ходил в «верняках», считался одним из самых надежных, то есть «своих», за что и сподобился через год после смерти Сталина международной премии все еще его имени (в Ленинскую ее переименовали позже).
О преступлениях сталинизма, хоть и робко еще, но уже говорили вслух, тем не менее одной из главнейших заслуг Притта перед Кремлем по-прежнему оставалась его безоговорочная и страстная поддержка московских процессов тридцатых годов. Авторитетный юрист, член Палаты общин — вот какое заявление сделал он, посетив Москву в 1936 году «Я лично убежден в том, что не имеется ни малейшего основания предполагать наличия какой-нибудь незаконности в содержании и форме процесса. Я считаю весь процесс <речь идет о первом из трех Больших Московских процессов — суде над Зиновьевым и Каменевым> и способ обращения с подсудимыми образцом для всего мира в случае, когда подсудимые обвиняются в заговоре с целью убийства руководящих государственных деятелей и свержения правительства, в чем подсудимые признались. По моему мнению, при подобных обстоятельствах суд любой страны вынес бы смертный приговор и привел его в исполнение».
В близком контакте с Приттом я провел один вечер, когда созданная конгрессом редакционная комиссия вырабатывала проект резолюции о гарантиях прав подсудимых в суде. Жертвами нарушений признавались, естественно, «узники капиталистических тюрем», «борцы за права трудящихся в буржуазных странах». Что же касается политических узников в иных, «не буржуазных», странах, то таковых, было сказано в резолюции, вообще не существует, поскольку «после XX съезда КПСС осуществлено исправление отдельных ошибок прошлого», а права подсудимых законами всех социалистических стран «надежно защищены». Притт был не слишком эмоционален и энергичен — скорее многозначителен и малословен, но мне показалось, что все эти пышные говорильни ему до смерти осточертели. Тем не менее он с полным сознанием важности порученной ему работы доводил дело до финальной точки.
Над сочинением резолюции мы корпели целый вечер. Мы — это еще человек двадцать, среди которых я помню двух очень влиятельных в своих странах политиков и юристов: Умберто Террачини, итальянского сенатора, члена руководства ИКП, и Джона Плэттс-Миллса, английского лейбориста, члена Палаты общин. Говорить о ситуации в Советском Союзе — прошлой ли, нынешней — они старательно избегали, зато не жалели дегтя, чтобы вымазать им страны, в которых жили. «Ничего более несправедливого, чем капиталистическое общество, человечество придумать не могло», — с завидной категоричностью заявил Плэттс-Миллс сначала под аплодисменты на пленарном заседании, потом под одобрительные возгласы членов редакционной комиссии.
Сам он меньше всего походил на жертву несправедливости — излучавший довольство, спортивный, несмотря на не очень-то юный возраст, безупречно, со вкусом одетый. Он горделиво сообщил нам, что вышел «из самых низов», «из беднейших рабочих», но это почему-то не помешало ему завершить престижный колледж, овладеть тремя иностранными языками, сделать блестящую политическую карьеру. Социальная несправедливость, однако, по-прежнему угнетала его: самые хлесткие прилагательные для характеристики мерзкого капитализма принадлежали в проекте подготовленной резолюции как раз ему.
Был в редакционной комиссии и еще один юрист, которому я тогда не придавал большого значения: парижский адвокат Шарль Ледерман, маленький, кругленький, очень живой, с необыкновенно цепким умом и темпераментной речью. В его — случалось, совсем коротких — репликах ощущался пафос прирожденного французского оратора, хотя сам Ледерман был родом из Польши и не имел ни одной капли французской крови. Видимо, ораторское искусство передается французским трибунам не генетически, а средой, в которой они обитают. Ледерман шел еще дальше Плэттс-Миллса и громил проклятых буржуев с такой бешеной страстью, на которую уже не были способны даже советские делегаты. Наше знакомство, тогда казавшееся случайным и кратковременным, будет иметь любопытное продолжение — о нем я расскажу в последующих главах.
Честно говоря, я без особого внимания слушал дискуссии на конгрессе и редактировал резолюцию. От этих жгучих политических проблем мысли мои были тогда далеко. Воображение занимала юная переводчица группы — прекрасно говорившая по-русски болгарская студентка-юристка. У нее было странное на наш слух имя: Капка. В переводе с болгарского это означало всего-навсего Капля. Ее серо-зеленые глаза смотрели на нас, советских гостей, с восторгом и восхищением. «Москва!..» — мечтательно произносила она, вкладывая в это слово какой-то особый, только ей понятный смысл. В ней была трогательная наивность, открытость, готовность к познанию — все то, что плохо сочеталось с набором штапмованных блоков, которые то и дело срывались с ее языка: «Советский Союз — оплот мира во всем мире» или «Болгарский народ всегда был и всегда будет верным другом советского народа». Слышать эти лозунги из уст очаровательной девочки было скорее забавно, чем странно. Легкий акцент придавал ее правильному русскому языку особую прелесть.
Она распределяла билеты в Оперу для участников и гостей конгресса, и вряд ли случайно наши места оказались рядом. По случаю такого события в Софию с зарубежных гастролей были вызваны лучшие болгарские певцы — все они участвовали в спектакле. Давали «Бориса Годунова», пели великие Борис Христов, Николай Гяуров, Димитр Узунов. Не только я не мог скрыть своего восхищения. От гордости за свою Болгарию Капка сияла, как медный самовар, словно это пели не они, а она. После спектакля она повела меня в обычную забегаловку, которая показалась мне почему-то роскошным рестораном. Ели мы так называемый «русский салат», который к настоящему русскому салату не имел ни малейшего отношения. Но она гордилась и этим: вот как здесь чтут русских братьев-освободителей, даже самый популярный в народе салат назван в их честь. Я согласно кивал, даже не слишком фальшивя: мне здесь искренне нравилось все…
В последний вечер мы довольно быстро смылись с заключительного приема, на который пожаловало все болгарское политбюро, и пошли бродить по улицам. Время от времени я мучительно пытался вспомнить, какой именно пункт инструкции я нарушил: не то седьмой, не то восьмой. Как бы то ни было, «вошел в самовольный контакт с жительницей данной страны» и не поставил об этом в известность руководителя группы. И не просто «вступил в контакт», а вернулся в гостиницу, где еще с тремя другими компатриотами занимал гигантский двухкомнатный апартамент (в каждой комнате было метров по пятьдесят), около двух часов ночи, уклонившись, таким образом, от участия в дружеской пирушке, которая началась сразу же вслед за официальным приемом. Этих грехов было достаточно, чтобы стать невыездным.
Меня почему-то это совсем не тревожило. Я думал о том, как мне не потерять Капку. Мы дали друг другу слово сделать все, чтобы встретиться как можно скорее. В тех реальных условиях, которые тогда, в шестидесятом году, существовали, ей было проще приехать в Москву, чем мне в Софию. Даже в «наши» страны по частному приглашению пускали только близких родственников. Туристские поездки были великой редкостью, да и какими глазами посмотрели бы на меня, только что вернувшегося из Болгарии и снова рвущегося туда же? Ответ был очевиден, как очевидно и то, какие именно органы мной занялись бы.
Отец Капки, один из руководителей софийской адвокатуры, работавший ранее в горкоме партии и состоявший в нелегальной болгарской компартии еще с середины тридцатых годов, сохранил дружеские связи со многими из тех, с кем он начинал в подполье и кто теперь занимал высокие посты в разных партийных и государственных сферах. Наиболее полезным оказался, естественно, тогдашний болгарский посол в Москве Любен Герасимов, один из ближайших друзей отца с молодых лет. В гости к нему Капка и приехала через три месяца после того, как мы с ней расстались. Он же первым и узнал — за ужином, на который нас позвал, — что мы решили пожениться. Для этого Капке надо было стать его гостьей еще раз. Герасимов немедленно согласился: он был славный и отзывчивый дядька
Советское консульство в Софии снова выдало ей разрешение погостить у болгарского посла в течение одного месяца. Нам казалось, что за этот срок мы успеем и обзавестись штампами в паспортах, и даже махнуть на Кавказ. Капка имела право на любую наивность, но я?! Регистрации полагалось почему-то ждать не менее двух месяцев: считалось, что так проверяются чувства. Мы с трудом умолили директоршу загса на Кутузовском проспекте обвенчать нас в предпоследний день действия визы, чтобы спустя три часа Капка уже села в поезд и на следующий — последний — день пересекла границу за полчаса до истечения срока. Попытка продлить визу окончилась полным провалом: в ОВИРе нам грубо сказали, что оснований для продления нет. Герасимова не было в Москве — на август он уехал в отпуск, его заместители и помощники не захотели вмешиваться в столь деликатную ситуацию. Что в ней было такого уж деликатного — этого понять нам не дано.
«Венчание» походило на некий тайный обряд. Ненавистник каких бы то ни было шумных празднеств по личному поводу, я и на этот раз не поставил в известность о предстоящем событии никого, кроме одной пары знакомых, да и то лишь потому, что кто-то был должен играть роли свидетелей жениха и невесты. Они и, разумеется, моя мама — вот и все участники церемонии и последовавшего за ней торопливого обеда. У Капки вообще не было в Москве ни одной знакомой души. Через несколько часов поезд уже увозил мою молодую жену в родительский дом. Только юмор мог как-то скрасить нелепость той ситуации, в которую нас поставили бдительные стражи советской морали.
Теперь уже я мог ехать в Софию на правах законного мужа. Для этого все равно надо было получить характеристику от пресловутого «треугольника» и терпеливо ждать овировской милости. Заподозрив неладное (о своей женитьбе я не счел нужным кого-либо ставить в известность), заведующая нашей юрконсультацией Нина Сергеевна Кривошеина тянула резину, явно держа совет в каких-то неведомых сферах. Впрочем, сферы скорее всего были ведомы: ее родная сестра Ольга Сергеевна являлась ни больше, ни меньше директором Центрального музея Ленина и, стало быть, относилась к высшей номенклатуре ЦК. Ее связи, равно как и ее идеологический фанатизм, были всем хорошо известны. Думаю, сестрицы доложили что-то кому-то: процедура моего оформления растянулась без малого на полгода.
София встретила меня мокрой февральской метелью. Мы уединились в курортном пригороде столицы — Банкя, почти на две недели отказавшись от всякой связи с внешним миром. Скорее, впрочем, наоборот: после ада московских глушилок я наконец-то имел возможность всласть и без всяких помех слушать «враждебные голоса». Капка смотрела на меня с ужасом и непониманием: в ее представлении я был не только любимым мужем, но и «уважаемым советским товарищем». Ей вдруг открылся совсем иной лик человека, с которым она связала свою жизнь. Еще больше ее потрясло известие, что я не состою в партии. «Как же ты тогда попал на конгресс?» — с известным резоном спросила она, а я был не слишком находчив в ответе: такой нелепый вопрос мне в голову не приходил.
Наступила пора нежданных открытий для обеих сторон: я начал постигать, что идеологические тиски в Болгарии еще круче, чем в Советском Союзе эпохи позднего хрущевизма. Капка умоляла меня никому здесь не говорить о моей беспартийности. В кругу тех, с кем она общалась, это означало бы только одно: не благонадежен. Или другое: «буржуазного происхождения». Но тогда — как я попал в Болгарию? Да еще позволил себе жениться на дочери старого коммуниста! «А если спросят, — соврать?» — донимал я Капку. «Никто не спросит, это предполагается само собой». И верно: до поры до времени, пока не вмешались спецслужбы, этой темы никто вообще не касался. Все со мной говорили, как с «советским товарищем-коммунистом», не испрашивая никаких доказательств и не задавая лишних вопросов. Никого и ни в чем не обманывая, я одним только молчанием фактически сделал себя самозванцем.
В марте мы переместились в Софию. Несмотря на часто валивший мокрый снег, переходивший порою в ливень, город отнюдь не казался вымерзшим и серым. Его украшением были бело-красные «мартеницы» различной формы — непременная в этот сезон деталь верхней одежды буквально каждого софиянина. Двуцветные шарики, бантики, туфельки или какие-нибудь зверюшки из плюша, шерсти, а то и просто дешевой материи — знак поклонения «бабе Марте», покровительнице пришедшей весны. На меня навесили столько «мартениц», что я ходил, как ряженый, не смея снять ни один из даров, чтобы не обидеть дарителей. Мы наносили визиты родным, друзьям и знакомым Капки — это было вхождение в иной мир, с иными обычаями и нравами. В мир подлинный, а нетуристско-декоративный.
Мама отправила со мной рекомендательное письмо — человеку, имя которого мне тогда ничего не говорило. Письмо написала ее клиентка, которая вскоре стала приятельницей. Полковник в отставке Наталья Владимировна Звонарева занимала раньше какой-то очень солидный пост в военной разведке, и это, видимо, лишило ее возможности уделять достаточно времени воспитанию сына. Еще подростком он приобщился к воровской среде и узнал, что такое ГУЛАГ, хотя и не в самом страшном его варианте. Материнские заслуги ему не помогли, да и по правилам большевистско-чекистской этики хлопотать за родных не полагалась. Хорошо еще, что не выперли фазу с секретной работы… Впоследствии мама еще дважды вытаскивала на свободу непутевого сына Натальи Владимировны, и это заставило ее проникнуться особой симпатией к нашей семье.
Она-то и передала мне через маму письмо к генералу Ивану Винарову, не дав при этом никаких уточнений: мама, с ее слов, сказала, что надо теперь заводить знакомства в Софии и что этот человек может мне пригодиться. Без большого энтузиазма я сказал Капке, что нам придется с ней посетить «какого-то генерала». Услышав его имя, Капка сочла меня просто безумцем:
— Какого-то генерала!.. Ты слышишь, что говоришь? Иван Винаров — живая легенда.
«Легенда» оказалась просто-напросто советским шпионом, завербованным — не Лубянкой, а военной разведкой — еще в 1924 году. Там он и сотрудничал с Натальей Владимировной. Никаких подробностей я тогда, конечно, не знал. Очень любезно нас принял статный мужчина с гордо поднятой головой, — держался, как генерал на параде, а не в домашнем кругу. В письме было, видимо, что-то лестное про меня, потому что Винаров стал доверительно сыпать какими-то именами, которые, как он полагал, я должен был знать. Но я не знал никого, и вскоре он понял, что жестоко ошибся. Капка не сводила с него восхищенных глаз, а он быстро увял, и наше кофепитие продолжалось уже не в дружеском, а уныло протокольном ключе.
Я жалею, что по тогдашней своей темноте и очевидному легкомыслию не использовал подвернувшийся шанс, чтобы войти в близкий контакте человеком, конечно, не легендарным, но знавшим немыслимо много из того, что не знал никто. И который, при всей своей сдержанности, мог бы, наверно, многое рассказать, раз уж меня рекомендовала ему сама Звонарева! Гораздо позже, когда Винарова уже не было в живых, я узнал, что для советской Москвы он шпионил в Китае, Австрии, Турции, Франции и, конечно, во всех балканских странах, что причастен к таким операциям, о которых до сих пор почти ничего не известно. тогда же, помню, промелькнула другая мысль: каким образом может считаться в своей стране героем тот, кто ей изменил? По нормальной, человеческой логике — в лучшем случае для него — новый режим мог ему простить былую измену, но сделать героем!.. Нормальной логикой — в моем понимании — тут и не пахло.
Хорошо еще, что не успели сделать национальным героем советского шпиона с 1934 года — посла Болгарии в СССР — Ивана Стаменова, которого сразу после нападения Германии на Советский Союз Берия пытался склонить к ведению секретных переговоров с Гитлером. Не успели лишь потому, что шпионские доблести Стаменова оставались под строжайшим секретом до тех пор, пока в Болгарии не сгнил вассальный просоветский режим.
Винаров — мне кажется, без большой охоты — довел до конца так славно начавшийся и быстро превратившийся в светский наш разговор, первым поднялся и любезно проводил до двери. Приглашения «захаживать» в гости, естественно, не последовало. «Привет Наташе» был сухим и нарочито формальным.
— Как ты мог быть таким невежливым?! — накинулась на меня Капка, едва мы вышли из подъезда, хотя, право же, невежливым был не я, а скорее хозяин. Так и не понял я, чем остался он недоволен. Вероятно, тем, что принял меня за кого-то другого и был зол на самого себя. Но с тех пор «невежливым» в болгарских домах я уже не бывал, хотя дома были самые разные. Чаще всего, слава Богу, — теплые и душевные.
Простота нравов удивляла только в первый момент, потом вековые обычаи стали казаться чем-то естественным, органичным. Гостей всюду встречали стаканом воды и блюдечком варенья, иногда добавляя к этому плохой шоколад: «Чтобы вам было сладко», — говорила при этом хозяйка дома. Непременную сливовую или виноградную ракию (то есть фруктовую водку) сопровождала одна и та же закусь: порезанные помидоры и огурцы вместе с ломтиками брынзы — из общей миски каждый брал их своей вилкой, персональные тарелки не полагались.
Однажды, попросив чая, я увидел широко раскрытые, испуганные глаза сразу у всех собравшихся: «Вам плохо? Дать лекарство? Вызвать врача?» — раздались голоса. Капка забыла меня предупредить, что чай здесь пьют как лекарство от сильной простуды или общего недомогания, во всех остальных случаях, притом в любое время суток, подавался лишь кофе.
С этим еще можно было смириться — привыкнуть к застольной лексике оказалось гораздо труднее. Принимая советского гостя, каждый считал своим долгом нудно распространяться про нерушимую советско-болгарскую дружбу, именуя меня «братом-освободителем», а всех моих соотечественников — «братушками» и «нашими спасителями во все времена». Лучшим русским писателем все считали Николая Островского, но лучшим романом — не «Как закалялась сталь», а «Молодую гвардию»: имя ее автора почему-то мало кто помнил. В компании родственников или близких друзей семьи мне неизменно предлагали выпить за «братушек-освободителей», за «дорогого товарища Хрущева», за «товарищей руководителей великого Советского Союза» — и это ни при каких условиях нельзя было обратить в шутку.
Вскоре я почувствовал, что начинаю сходить с ума: даже в самых кондовых, самых ортодоксальных советских домах до такой дешевки все-таки не опускались. Речь митинговая и речь домашняя у нас, в отличие от Болгарии, друг от друга существенно отличались. Сначала мне казалось, что эти спектакли разыгрываются специально ради меня, потом я убедился, что таков едва ли не общепринятый стиль жизни и общения даже на семейно-родственном уровне. «Читал ли ты выступление товарища Живкова?» — спрашивал меня за ужином тесть. «Мы сегодня изучали речь товарища Хрущева», — докладывала школьница — сестра жены. Хотя бы в домашнем кругу про этих «товарищей» мы у себя, в Москве, не вспоминали. Приходилось учиться заново.
Впрочем — насчет общепринятости я, наверно, погорячился. Когда в круг моих знакомств, а потом и в дружеский круг вошли иные люди, стиль общения, а значит, и лексика собеседников, несколько изменились. К своей радости я убедился, что не все столь безумно зашорены и не все так панически боятся друг друга. Профессор-юрист Борис Быров, обладатель двух университетских дипломов — германского и австрийского, — без всякой утайки сказал мне, что за пять веков рабства болгары научились хитрить, чтобы выжить, и что число оболваненных «народной властью» все-таки меньше, чем мне могло показаться. Навязанный стране режим он называл тираническим, а тот, царский, который считался фашистским, «был действительно довольно противным, далеким от демократии, но в сравнении с нынешним он на деле гарантировал основные свободы. Хотя бы такую, как свободу уехать».
Я познакомился с одним из самых крупных болгарских историков и теоретиков театра — профессором Гочо Гочевым: он ухаживал за молодой женщиной, учившей Капку русскому языку. До 1944 года Гочо был страстным коммунистом-подпольщиком, сидел в тюрьме, был приговорен к смертной казни. Его спасли советские войска и утвердившаяся в стране на их штыках «народная власть». Гочо сразу проникся ко мне доверием — Зоя (его подруга) и Капка с ужасом слушали то, что он говорил, наконец-то найдя (это было вполне очевидно) давно желанного собеседника:
— Аркадий, ты, по-моему, умный парень, вы все там в Москве должны быть умнее нас! Объясни, что теперь называется социализмом? Тот кошмар, который вы нам принесли? Как может вынести эту казарму нормальный человек? Сколько можно жить с замком на устах? И вот за этот бардак я боролся, рисковал жизнью, был на волосок от смерти! Несмываемый позор…
Еще с большей определенностью высказывался очень известный в стране журналист Алберт Коэн, тоже участник болгарского Сопротивления. Совсем недавно он руководил всем национальным радиовещанием, но был изгнан со своего поста и пробавлялся в журнальчике «Болгарское фото», правда, главным редактором. Он не сразу осмелился объяснить мне причину своего краха. Присматривался, выжидал. Потом сказал — с искренней горечью:
— Как же это могло случиться, что не германские нацисты, которые здесь безраздельно хозяйничали лет десять, а советские товарищи принесли в Болгарию такой звериный антисемитизм? Ведь Болгарии он органически чужд. Даже царь и депутаты парламента спасали евреев от депортации! А теперь в документах появилась графа «национальность». Ее же у нас никогда не было… А для идеологической сферы — ты только подумай! — ввели процентную норму, и я, старый коммунист, боровшийся за эту власть, в квоту не попал. Неужели вы это называете социализмом? Будь начеку, тебе еще достанется за твою фамилию.
Языкового барьера не было — практически все, с кем бы я ни встречался, лучше или хуже говорили по-русски. Скорее лучше, чем хуже. Но Капка иногда долго болтала по телефону в моем присутствии на родном языке, а я не мог ничего разобрать. Была не ревность, а чувство душевного дискомфорта. И я твердо решил освоить язык, не довольствуясь тем, что и без этого меня все понимают: оказалось, не менее важно понимать все самому.
Началось с первой выученной мною фразы — для магазина: «Есть ли у вас мужские нейлоновые носки?» (в тот год этот дефицитный товар стал в Москве особенно модным). Месяца через полтора я мог поддерживать по-болгарски довольно сложный разговор на любую тему, через три моя речь практически мало чем
отличалась от речи болгарина, разве что акцентом. Это сблизило меня с новыми друзьями еще больше: русские эмигранты, прожившие в Болгарии по тридцать и сорок лет, в большинстве своем язык так и не освоили. Не потому, что труден. Потому, что не видели в этом особой нужды. И от лени своей (скорее — от спеси) многое потеряли.
Я не фазу заметил, как влюбился в Болгарию. Не оттого только, что это была родина жены. Страна как бы отделилась от дома, от новой моей семьи, зажила в сердце и в душе сама по себе. Пожалуй, нигде — ни раньше, ни позже — я не встречал такой сердечности и отзывчивости, как здесь: близость возникала немедленно, после нескольких слов и рюмки ракии. Мне нравилась облагороженная тонкой примесью европеизма типично восточная неторопливость, ощущение растянутого времени, избавляющего от спешки, от безумного ритма жизни, когда в суетливой погоне за чем-то якобы важным не видится ничего вокруг, а время бесславно уходит, как сквозь пальцы песок… Здесь время как бы замедляло свой бег, способствуя сосредоточенности и углублению в самого себя. Я и сейчас каждый день, проведенный в Болгарии, считаю за два: благословенное продление жизни, доставшееся простейшим путем.
Возвращение в Москву было возвращением в постылую реальность. Постылую — потому что перед все той же настырной мадам Кривошеиной (а через нее и перед теми, с кем была она в служебном контакте) пришлось отчитаться, почему я «нарушил трудовую дисциплину», самовольно продлив даже сдвоенный отпуск. И чем вообще занимался так долго в чужих краях. Подтекст был, конечно, еще коварней: какие тайные мысли вынашивал я в своей голове, чуть ли не втихаря пребывая за рубежом? Болгария уже давно считала себя шестнадцатой союзной республикой, а мои бдительные московские стражи видели в ней ненавистную им чужбину.
Все было вроде бы прозрачно до очевидности, таить мне было решительно нечего, но беззастенчивое вторжение в личную жизнь вызывало чувство величайшего омерзения. Соврать было легче, чем сказать правду. Я предпочитал выглядеть лукавым, таинственным, подозрительным, неискренним (любимое словечко партобвинителей), дважды и трижды себе на уме, пусть даже держателем и носителем каких-то секретов, — кем угодно, лишь бы не позволить кому-либо копаться в моем белье. Тем паче — в душе. Навести тень на плетень, но не впустить никого туда, куда вход открыт только для самых близких.
Врал беззастенчиво, но про женитьбу никто так и не выжал из меня ни единого слова. «Службы» все знали и без моего рассказа: их присутствие рядом я ощущал постоянно и повсеместно. Остальные пусть от них же и узнают! С тех пор за мной укрепилась репутация человека, который чего-то не договаривает и все время что-то скрывает. С этой маской, как ни странно, в родной державе жить оказалось проще, а не трудней. Напуская побольше тумана, я позволял создавать про себя какие угодно легенды, но зато приблизиться ко мне без моего желания и разрешения так никто и не смог.
Все тот же Любен Герасимов помог получить Капке направление в аспирантуру московского института международных отношений. Это фазу, хотя и на время, решило множество проблем. По счастливому совпадению я в это же время въехал в новую кооперативную квартиру. Так мы бросили якорь в Москве, лишь на лето уезжая в Болгарию. Тайна супружества постепенно открылась — я ждал вопросов, но их-то и не было. Было другое: очевидное отчуждение. Банальную и пошлую фразу: «Своих не нашлось, только чужие годятся!» — я слышал с тех пор множество раз. В ней был и комплекс неполноценности, и годами вбивавшийся в голову синдром так называемого советского патриотизма.
«Якорь», как оказалось вскоре, надолго в Москве не закрепился. Но и в Софии — для постоянного пребывания — места тоже ему не нашлось: слишком прочно каждый из нас был связан со своим городом, со своей страной. Началась кочевая жизнь: два месяца там, два месяца здесь, потом по месяцу врозь, потом опять вместе — в Софии или в Москве. Советское консульство в Софии, от которого зависели приезды Капки в Москву, смирилось с этой ситуацией быстрее, чем московский ОВИР: его «инспекторы» и «инспекторши» все время предлагали мне «кончать с туризмом и наладить нормальную семейную жизнь». Одну, особо настырную даму я довольно грубо попросил не выталкивать меня из страны. Она заткнулась.
Постепенно такой образ жизни стал привычным. Также поступил мой школьный друг, кинодраматург и критик Юра Ханютин: женившись на художнице болгарского кино Марии Ивановой, он, как и я, стал «кочующим мужем». А вот Савелий Ямщиков, художник и реставратор, — не выдержал: именно по этой причине его брак с искусствоведом Велиной Братановой вскоре распался.
Был и еще один «болгарский муж», с которым я тогда не был знаком: о русском поэте Владимире Соколове говорили в Софии едва ли не с придыханием. Не только те писатели, что вместе с ним учились в Москве, но и вообще весь интеллигентный круг почитал его как большого поэта, отзывался восторженно, ценя талант, скромность и душевность: именно это, последнее, слово повторялось чаще всего и поэтому, наверно, так хорошо запомнилось. Болгарская жена Володи, Буба, осталась с ним в Москве, жить на две страны они не собирались: вне стихии родного языка и без привычного окружения Володя просто зачах бы. Это я понял потом, когда с ним познакомился. Бубы уже не было, она страшно, немыслимо страшно наложила на себя руки — говорят, спилась, но и эта пагубная страсть не причина, а следствие: убежден, что в основе всего была тоска по дому, по софийскому воздуху — и в прямом, и в переносном смысле этого слова.
Стихов о Болгарии у Володи немного, но те, что есть, передают то ощущение, которое осталось после первой же с ней встречи: «Обломок вершины, / Развалины выступов горных / Лежат, как руины / Акрополей, некогда гордых». Как бы ни были ему горьки воспоминания о стране, которая неизбежно сопрягалась в его сознании с мыслью о Бубе, Володя сохранил к Болгарии нежнейшие чувства. И не только потому, что там осталась дочка Снежана. Совсем незадолго до смерти его снова потянуло в Болгарию — коротко, без малейшей рисовки, он мне объяснил: «Просто хочется подышать». Володя знал, что я точно пойму его. Подышать — не только в физическом смысле.
Поездка в Болгарию была для него не просто потребностью — предчувствием скорого конца. Чем-то вроде прощания. А денег не было. ПЕН как раз находился тогда в критической фазе, на полном нуле, хотя только на нашу помощь Володя рассчитывал. Ничего ему не говоря, мы скинулись — собрали вскладчину на один билет. На второй, для верной его Марианны, пороху уже не хватило. Он не взял бы и на один, если бы знал, как эти деньги достались. А получилось — пожмотничали: снизошли до половины того, о чем он просил. Мысль о том, что он мог так подумать, не дает мне покоя…
Володя был человеком кристальной чистоты, душевной цельности и высочайшей порядочности. О стихах не говорю: они останутся навсегда, цена их будет расти в читательском восприятии год от года. Не очень далекие и очень дурные люди называют его предателем — оттого, что, хорошенько в них разобравшись, не залаял вместе с их стаей, а тихо отошел в сторону. Без кликушества, без деклараций. Они просто ошиблись — он никогда не был с ними. И поэтому не мог их предать. Он вообще был ни с кем — только со своей совестью и со своими стихами. И спокойно, с ироничной усмешкой, смотрел на тех, кто вьется вокруг, борясь за его тело и душу.
Широко известны ставшие хрестоматийными стихи Соколова — «патриоты» толкуют их как обличение демократии, посткоммунизма: «Я устал от двадцатого века, От его окровавленных рек. И не нужно мне прав человека, Я давно уже не человек». Стихи эти опубликованы в марте 1990 года, написаны годом раньше и посвящены эмигрировавшему в Израиль актеру Валентину Никулину. (еще в 1960-м он посвящал стихи и другому будущему эмигранту — Юзу Алешковскому: «Вдали от всех парнасов, От мелочных сует…») К тому же — имеют не цитируемое обычно продолжение, которое все расставляет на свои места: «Я давно уже ангел, наверно, Потому что печалью томим, Не прошу, чтоб меня легковерно От земли, что так выглядит скверно, Шестикрылый унес серафим». Злоба и ненависть, без которых не могут и минуты прожить те, кого он «предал», была совершенно чужда ангелу поэзии Владимиру Соколову, жившему другими интересами и вообще в другом измерении.
В той же огоньковской подборке есть, кстати, и еще одно Володино стихотворение, а в нем такие строки: «Когда во мне убивали гения, Хорошая, помню, была погода». Гения убивали в нем множество раз — задолго до того, как мнимые друзья вознамерились причислить его к отступникам. Убивали по-разному. В том числе и пылкой любовью. Но убить не смогли.
Постепенно я вполне освоился в Болгарии и стал себя чувствовать там, как дома. Изменился круг друзей. В него вошли писатели, поэты, режиссеры, актеры, художники. Многое из них были великолепно образованы, чертовски талантливы, чем-то отличаясь при этом от столь же талантливых советских коллег. Скорее всего, меньшей закомплексованностью и меньшей надменностью: благословенный дар маленькой страны, лишающей аборигенов возможности пыжиться и вставать на носки.
Поэт Валерий Петров, сын крупного юриста и дипломата Нисима Мевораха, покорил меня застенчивой добротой и умением вложить «крамольные» мысли в невинные, на первый взгляд, фразы. Мы легко нашли с ним общий язык. Прозрачность и тонкость его лирики приводили меня в восхищение: было трудно поверить, что стих, созданный на языке без падежей, резком и угловатом, может быть так пленительно музыкален. Его переводы из Шекспира и Пастернака казались мне совершенными. Хотя бы уже тем, что в точности воспроизводили дыхание оригинала. Не знаю, был ли Пастернак на каком-либо другом языке так похож на самого себя, как по-болгарски в переводах Валерия Петрова.
Совсем молодой Стефан Цанев — поэт и драматург новейшей генерации — был, казалось, полной ему противоположностью. Он тяготел не к классическому, а к современному стиху и в жизни рубил без всяких околичностей «правду-матку», отвергая любой вид конформизма, подчас с чрезмерной горячностью. Нет ничего удивительного в том, что был он всегда под колпаком спецслужб — не только болгарских, но, как это видно из ныне опубликованных секретных досье, еще и советских. Они с Валерием, независимо от разницы в возрасте, представлялись мне людьми одного ряда: не только по таланту, но и по близости исходных позиций. Они оба — и, по счастью, не только они — разрушали в моих глазах сложившийся стереотип болгарина, приспособившегося хитрить и юлить, чтобы выжить. Далеко не все были такими — в этом я убеждался все больше и больше.
Со Стефчо мы познакомились в Русском клубе — так по традиции назывался старый ресторан с традиционной русской кухней, который более двух десятилетий был действительно клубом наших соотечественников-эмигрантов. Метрдотелем там по-прежнему работал «белый» эмигрант Капитанов, который занял этот пост еще в конце двадцатых годов, и повара тоже из прежней команды. Поэтому борщ там был не бурдой, а борщом, расстегаи, блины, кулебяка, даже самый обыкновенный бефстроганов — тем, что описано у Владимира Гиляровского, а не подделкой. Только там я впервые узнал, наконец, дивный вкус настоящих котлет, ничего общего не имевших с тем суррогатом, который изготовляли в нарпитовских советских столовых.
Состоявший из множества уютных маленьких зальчиков (когда-то здесь был просто-напросто чей-то богатый особняк), «Русский клуб» долго оставался одним из мест традиционных вечерних встреч софийской интеллигенции. Здесь всегда можно было застать общих знакомых и провести вечер за неспешной и интересной беседой. Другими очагами общения были клуб журналистов, клуб актеров, ресторан чехословацкого культурного центра, пивная в подвале оперного театра и несколько других популярных заведений, где вкусно и дешево кормили и где все чувствовали себя как бы членами единой семьи. Днем такую же роль выполняли небольшие кафе: сначала «Бамбук», позже «Бразилия» и «Молочный бар» — вопреки его названию, здесь, как и всюду, самым ходким напитком был коньяк «Плиска».
В этих клубах завязывались знакомства, крепла дружба — не плакатно-лозунговая, «болгаро-советская», а настоящая, человеческая. В мою жизнь, кроме глубоко мне симпатичного и яркого Стефчо Цанева, вошли один из партизанских героев Болгарии, талантливый кинодраматург Христо Ганев — острослов и пересмешник, его жена — деловито серьезная Бинка Желязкова, один из лучших режиссеров болгарского кино, другая чета кинорежиссеров — Ирина Акташева и Христо Писков: на счету всех моих новых друзей уже имелось по несколько запрещенных фильмов. Раз было что запрещать, значит, чем-то они не вмастили режиму, и это тоже служило убедительным опровержением ходячему мнению о тотальной готовности болгар к покорному конформизму. Как и все ярлыки на свете, этот тоже оказался пошлым и лживым.
Случайные встречи в софийских клубах приводили порой к нежданным открытиям. Как-то вечером мы сидели большой и шумной компанией за широким столом клуба журналистов, когда меня пригласили к телефону: мама уже знала его номер и нередко звонила в клуб вечерами, зная, что застанет меня скорее там, чем дома. Информация оказалась совсем печальной: цензура запретила уже подготовленную к печати книгу моих исторических новелл «Не продается вдохновенье»: я ждал ее выхода со дня надень. Удивляться особенно не приходилось: книга была о гнусностях той же цензуры, только в другие времена и на других широтах, — аллюзии читались с почти не скрываемой очевидностью.
— В чем дело? — спросила Капка, когда я вернулся за стол: мой опечаленный вид говорил сам за себя. Я коротко объяснил. Сидевшая на другом конце большого стола не знакомая мне молодая дама с высокой прической, очень тонкими чертами лица и по-лебединому выгнутой шеей издалека подала голос:
— Вы пишете книги, которые запрещает цензура?
— Получается, так, — без большой охоты подтвердил я.
— тогда почему вы такой печальный? — язвительно усмехаясь, донимала меня незнакомка. — Почему не гордитесь? Ведь не каждому удается написать книгу, которую запрещает цензура. Расскажите нам, что за крамолу вы сочинили.
Хватило сил уклониться, кое-как обратив в шутку совсем для меня не веселый сюжет.
— Кто она, эта язва и провокаторша? — шепнул я Капке, когда на дальнем конце стола зашумели уже по другому поводу.
— Ты что, спятил?! — воззрилась та на меня, почему-то решив, что я всех софиянок должен знать непременно в лицо. — До сих пор не понял, с кем сидишь за столом? Это же Людмила, дочь Тодора Живкова!
Так произошло мое знакомство с одним из самых загадочных персонажей болгарской истории двадцатого века. тогда Людмила была еще младшим научным сотрудником института балканистики. Пройдет очень немного времени, и она окажется членом политбюро и министром культуры. Но еще до этого приедет ко мне в гости на Витошу и ошеломит одной репликой, которую я менее всего ожидал услышать из уст дочери главы «народной» Болгарии.
Была середина сентября шестьдесят восьмого года — только что советские танки раздавили пражскую весну. Друзья-журналисты, работавшие в ежедневной газете «Отечествен фронт», которая занимала в Болгарии примерно то же место, что «Известия» у нас, поселили меня на живописнейшей горе Витоша, возвышающейся над Софией, в принадлежавшей редакции просторной и комфортабельной вилле, чтобы там — в тишине и покое — я мог работать над каким-то новым моим сочинением. Вечерами из города, прихватив напитки и закусь, ко мне зачастили приятели: в уютном подвальчике мы разжигали камин и предавались сладостной болтовне. Туда и заявилась однажды компания человек из шести-семи: среди гостей я с удивлением увидел Людмилу и ее мужа, обаятельного плейбоя и журналиста Ивана Славкова, а также патрона Людмилы, будущего министра просвещения, профессора Александра Фола.
Беседа не клеилась. Говорили, естественно, все больше о Праге, о драме, постигшей чехов, да и весь, пожалуй, «соцлагерь», но присутствие «дочери Первого» вольно или невольно замыкало уста. Вдруг до меня донеслись слова, в которые я не сразу поверил. Очень четко ею самой обнаженная, — взрывная, а не просто крамольная, — мысль:
— Конец марксистской утопии! Маркс говорил, что социализм это свобода и что он может победить лишь в промышленно развитой стране. То есть не в России и не в Болгарии. Чехи имели возможность подтвердить это на практике. Уже не смогут…
Лица присутствовавших вытянулись, беседа как-то свернулась, хотя все это были ее друзья, она знала, что говорила. И перед кем. Или не знала? Или знать не хотела? Все как-то скомкалось, сломалось, свернулось, разговор оборвался, гости быстро уехали — Людмила тоже, конечно. Я долго еще сидел на балконе, созерцая мерцающую внизу россыпь софийских огней и пытаясь понять, какая тайна скрывалась затем, что мне сейчас приоткрылось. Аналогия со Светланой Аллилуевой казалась зыбкой, произвольной, случайной — такой она, в сущности, и была. Но найти подходящую случаю дефиницию я так и не смог.
Судьба Людмилы сложилась трагически. Чем более высокое место занимала она в партийной и государственной иерархии, тем большую ненависть к себе вызывала. Партийное окружение отца напрочь не принимало ее прозападных настроений и чрезмерно нарочитой увлеченности индуизмом. Ни с одним московским товарищем — членом политбюро или министром — Людмила сотрудничать не могла: общего языка у них не нашлось бы. Болгарских интеллигентов и демократов по убеждению, естественно, отталкивала партийно-династическая тенденция, выраженная к тому же столь демонстративно и вызывающе: ведь пока что ничем, кроме ближайшего родства с хозяином страны, Людмила не отличилась, и без этого родства никаких шансов взлететь так высоко не имела.
Кончилось все очень плачевно. Как видно, депеши советских послов, а тем паче агентов, которые регулярно поступали в Москву, носили все более и более тревожный характер. Людмилу прямо обвиняли в попытке «оторвать Болгарию от социалистического сообщества». По какой-то причине с ней стали случаться припадки непонятного происхождения. Особенно часто — во время ее заграничных поездок, когда медицинскую помощь ей оказывали почему-то (опять — почему-то!) советские, а не болгарские и не местные врачи. Очередной приступ неведомой болезни произошел уже в Болгарии, на даче в Бояне — совсем поблизости от Софии. Рядом никого не было. Реанимационная карета скорой помощи тащилась более двух часов: по дороге у нее — «совершенно случайно» — лопнула шина. Врачи застали Людмилу мертвой.
Есть версия, что она покончила с собой. И другая — что ее отравили. Ее горничная утверждала, что бирюзовый перстень, с которым Людмила не расставалась, совсем побелел незадолго до ее смерти. Свойства бирюзы хорошо известны: она бледнеет, когда ее хозяин начинает поглощать яд. Способность бирюзы предсказывать смерть описана еще Орфеем в «Литике». К тому же, как утверждает один из самых близких к Людмиле людей, «свидетельства очевидцев не совпадают с тем, что записано в эпикризе. Фальсифицированы даже дата и час смерти…»
За отсутствием сколько-нибудь точных данных я не рискую предложить какую-нибудь гипотезу. В моей памяти Людмила Живкова осталась человеком не от мира сего, социальным парадоксом, который вынудил налаженный вроде бы партмеханизм дать немыслимый сбой. Уже одно то, что такой феномен мог появиться в семье хозяина страны и самого верного вассала Москвы, говорит о многом.
Болгария не уставала меня удивлять.
Для удивления находилось все больше и больше причин. Притом — для приятного удивления. Директор издательства «Народна младеж» Валентин Караманчев, отнюдь не скрывавший своей близости к спецслужбам, согласился издать мою книгу, объединившую то, что уже вышло в Советском Союзе (крохотный томик под названием «Подсудимого звали Искусство»), с тем, что было запрещено. О запрете вслух не говорилось ни слова, но тайной ни для него, ни для кого бы то ни было это быть не могло: и «службы» знали о цензурном ЧП, да и я не скрывал, чему подтверждением служит то, о чем рассказано выше. Тем не менее книга вышла — толстая, в роскошном издании, на мелованной бумаге и с супером. И стала бестселлером. Название книги в болгарском варианте — «Время выносит приговор» — на какое-то время вошло в пословицу. Его часто употребляли в разговоре, как пароль: ничего, мол, стиснем зубы, стерпим, перезимуем — время вынесет
им приговор.
Им — не нам. Гонимый, но никогда не унывавший, знаменитый болгарский сатирик Радой Ралин говорил мне, что эта книга — особенно помещенный в ней очерк о французском художнике Домье — помогала ему выстоять. Выжить…
Книга имела множество положительных отзывов в болгарской печати, но все обходили стороной те прозрачные аллюзии, которые впрямую связывали ее с современностью. Все — кроме одного. Известный болгарский журналист Венцел Райчев (незадолго до этого он был отмечен блестящим своим переводом солженицынского «Ивана Денисовича») в слишком лестной для меня рецензии назвал все веши своими словами, расставив такие точки над «i», на которые даже я сам не решался. Опять повторю: Болгария не уставала меня удивлять, обнажая то, что было укрыто декоративно фальшивым фасадом от постороннего взора.
Редакцией, которая готовила книгу к печати, заведовал писатель Георгий Марков — Джери, как его называли друзья. Хотя он и был дважды тезкой нашего Георгия Маркова, главы Союза советских писателей, он не приходился ему, если следовать логике старого анекдота, даже однофамильцем: настолько это были люди несоизмеримых талантов и еще менее соизмеримых позиций. Не было в Софии человека из того же круга, который не знал бы, что Джери (кстати, один из авторов популярного телесериала «На каждом километре», его показывали и у нас) является штатным сотрудником госбезопасности. Но все, что я слышал от него, должно было выглядеть или как откровенная и примитивная провокация, или как столь же откровенный намек на то, что «в службу» он просто играет: не только по лексике, но и по точности суждений и формулировок он принадлежал к тем, кто любую форму тирании на дух не выносил. Его погоны ничего не меняли в моем отношении к нему.
Однажды мы обедали в клубе журналистов — за разными столами. Внезапно он подошел ко мне (свободного стула рядом не оказалось) и, чтобы не дать мне подняться, опустился возле меня на колени.
— Книга выйдет недели через две, — не шепотом, но с нарочитостью тихо сказал он. — Не устраивай, пожалуйста, по этому поводу никаких возлияний. Чем незаметней, тем лучше. Совсем незаметной она все равно не останется.
— Тебя ждут неприятности? — спросил я, несколько смущенный этим советом и еще не слишком догадываясь, что он имел в виду.
— Меня ждет слава, — с легкой усмешкой ответил Джери. — Слава причастности… — Он поднялся с колен. — Ничего ты не знаешь, Аркадий. И знать тебе ничего не нужно.
Что он имел в виду? Я действительно ничего не знаю — до сих пор. Какая-то возня без сомнения шла, но кто, зачем и в какие ворота играл, — этого я так и не понял.
Прошло полтора года. В Болонье, в подземном переходе, нас с Капкой кто-то окликнул по-болгарски. Оказалось: Джери! Его брат держал там маленькую филателистическую лавку — Джери приехал к нему погостить. Разговор был коротким и бессодержательным — мы все куда-то спешили. Вскоре я узнал, что Джери стал невозвращенцем, обосновался в Лондоне и оттуда вещал на Болгарию по каналам Би-Би-Си — разоблачал семейство Живковых, с которым был дружен.
Дальнейшее известно: укол зонтиком 7 сентября 1978 года на мосту Ватерлоо — подлое убийство, совершенное болгарскими и советскими спецслужбами с помощью яда, изготовленного лубянской лабораторией-12, — а затем горькая посмертная слава, никак не связанная с книгой, к которой он был не столько формально, сколько душевно причастен…
В моей памяти Джери Марков остался человеком тонким, душевно ранимым, с какой-то глубокой тайной, которую он унес с собою в могилу. А про тайну его убийства знает теперь весь мир.
Именно эти люди были и остались для меня истинной Болгарией, а не те, что беспрерывно писали доносы. Сначала о потоке доносов и об их содержании я только догадывался, потом, годы спустя, получил подтверждение. Помню, как однажды Маковский вызвал меня в свой кабинет и без «здравствуйте» (я не успел и порога переступить) оглушил — в привычной своей манере:
— Не пора ли вам прекратить болтовню? Если совсем невтерпеж, болтайте здесь, а Болгарию оставьте для отдыха. Море, вино, фрукты — вам этого мало? Вы кем у нас работаете: журналистом или треплом?
Задавать вопросы не имело смысла — он и так ворчливым своим монологом раскрыл мне немало. Полагаю, что на том этапе доносы шли в ЦК, а не прямиком на Лубянку. Или, что хуже, — через Лубянку, транзитом, в ЦК. И поэтому замыкались пока на Маковском. А он их мне возвращал. И тем подводил черту. Это было большой удачей. Болгарские «доброжелатели» плохо ориентировались в менявшейся нашей реальности, меряя все на свой привычный аршин. Расхожее мнение — о том, что в той стране стучит каждый второй, если не каждый полуторный, — было не слишком далеким от истины.
Но болгарские спецслужбы не унимались: им казалось, что в моем лице они поймали какую-то важную птицу. Они перехватили невиннейшее мое письмо, отправленное из Софии в Париж, — я спрашивал тамошних друзей, можно ли в принципе подобрать для моей маленькой дочери какой-нибудь детский альянс, чтобы она, не дожидаясь своего повзросления, освоила чистый французский. Вне сомнения, это было расценено как подготовка к побегу. Не знаю, кто кого «стимулировал», — Лубянка болгарских товарищей или наоборот. Значения эта деталь не имеет. Но кровушки нам попортили обе братские службы. В один прекрасный момент мне перекрыли дорогу в Болгарию, жене — в любую «загранку», хотя вся ее работа сводилась к международным связям. С меня запрет через какое-то время сняли — отыгрывались на Капке: над нею и рядом с нею Маковского не было. Она страдала — и терпела.
Со мной все больше сближался человек, которого знала вся болгарская культура. Писатель (отнюдь, отнюдь не бездарный!) Коста Кюлюмов был полковником тамошней госбезопасности, где он возглавлял отдел, подобный нашему Пятому управлению. Это ни от кого не скрывалось — совсем наоборот. Под его бдительным оком находились все те, кого звали в Болгарии «творцами» и «интеллектуалами», причем многие из них, вполне достойные и благородные, с ним дружили. Большую часть времени он проводил не в служебном своем кабинете, а в писательском кафе. Порвать нашу близость было немыслимо — это тут же отыгралось бы прежде всего на Капке, и я ничем и никак не смог бы ее защитить. Приходилось лавировать. Но рвать, если быть честным, совсем не хотелось: беседы с ним были небесполезными, по своему интеллектуальному уровню он с несомненностью отличался от своих советских коллег.
Однажды Коста зазвал меня в какую-то чужую квартиру. Едва переступив порог, я понял, что она нежилая: об этом говорил не только толстенный слой пыли на случайно подобранной мебели, но и полное отсутствие живого прикосновения к ней. Тяжелый, застоявшийся воздух с непреложностью свидетельствовал о том, что сюда давно не заходил человек: дышать этим воздухом было попросту невозможно.
Распознав затеянный номер, я успокоился: было любопытно, чем это кончится. Коста даже не счел нужным объяснить странный выбор места для встречи — сразу перешел к разговору о текущей политике. Еще того больше: он запросто попросил меня повторить то, что я говорил вне этих стен. Столь непрофессиональный примитив, признаться, меня изумил. И обрадовал тоже: хваленые мастера тайных операций оказались просто дебилами, убежденными в том, что объекты их внимания такие же дебилы, как они сами.
Но ведь Коста — могу за это ручаться — был совсем, совсем не дебил! Порою мне кажется, что такой, нарочито примитивной, до комичности грубой подставкой, он просто дал мне упреждающий знак: ведь Коста — это вполне очевидно — действовал не по своей инициативе, а выполнял поручение «старших товарищей».
Ничем поживиться от сделанной записи боевые чекисты, конечно же, не смогли: я надиктовал на их спрятанный магнитофон совсем не то, чего они ожидали. На душе, тем не менее, стало муторно.
Впоследствии я старательно обходил стороной тот дом в центре города, на улице графа Игнатьева, где столь жалким манером меня заманивали в капкан: мне казалось, что невидимые липкие щупальца вдруг вылезут откуда-то из подъезда и снова втянут в ту пыльную, вонючую мразь…
Ширился круг болгарских друзей — они приносили покой и радость.
Много вечеров провели мы вместе с умным, образованным, нестандартно мыслящим критиком Здравко Петровым. С блестящим художником Дечко Узуновым. И с другим — иной генерации: Георгием Божиловым, по прозвищу «Слон». Его жена, артистка Катя Паскалева, была непременным и полноправным участником наших ночных бдений. Хорошо известная миллионам советских кинозрителей Невена Коканова оказалась не только талантливой актрисой, но и приятнейшей собеседницей: мы много говорили о литературе — не о Николае Островском, а о Достоевском и Кафке. Безвременно вскоре ушедший, ее партнер, красавец Апостол Карамитев, успел порадовать меня широтой своих интересов и знаний. Писатель Павел Вежинов, автор хорошо известного у нас «Барьера», вслух, на ходу сочинял сюжеты так и не написанных книг, предлагая каждому додумать их продолжение: из этих увлекательных интеллектуальных игр он же всегда и выходил победителем. Кинорежиссеры Рангел Вылчанов, Георгий Стоянов и Христо Христов не разделились со мной своими взглядами на суть происходящих в мире процессов. Их коллега Эдуард Захариев, автор едко сатирических фильмов «Перепись зайцев» и «Дачная зона», часто приходил к нам домой «отвести душу» — с ним было не только интересно, но и очень легко. Театральные режиссеры Леон Даниэл и Вили Цанков (оба ставили спектакли не только в Софии, но и в Москве) порой вынуждали меня чувствовать свою неподготовленность к ведению серьезных мировоззренческих дискуссий: они ориентировались в современной западной философии гораздо лучше, чем я. Известные эстрадные певцы Эмил Димитров и Бисер Киров напрочь развеяли легенду о «легкомыслии» легкого жанра и о мнимой узости интересов тех, кто ему служит. Этот список я мог бы продолжать до бесконечности.
В ряду талантливых и сердечных болгарских друзей выделялся, однако, один, к которому я искренне прикипел. У меня никогда не было оснований сожалеть о своем выборе.
Поэт Любомир Левчев относился к числу самых ярких болгарских «шестидесятников». Он не скрывал, что «равняется» на Евтушенко, Вознесенского и Рождественского (болгарам было положено равняться на кого-то из советских), но всегда был не эпигоном, а самобытным художником. Его «революционный романтизм» сначала казался мне позой, пока я не понял, что это не фальшивый, а искренний его внутренний голос.
Судьба Любомира оказалась и счастливой, и драматичной.
Счастливой — потому что он писал то, во что верил, и публиковал то, что хотел, ездил по всему свету, встречался со множеством интересных людей, всегда был полон оптимизма и лучезарных надежд.
Драматичной — потому что все это оказалось возможным благодаря лукавейшей тактике Тодора Живкова: любое диссидентство, даже намек на него, он подавлял в зародыше. Не дурацкими гонениями брежневско-андроповского образца, а монаршей лаской и своим высоким «доверием».
Так молодой бунтарь Любомир Левчев очень быстро оказался не в изгоях, а во главе Союза болгарских писателей (как и другой бунтарь, Георгий Джагаров, автор запрешенных пьесы и фильма, — он стал одним из ведущих государственных деятелей страны) и — хочешь не хочешь — проводил на этом посту ту линию, которая была ему предначертана. Ни своих друзей, ни свои ориентиры, интересы и взгляды Левчев, однако же, не сменил и, в сущности, долгие годы жил двойной жизнью, что не раз ставило его в двусмысленное положение. Он многое и многих терял, мало что приобретая, но не хотел ни отчего отказываться, убежденный в том, что перехитрит главного хитреца. История учит, что игры с дьяволом не приводили ни к чему доброму. Но множество людей — в разные времена и в разных условиях — маниакально ставили все новые и новые опыты на себе в надежде оспорить уже давно известную истину. Насколько я знаю, не удалось никому.
Отношение Любомира к советским друзьям, особенно к «Литературной газете», всегда выходило за рамки обычного приятельства. Оно было восторженным и страстным. Здесь, в этом кругу, он чувствовал себя лучше, надежней, комфортней, чем дома. Поднимался, притом с полным к тому основанием, в своих же глазах. Это он придумал и провел замечательные праздники «ЛГ» в Болгарии, хотя «по силлогизмам застоя» (это его выражение) сначала надо было бы провести дни «Правды». Таковые не состоялись, а вот «ЛГ», благодаря Любомиру, не раз триумфально прокатилась по нескольким болгарским городам.
Эти «Дни» приносили в духовно зажатую страну воздух полулегального вольнолюбия — то самое, ради чего Левчев эти акции затевал. Как участник первых торжеств, наряду с Беллой Ахмадулиной, Василем Быковым, Даниилом Граниным, Александром Гельманом и многими другими известными прозаиками, поэтами, критиками, публицистами, свидетельствую: я не видел Любомира более счастливым, чем в те минуты, когда в переполненных залах сотни, а то и тысячи людей овациями откликались на практически запретные (для болгар) слова, услышанные из уст советских гостей.
Увы, и в Москве ему приходилось жить двойной жизнью, потому что и здесь, случалось, его видимость принималась за сущность. По каким-то причинам его пожелали «приватизировать» уже набиравшие силу, «воскресшие — воспользуюсь словами самого Любомира — славянофилы». Те, для которых (опять же процитирую его самого) «пророком был поэт Василий Федоров, а Болгария Меккой православия». Ссориться он ни с кем не хотел, включаться в нашу литературно-политическую борьбу — тем более. Поэтому ухаживания их стойко терпел, не раз делясь со мной своими душевными муками. Некоторые вещи вообще никак не укладывались в его сознание.
«Каким образом, — спрашивал он, — культ Блаватской и Рериха сочетается у них с культом Сталина, монархические идеи с партийностью? Почему этих славянофилов у вас не считают диссидентами, а наоборот— привечают и поощряют?». Его настоящими друзьями, к которым он тянулся и которых всем сердцем любил, были Андрей и Булат, Женя и Роберт, а вовсе не те, которые их на дух не выносили. И Владимир Высоцкий, с которым он познакомился в Москве на моих глазах: они потянулись друг к другу сразу. И стали друзьями.
Он считал себя обязанным той, славянофильской, компании, поскольку первую русскую книжку его стихов — в очень плохих переводах — выпустили именно они в издательстве «Молодая гвардия». Когда, наконец, представилась возможность издать его стихи совсем в других переводах (Евтушенко, Винокурова, Соколова, Левитанского…) и в другом издательстве, он попросил меня о дружеском одолжении. Поскольку Эрнст Неизвестный, чьей графикой он мечтал украсить свой сборник, уже отбыл за границу, выбор Любомира пал на Стасиса Красаускаса. Издательство не имело с этим выдающимся литовским художником никаких контактов. Я тоже с ним не был знаком. Но как отказать Любомиру?
В Вильнюсе я заручился поддержкой общих знакомых. Стасис был уже тяжко болен, жить ему оставалось менее года. Он принял меня не то, чтобы с недоверием, но — с неохотой. Я вторгался в его планы, которые он, предчувствуя скорый конец, стремился осуществить. Хотя бы частично… Стасис попросил меня почитать ему вслух стихи Любомира. На мой вкус. Я выбрал самое короткое — в переводе Евгения Винокурова: «Поэт, скажи, что грустно так притих? / Поэт, скажи нам, в чем теперь опора?.. / Хоть так же спорен твой, как прежде, стих, / Но он — увы! — не вызывает спора! / Все приняли безумия твои, / Признали все твои нововведенья… / И, словно в поцелуе без любви, / В том несопротивленье есть — паденье».
— Достаточно, — сказал Стасис. — Передайте, что я сделаю иллюстрации. Если закажут. И если хватит сил.
Иллюстрации заказали. И сил у него хватило. Кажется, рисунки к сборнику стихов Любомира Левчева стали последней работой Стасиса Красаускаса, которую он еще успел сделать. На сборнике, подаренном мне Любомиром, когда Стасиса уже не стало, есть такая его надпись: «Дорогому другу и брату с благодарностью за то, что вышла эта книга».
Не знаю, кто именно придумал проводить регулярно в Софии международные писательские встречи. Любомир утверждает, что не был их инициатором, а всего-навсего успешным исполнителем тайной и чужой воли. Неведомо чьей… С трудом верится, что не Москва в лице своих явных и тайных служб была финансовым донором, но собрал на эти встречи цвет мировой литературы именно Любомир. Убежден: даже имея миллионы, мало кому другому это удалось бы. То, что почти никто не приехал бы тогда в Москву (конец семидесятых — начало восьмидесятых), это вполне очевидно. Москва вызывала реакцию отторжения, София, хоть и была в упряжке с Москвой, позволяла чувствовать себя более раскованно. И уж во всяком случае никто не приехал бы (иные неоднократно) для дружеского разговора с Любомиром, если бы он не тянул к себе, как магнит, интеллектом, талантом и артистизмом.
Дискуссии проходили в официальных залах, а вечерами многие собирались у Любомира, в его просторной квартире, окна которой глядятся в тенистый Докторский сад. Дружеские разговоры затягивались до глубокой ночи. Потом — бывало и такое — они продолжались в Англии и Италии, Франции и Испании, — я запросто приходил в гости к гостям Любомира, и всякий раз пропуском служили слова: «Как было нам хорошо в его доме!» В разные годы я встречался там за дружеским столом с Джоном Чивером, Гором Видалом, Уильямом Сарояном, Габриэлем Гарсиа Маркесом, Камило Хосе Селой, Эрве Базеном, Луиджи Малербой, Хуаном Гойтисоло, Рафаэлем Альберти, Джанни Родари, Чарлзом Сноу, Яннисом Рицосом, Николасом Гильеном… Кого-то, наверно, забыл. А вот советских участников форума — Маркова, Михалкова, Турсун-заде и других — в
этой компании не упомню. Окуджава — был. Вознесенский — был. Айтматов — был. А они — нет. И уже одним этим софийские встречи, при всей своей политической ангажированности, были не совсем таким мероприятием, каким они представлялись в секретных отчетах советским и болгарским партийно-чекистским службам.
В доме Левчева говорили не о «борьбе за мир» и «объединении всех прогрессивных сил», а о гармонии мира, об исторической цикличности, о рационализме и интуиции в искусстве, о различных способах постижения человеком самого себя, о философии авангардизма — о чем угодно, но только не о дежурных лозунгах советско-болгарского агитпропа. Пропагандистскую жвачку насчет единой семьи народов и места писателя в боевом строю там напрочь не принимали. Нередко участником этих ночных интеллектуальных встреч была и Людмила Живкова — она чувствовала здесь себя в своей стихии. И — пусть не сразу, пусть с настороженностью и опаской — в конце концов гости Левчева со всего света принимали ее в свой круг.
Трудно подсчитать, сколько наших литераторов, особенно тех, чей талант он чтил и дружбой с которыми гордился, пользовались бескорыстным радушием Левчева, той щедростью, с которой он безотказно принимал их в роскошных условиях болгарского Черноморья. Иногда не на месяц, а на два — срок вообще непостижимый для болгарских традиций. Вряд ли кто-нибудь знал, каких усилий ему это стоит: он жалко оправдывался перед разными партдядями и парттетями, обвинявшими его в самовольстве, в присвоении власти, в неподходящем подборе советских гостей. Однажды по приглашению Любомира мы провели на побережье несколько безмятежных недель с Андреем Вознесенским и Зоей Богуславской. Эти дни отражены в надписи Андрея на его книге «Тень звука»: «Дорогому и доброму Аркаше — с нежной памятью о его болгарском даре, когда мы были голые и счастливые». Голыми и счастливыми мы, действительно, были, а дар был не моим — Любомира: я лишь устроил так, чтобы это осуществилось. И только я знал, сколько унижений пришлось ему вынести за наше безмятежное счастье.
Теперь времена поменялись. Любомир низвергнут, он давно уже не возглавляет ни один из противостоящих друг другу союзов болгарских писателей, многие коллеги не могут ему простить былых высот, былых властных позиций. Он выстоял — ни от чего не отрекся, ни к каким воинственным группам не примкнул, оставшись «просто» писателем. Плодовитым и мудрым. Болгария уже не вожделенный рай для российской культурной элиты. Канары и Лазурный берег привлекательнее и не менее доступны, чем Золотые пески, а Давос и Тироль намного престижнее Витоши. Прежних возможностей (да и вообще никаких) у Любомира больше нет — дом у Докторского сада опустел, в нем редко звучит русская речь, а может быть, и совсем не звучит.
Но он чужд обид и злопамятства, он знает, что его назначение ни о чем не жалеть, а работать. И он работает. И эпиграфом к последней главе своей мемуарной книги (она носит тревожно пророческое название: «Ты — следующий») взял слова своего друга Володи Высоцкого: «Извините, что жив».
Крутой исторический поворот задел своим крылом не только Любомира. Он-то не изменился и никаких сюрпризов не преподнес. С другими вышло не так просто. Приветствуя освобождение страны от слишком затянувшегося живковского засилья, многие категорически не приняли дальнейшего развития событий, оставшись верными так называемому «социалистическому выбору». Особенно страстными борцами за прежние идеалы оказались как раз те, кто больше других пострадал от рухнувшей власти. Те, кого исключали из партии, лишали работы, топтали в печати…
Среди них и добрая половина тех, кто упомянут в этой главе. Люди большого таланта и несомненной личной честности, которые оказались не в силах расстаться с розовыми (нет, красными!) иллюзиями.
Романтики и пленники ложной идеи. Все это были, как теперь очевидно, сторонники «коммунизма с человеческим лицом», болгарские «дубчекисты», так и не понявшие, что никакой другой модели у коммунизма, кроме сталинской, — с теми или иными, не очень принципиальными вариациями — попросту не существует. Не в теории, не в мечтах, а — в реальности.
Что ж, это их право. Их выбор. Встретиться с ними мне было бы тяжело. Когда-то — в сущности, еще недавно — мы легко находили общий язык, теперь, боюсь, его навсегда потеряли. Их позицию я даже смог бы понять, если бы в ней подчас не было столько неожиданных откровений, которые раньше умело скрывались. Возможно, они принимали меня за кого-то другого.
И все же, как это ни странно, в моем отношении к ним ничего не изменилось. И измениться не может. В прошлом, за долгие годы общения, между нами никогда не было столкновений. Они дарили меня своей дружбой. Они радовали меня человеческим теплом. Радость не забывается. И пересмотру задним числом не подлежит.
Глава 9.
На ошибках учатся?
Придется снова вернуться в Игарку. Кажется, это была самая первая моя журналистская командировка. Помню, я готовился к ней так основательно, как будто меня посылали в совсем неведомые — загадочные и далекие — страны. Впрочем, в каком-то смысле «страна», куда я направлялся, была загадочной и безусловно далекой. Мне предстояло проплыть по Енисею от Красноярска до Ледовитого океана и рассказать о том, что я увидел. Но увидеть может лишь тот, кто знает, что надо смотреть. Перед поездкой я решил кое-что почитать об этом северном крае.
С раннего детства мне помнилась книга, которая была в нашем доме. Она называлась «Мы из Игарки». Этот город, существовавший с 1931 года, вырос прямо в тайге — по мудрой верховной воле — там, где жили только аборигены-эвенки. Выбор был легко объясним: сюда, за несколько сот километров от океана, могут заходить в навигацию даже морские суда. Строить новый «коммунистический» город отправилась очередная команда романтиков из европейской части России. Об этом и была та книга — единственная в своем роде.
Единственная — потому что от первой до последней строки ее написали дети, приехавшие с родителями строить город в тайге. Условия жизни «на краю земли» так потрясли их, что они потянулись к перу. В декабре 1935 года из Игарки в крымский курорт Тессели полетела радиограмма «великому Горькому»: «Сейчас нам не светит солнце. Только три часа мы видим дневной свет. Остальное время — полярная ночь, частые морозы и пурги. Но жизнь у нас, Алексей Максимович, не мрачная, а радостная, хорошая. У нас у всех большое желание написать книжку о том, как мы живем и учимся за Полярным кругом. Мы очень просили бы Вас посоветовать нам, как лучше писать книжку…»
13 января 1936 года местное радио прервало свои передачи и сообщило сенсационную новость: Горький ответил «дорогим игарчатам»! «Едва ли где-нибудь на земле есть дети, — ликовал он, — которые живут в таких же суровых условиях природы, в каких вы живете, едва ли где-нибудь возможны дети такие, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли столь же гордыми смельчаками». Алексей Максимович вообще любил, как известно, изъясняться цветисто и высокопарно, на этот же раз он превзошел сам себя. Есть на земле места, где погода куда суровее, чем в Игарке, и дети повсюду есть смелые и выносливые… Простим, однако, классику эту его слабость! Все-таки он вдохнул в юных авторов смелость начать…
Но тут Горький умер. Известие о его смерти дети Игарки получили почти одновременно с телеграммой, пришедшей из Швейцарии. «Шлю вам самые сердечные пожелания, мои милые белые медвежатки. Работайте хорошенько и никогда не падайте духом перед трудностями. Трудности созданы для того, чтобы их превозмогать и чтобы, превозмогая их, стать более сильными. Ваш друг Ромен Роллан». Горький, как оказалось, успел поделиться новостью из Игарки со своим прославленным французским другом, и теперь вдохновлять игарских детей предстояло ему.
Столь мощная поддержка дала свои результаты. Через год книга была готова. В списке авторов оказалось около сотни имен. Самому юному было одиннадцать, самому старшему пятнадцать лет. У нас дома была эта книга, я в детстве читал ее и хорошо запомнил. Готовясь к поездке на Енисей, мне захотелось прочесть ее снова. Но книга исчезла. Не оказалось ее и в Ленинке. Пришлось обращаться к библиографу. «Книга в спецхране», — сухо сообщила мне хорошо вышколенная библиотечная дама, порывшись в своем каталоге. Какие же крамольные мысли или запретные сведения могли содержаться в книге
детей, посвященной стройке всем известного города на берегу Енисея?!
Впервые проявил я тогда настойчивость и упорство. Обзавелся письмами из редакции. Ходил по разным кабинетам. И получил «доступ»! Под присмотром двух наблюдательниц прочитал «Мы из Игарки» от корки до корки. Искал в этой книге крамолу. И ничего не нашел. Но ведь что-то же заставило бдительных цензоров упрятать ее в спецхран!
В Игарке я прежде всего попробовал разыскать самих авторов: им должно было быть уже тридцать пять или сорок. Не смог найти ни одного! В картотеке горотдела милиции фамилий, которые я выписал из книги, вообще не оказалось. Допустим, женщины вышли замуж и сменили фамилии. А мужчины? Неужели все погибли во время войны? Или сбежали — все, как один, — из города своего детства, который они строили своими руками?
Старожилы не могли не помнить об этой книге — ведь была она в ту пору для города сенсацией номер один. Почему-то, однако, их память, хранившая множество фактов, событий, имен, сразу же отключалась, едва я начинал разговор про ту злосчастную книгу. В репортаже, который, возвратившись из путешествия, я напечатал, было рассказано о рождении книги «Мы из Игарки» и ничего о загадке ее дальнейшей судьбы. Лишь такое обращение к читателю: «Где вы теперь, Дуся, Нина и Миша Золотаревы, Степа Перевалов, Вена Вдовий, Вася Астафьев, Лиля Шкарина, Валя Баженова? Откликнитесь! Сообщите, как сложилась ваша жизнь».
Пришел только один ответ, но в нем было сказано все.
Писал не один из авторов книги, а их бывший школьный учитель. Он жил теперь в Ленинграде и оказался смелее, чем его бывшие земляки. Учитель открыл мне тайну, в которую так трудно было проникнуть. Столь же банальную, сколь и трагичную. Родители всех (без исключения!) авторов книги к концу тридцать седьмого угодили в тюрьму. Обвинили их в том, что они агенты английской, германской, французской, норвежской, польской, латвийской и японской разведок. Столь богатая география объясняется, видимо, тем, что суда этих стран приходили в Игарку за лесом.
Все шпионы вызвались строить этот северный город не по приказу, а добровольно, увлеченные романтическим молодежным порывом. Вот это и было решающим доказательством их шпионства: какой же, в самом деле, дурак мог без всякого понуждения, подчиняясь капризу души, бросить уже обжитые дома, работу, комфорт и тепло, устремившись в таежную глушь, где полчища комаров летом, лютая стужа — зимой? Зачем, если только он не продался какой-нибудь зарубежной разведке?
Много лет спустя, уже на заре перестройки, я добрался до некоторых архивных досье этих несчастных. Там нет никаких объяснений, каким образом скромный инженер из Ростова попал в лапы норвежской разведки. Или пекарь из Вологды — в руки японской. Родители «милых белых медвежат» продавали, оказывается, «выдававшим себя за матросов иностранным лазутчикам» рукописные карты-планы новорожденного города и его таежных окрестностей, проекты заводских и фабричных строек, даже (страшно подумать!) «точный график речной навигации». За это и были расстреляны. Или гнили в ГУЛАГе. Туда же попали и все их дети. Не просто как дети врагов народа, но и как авторы книги! В ней они, оказалось, сообщали врагу «важную секретную информацию».
Вот одна из тайн, выданная английской разведке двенадцатилетней Полиной Мокиной. В своем опубликованном рассказе она описывала поездку из заполярной Дудинки в строившийся тогда на вечной мерзлоте безжизненной тундры город Норильск. «Несколько дней мы ехали сначала на лошадях, потом пересели на лодку. Речка очень мелкая — проедем немножко и сядем на мель, еще проедем и опять сядем. На пути Богандинское озеро, по которому ехать 10 километров. Только мы поплыли по нему, началась буря, лодку чуть не перевернуло. Потом мы поехали на оленях. В тундре дорог нет, и все ездят здесь на память и по звездам». Вот такое шпионское донесение…
И то верно: ведь город Норильск был в то время государственной тайной. Не сам город, которого, в сущности, еще не было, а то, что там происходило: руками рабов — политических заключенных — строился металлургический гигант вблизи ими же открытых месторождений цветных и железных руд. Ясное дело, английские и все прочие шпионы мечтали туда проникнуть, чтобы взорвать заводы и шахты. И 12-летняя девочка Поля под видом невинного рассказика давала шпионам инструкцию, как им добраться до засекреченного Норильска.
Почти все они — «игарчата», «милые белые медвежатки», — погибли, не выдержав лагерного ада. Другие вышли на волю калеками, без желания вспоминать про свою прежнюю жизнь. Хотя я был в Игарке уже в шестидесятые годы, когда началось раскрытие правды о массовом сталинском терроре, здесь, в сибирской тайге, люди еще не «оттаяли», «оттепель» до них не дошла, страх по-прежнему был огромен, в перемены не верилось, все знали, что шанс спастись есть лишь у того, кто знает как можно меньше и как можно упорней молчит.
Прошло больше двадцати лет, и раскрылась другая загадка. Совершенно случайно. Но давно ведь замечено, что в любой случайности проявляется закономерность и что рано или поздно все тайное становится явным… С перестройкой разговорились и те, кто раньше покорно хранил служебные секреты.
На пляже в Гульрипше, возле Сухуми, где Литгазета построила свой дом отдыха, со мной вдруг заговорил беловолосый и смуглокожий, дотоле мне не знакомый, сосед. Не представляясь по имени, но довольно прозрачно давая понять, что он — «оттуда», с «верхов», из каких-то таинственных «сфер». Что ныне на пенсии, но всегда был демократом. И что он мой давний и верный читатель. Весь день, и назавтра опять, он меня убеждал, как плохо жить без свободы и как хорошо, когда она есть. Наконец, убедил.
На пляже сближаешься быстро — дня через три мы были почти друзьями. Я узнал его имя, но до сих пор не уверен, что оно настоящее. Да и важно ли имя? Мистер Икс, как стал я его мысленно звать, признался, что видел «когда-то» мое досье, которое — он улыбнулся — «поднять тяжело»: такой оно толщины. И что мама и я — мы оба были на грани ареста.
Курьезнейшая деталь: он видел и те «антисоветские» книги, присутствие которых в квартире как раз и служит при обыске важнейшей уликой. Вместо того, чтобы просто о них донести, их выкрала одна почтенная дама «из бывших», которая время от времени приходила к нам делать уборку. Беспросветная глупость? Плохой инструктаж? Не все ли равно… Мистер Икс совершенно точно назвал ее имя. И точно — три книги из нескольких, которые у нас исчезли: «Мы из Игарки», «Москва. 1937 год» Лиона Фейхтвангера и специальный номер журнала «Театр и драматургия», подготовленный к юбилею Мейерхольда, — с кратким, но выразительным посвящением на обложке: «Горячо поздравляем великого мастера революционного театра». Великий мастер давно уже был оболган, проклят, предан забвению и погребен с пулей в затылке в безымянной могиле. За хранение таких книг давали как минимум десять лет лагерей.
Вернувшись в Москву, я рассказал маме об этой неожиданной встрече.
— Ты знаешь, — сказала она, — я еще тогда догадалась… Не про книги, конечно, а про роль, которую заставили играть эту даму. И внезапно, без всякого повода, отказала ей от работы. Иначе книги бы к нам вернулись. И после этого однажды ночью раздался бы в дверь звонок. И в самом лучшем, самом счастливом случае мы с тобой оказались бы где-то возле Игарки…
Пляжный знакомец был не единственным, кто уведомил об опасности, которая мне угрожала. Или все еще угрожает.
Летом 1989 года мой коллега, работавший тогда в отделе писем «ЛГ», вызвал меня из редакционного кабинета на лестницу и вручил письмо, прошептав в самое ухо: «Я его выкрал. Прочти и уничтожь». Письмо было зарегистрировано под номером 050759 и проаннотировано безлико: «Обращается лично к А.Ваксбергу». Такая аннотация, если письмо не читать, никаких подозрений не вызывала. Уничтожать его я, конечно, не стал: для истории пригодится.
Письмо без обратного адреса и с придуманной подписью — В.Н. Волошин — представляло собой четвертую или пятую машинописную копию. Любой, знакомый с азами криминалистики, знает, что идентификация пишущей машинки в таком случае крайне затруднена. Вот текст этой волнующей анонимки (стиль и орфография сохранены):
«Уважаемый тов. Ваксберг
Являясь постоянным читателем Ваших острых публикаций на темы права, считаю своим долгом предупредить Вас о опасности, нависающей над вами и Вашей семьей. Я сам работаю близко к сфере органов свыше 20 лет и знаю их деятельность не по наслышке. Ваши публикации не оставляют равнодушными к вашей персоне наших шефов, на их столе всегда лежит папка, где полностью описываются все Ваши шаги. Наш шеф <речь идет о Крючкове> на утверждении <своей кандидатуры> в Верховном Совете врал, что мы не прослушиваем телефоны, не читаем письма, не проникаем в чужие квартиры в отсутствие их хозяев. Делается это очень тонко специалистами ОТО <расшифровка аббревиатуры мне неизвестна>.
Дестабилизацию в стране создают наши руководители, которых не устраивает перестройка и демократизация, все делается для того, чтобы граждане в один голос вскричали: „Дайте нам сильную власть“. В каждой антисоветской и любой другой организации у нас имеются люди, которые работают на нас (мы их ловим на „крючки“ т. е. прощаем им мелкие грехи типа скупки валюты, фарцовки и т. п.) а затем они добросовестно выполняют наши задания. Через них возбуждается общественное мнение, через них осуществляется руководство группами. На наших учетах состоят миллионы граждан нашей страны, неправда, что сведения о репрессированных в 30 годы пропали, все кто прошел наши руки зарегистрированы в наших НЦ <видимо, „наблюдательных центрах“?>.
Мы как работали, так и продолжаем работать, только немного осели и изменили тактику, не стали „профилактировать“ клиентов, а только собираем о них сведения, чтобы в нужный момент их запустить. Все втихомолку ругают реформы и ждут спада демократии, которая спадет даже раньше, чем Вы думаете. <Как в воду смотрел!> Армия тоже с нами.
Единственное, на мой взгляд, что нас может спасти, это полное реформирование нашей структуры, кроме 1, 2, и 9 отделов. Те пусть делают свое дело. тогда только у Вас будет какая нибудь гарантия, что Вам за свои „пасквили“ (так их наши называют) не придется протирать брюками бутырские или лефортовские нары.
А пока просто будьте бдительны и осторожны.
Р.С. <Так!> Если Вы отдадите это письмо в руки моих коллег, конечно они смогут меня вычислить, хотя я и принял ряд предосторожностей.
С искренним уважением к Вашему таланту — Волошин В.Н. — юрист».
В руки «волошинских» коллег я, конечно, письмо не отдал. И потрясен им, по правде сказать, не был: в ту пору подобных сигналов было немало, знаю еще несколько человек, которые их получили. Это был голос пробуждающейся совести, пусть пока еще в очень скромных размерах, — эхо перемен постепенно стало доходить и до таких ушей, которые всегда отличались повышенной глухотой. А в том, что «они» следят за каждым моим шагом, я никогда не сомневался, — не потому, что ставил себя слишком высоко, а всего-навсего потому, что грубых, примитивных следов этого наблюдения набралось слишком уж много.
Когда в мою жизнь вошла Капка, машина с пассажирами вполне очевидной профессии стала почти круглосуточно дежурить возле подъезда дома на Кутузовском, где я тогда жил. Не знаю, сопровождал ли нас кто-нибудь во время прогулок, на концерты или в театры, но стоявшая у подъезда машина, зафиксировав наше возвращение домой, сразу же исчезала. Утром, сколь бы рано я ни вышел из дома, она уже была на посту. Сами пассажиры менялись, хотя у каждого был один и тот же профессионально идиотский вид.
Вскоре завершилось строительство кооперативного писательского дома, где и я получил квартиру, — мы начали ее обживать: развешивать шторы, люстры, картины. Как-то под вечер раздался звонок в дверь — два довольно застенчивых, симпатичного вида молодых человека предложили свои услуги: «Мы знаем, что новым жильцам всегда нужна помощь». Предложение оказалось вполне кстати, тем более, что визитеры не гнались за ценой: «Сколько заплатите, столько и ладно». Смущало лишь то, что они оказались полными неумехами: то без дрели, то без отвертки, то без гвоздей. Суетливо брались вдвоем за работу, которую вполне мог сделать один. Все время куда-то бегали за инструментом, вдруг унесли бра, которое мы их просили повесить, потом вернулись, сказав, что повесят его лишь завтра.
Бра все же было повешено, и сразу же после этого наши рабочие вдруг исчезли, не завершив и половины работы и не придя за деньгами. Такого непрофессионализма я, признаться, не ожидал. Мама напомнила: «Разве ты не обратил внимания на их руки? Холеные руки кабинетных людей, совершенно не знакомые с физическим трудом?». Какое-то время, понимая, что нам насовали «жучков», мы уклонялись дома от разговоров на «запретные» темы, потом плюнули — и жили так, словно этих «жучков» вообще не существовало.
Мама жестко придерживалась правила, которое внушила и мне: не пускать в дом ни под каким предлогом малознакомых, а тем паче совсем незнакомых людей. Долгое время я ему следовал, потом надоело и это. Тут-то я и попался…
Как раз наступил период, когда я довольно активно стал работать в кино, — соответствующие товарищи взяли этот факт на заметку. И в один прекрасный день позвонил человек, назвавшийся «Виноградовым со студии документальных фильмов». Он домогался встречи, суля немедленный запуск в производство «интересного проекта». Предложений такого рода тогда было много, и я вполне поверил в реальность еще и этого. Странно, что мне не пришел в голову закономерный вопрос: почему режиссер, у которого есть «серьезное предложение», не приглашает меня в таком случае на студию?
Встречу назначили уже назавтра. Не могу объяснить, какая сила повелела мне еще за десять-пятнадцать минут до урочного часа начать заглядывать в дверной «глазок». Я вел себя, как молодой любовник, с замиранием сердца ждущий дорогую подругу… И дождался! Какой-то мужчина, не воспользовавшись лифтом, бесшумно поднялся по лестнице и внимательно осмотрелся. Потом так же бесшумно поднялся этажом выше и провел там какое-то время, снова спустился на этаж подо мной и вызвал туда лифт. Сомнений не было: сейчас он поднимется и громко хлопнет дверью лифта. Именно так и случилось. Хлопнув, он нажал, наконец, кнопку звонка.
Пока он все это проделывал, я уже понял, чей представитель нанес мне визит, — даже мелькнула мысль на звонок не откликаться и тем самым внести крутую поправку в разработанный кем-то сценарий. Но любопытство разбирало меня — хотелось увидеть, как ситуация будет теперь развиваться. А сценария-то, похоже, и не было! «Шахматисты» оказались плохими любителями: никаких заготовок, дальше первого хода, ни мой визитер, ни его «тренеры» вообще не имели. Задача была такая: прийти. А что делать дальше, «Виноградов» просто не знал.
— Не напишите ли нам какую-нибудь заявку? — вяло спросил он.
— О чем?
— Ну, о чем-нибудь… Что-нибудь про жизнь…
Таким был наш серьезный творческий разговор. Пришелец упорно домогался встречи, а, встретившись, сразу сник. Этого я уже навидался — бездарные лакеи бездарных хозяев тачали по одной и той же колодке. И вдруг я увидел на лице своего гостя то выражение, с которым охотник встречает добычу, идущую прямо в руки. Я перехватил его взгляд: он заметил невинную игрушку, примостившуюся на книжной полке. Это был предназначенный для пикников на природе миниатюрный «комбайн» (проигрыватель и приемник) с крохотными выносными динамиками, уместившийся в чемоданчике типа кейса и работавший на батареях: двадцатилетней давности подарок ко дню моего рождения, некогда редчайшая роскошь, теперь уже давно исчерпавший себя. Но из «кейса» торчала не вдавленная до конца антенна — от ее вида мой гость не мог оторвать глаз. Ни дать, ни взять — шпионское устройство для потайной радиосвязи.
Я дал ему полюбоваться зрелищем, которое так его захватило, и дождался вопроса, позволившего мне отвести душу.
— Можно взглянуть на ваш дипломат?
— Нельзя, — нахально ответил я. — Это секрет…
Разговаривать было не о чем — он удалился, унося мою книгу с дарственной надписью: я дал ему возможность отчитаться перед хозяевами о проделанной им работе. Надо ли говорить, что никакого звонка насчет сценария «про жизнь» так и не последовало. Умолчав о подробностях, я просил друзей узнать, есть ли такой режиссер на студии документальных фильмов. Оказалось — есть! Правда, не режиссер, а оператор, снимавший для хроники визиты государственной важности. И стало быть — их человек. Был ли у меня именно он или некто, назвавшийся его именем, я не знаю. Да и узнай, — никакого значения это бы не имело.
Несколько лет спустя (в моем блокноте осталась точная дата: 2 ноября 1989 года) ситуация повторилась — один к одному. Видимо, сценарий, созданный под «Виноградова», признали удачным: вносить коррективы не было нужды. На этот раз службы мобилизовали товарища с тогда еще громким именем, что повергло меня, не скрою, в полнейшее удивление.
Позвонил и попросил разрешения приехать один известный историк, удивлявший многих на протяжении нескольких лет: сидя в Москве, он беспрепятственно издавал на Западе свои сочинения, резко отличавшиеся по содержанию, направленности и стилю от легальных сочинений советских коллег. Эта литература — по лубянской классификации — относилась к числу диссидентской: его книги изымались на границе таможней, а лопухам, которые пытались их провезти, грозили разнообразные санкции.
Между тем сам автор никаким гонениям не подвергался и пек за границей свои кирпичи один за одним. Еще того больше: его московская квартира стала заурядной кагебешной ловушкой, а он тем самым — хочешь не хочешь — подсадной уткой. Люди, каким-то образом прочитавшие его творения или сумевшие, несмотря на глушилки, услышать по радио отрывки из них, подпадали под обаяние его смелых суждений и подчас доверяли ему свои мысли и тексты, приезжали издалека — поговорить по душам. Последствия были предрешены. Один благороднейший человек, которому позже я посвятил свой очерк, встретился на квартире историка с известным американским журналистом Крэйгом Уитни. Позже Крэйга выслали из страны, его собеседника заточили в ГУЛАГ, а сам историк оставался неприкасаемым. Все более и более знатным…
Мы с ним не были лично знакомы, и поэтому просьба о встрече показалась мне странной. Тем более, что к тому времени некогда нелегальный стал очень легальным и занимал уже солидное место в новых перестроечных структурах. Но к себе он меня не позвал, навязался в гости, сказав, что есть «профессиональный, деловой разговор». У меня к тому времени имелось несколько исторических публикаций, вызвавших большой читательский резонанс, так что внешне все выглядело вполне логично.
Вечером, прихватив в кулинарии какие-то фабрикаты для встречи дорогого гостя, я поджидал его, не отходя от дверного «глазка». Допустить, что сценарий повторится точь-в-точь, разумеется, я не мог. Но он повторился! Тучный товарищ с туго набитым портфелем бесшумно поднялся с нижнего этажа, внимательно осмотрелся, поднялся этажом выше… Словом, без единого сбоя повторил маршрут незабвенного «Виноградова». И позвонил в дверь.
Разговаривать было не о чем. То есть, возможно, было о чем, но визитер желания не проявил. Зачем же все-таки он приехал? Мы обменялись впечатлениями о новых публикациях про недавнее советское прошлое, гость кому-то позвонил, сказав: «Я здесь, скоро выезжаю», и, действительно, скоро выехал. Почему он действовал столь топорно? И зачем они ко мне прицепились? Чего искали? Почему им во что бы то ни стало надо было проникнуть в квартиру? Не потому ли, что практически она никогда не оставалась пустой и войти «в отсутствие хозяев», о чем писал мне «В.Н. Волошин», они не могли?
И, наконец, совсем уж недавно произошел просто курьезный случай, подтвердивший ходячее мнение насчет того, что «маразм крепчал». В Берлине, в одном из самых престижных учебных заведений совершенно особого рода, где приглашенные профессора и писатели, работая над своими произведениями, слушают лекции коллеги сами читают лекции на свободные темы, шел прием по случаю начала университетского года. Среди приглашенных на тот год был и я. Прием был уже в самом разгаре, когда ректору сообщили, что меня дожидаются в вестибюле гости из российского посольства, а он передал это мне.
Двое невзрачных мужчин, смущенно улыбаясь, выразили радость в связи с нашим знакомством. Один протянул — чин по чину — визитку со своим именем и обозначением дипломатического статуса (второй секретарь), другой не протянул ничего, сказав лишь, что он из консульства и что зовут его Владимир Иванович.
Их интересовало, хорошо ли нас кормят, нет ли претензий к администрации, порекомендовали быть «внимательным и осторожным» и, главное, надежно хранить свои деньги, поскольку «в Берлине воруют — страшное дело». Дав эти советы, не выпив ни рюмки вина, не съев ни одного бутерброда, они сразу ушли.
Я принял их за кондовых советских дипломатов, всегда опекавших — на свой, разумеется, лад — всех приезжающих из Москвы. Принял — и тут же о них забыл. Подумал только: как может столь высокое и престижное заведение приглашать на прием дипломатов столь низкого ранга. Впрочем, это были уже не мои проблемы.
Надо же так случиться: в моем паспорте не осталось листков для виз, потребовалось вклеить несколько новых для какой-то поездки, и я вспомнил, что у меня уже есть знакомый в берлинском консульстве, который все это устроит без проволочек.
Позвонил по указанному в визитной карточке телефону второму секретарю, который едва мог меня вспомнить: всего лишь месяц назад и он, и его спутник упоенно пели, что чуть ли не с детских лет я их любимый автор. Но еще удивительней было то, что второй секретарь никак не мог взять в толк, с каким Владимиром Ивановичем я хотел бы поговорить.
— Ну как же! — воскликнул я. — Ваш товарищ из консульства…
— Нет в консульстве никакого Владимира Ивановича, — недовольно отрезал он.
— Как это нет?! Вы же были вместе с ним на приеме, где мы познакомились.
После красноречивой паузы трубка заворковала:
— Ну да, да, конечно, Владимир Иванович… Помню, помню… А он уже уехал. Командировка кончилась, и он вернулся домой.
Все встало на свои места. Я тут же отправился к ректору.
— Извините, профессор, за мой дерзкий вопрос. Каким образом те два господина крайне низкого ранга из российского посольства, которые вообще никому не известны, могли быть вашими гостями на том приеме, где присутствовал бургомистр, все правительство Берлина и главы дипломатических миссий?
Удивлению ректора не было предела.
— Моими гостями?! — воскликнул он. — Это были ваши гости. Они сообщили, что вы пригласили их на прием и что хотят вас видеть.
— Помилуйте, — опешил я. — Как я мог приглашать кого бы то ни было на прием, где я сам в числе приглашенных?
— Меня это тоже несколько удивило, — признался ректор. — Но, извините, я решил, что вы не вполне разбираетесь в протоколе… Не мог же я сделать вам замечание, а их не пустить.
Так до сих пор и не знаю, что им от меня было нужно, так называемым дипломатам? Чье задание они выполнили — притом как круглые идиоты? Постоянно липнувшие ко мне живые «жучки» разумом не отличились ни разу, но чтобы вести себя так!.. За какого же осла они меня принимали?
От повышенного внимания к моей скромной персоне осталось лишь чувство гадливости. И никакого другого. Да еще стойкое осознание их беспросветной бездарности, вопреки ходячему мнению, будто там подбирались большие умы.
Ну их к черту, этих дебилов! Слишком много чести — уделить им столько места в этой исповедальной книге, которая могла бы, наверно, обойтись и без их присутствия. Выходит, все-таки не могла…
Почему-то от заполярной Игарки цепочка воспоминаний потянулась к Лубянке, хотя надо было бы ей потянуться совсем в другую сторону. Дело в том, что Игарка сопрягается в моей памяти не со всяческими паскудствами, а со странно лирической страницей моей мальчишеской жизни. Так получилось, что в мои неполных четырнадцать в меня влюбилась очень неглупая, безусловно незаурядная женщина двадцати с лишним лет, и я, ошарашенный столь нежданным вторжением сильных страстей в мой отроческий мир, какое-то время разыгрывал ответное чувство. Разыгрывал столь искусно, что Валя в это поверила. Вероятней всего потому, что хотела поверить.
«Любви» как таковой вовсе и не было — после первой встречи мы оказались в разных городах, так что «любовь» протекала в жанре эпистолярном: я писал какие-то глупые письма, о содержании которых могу судить теперь лишь по ответным. А ее-то были прекрасны, хотя на первом этапе слишком цветисты («Когда я впервые увидела тебя, мне показалось, что за твоей спиной спрятался лукавый малютка Эрот и, коварно усмехаясь и встряхнув кудрями, выхватил стрелу из колчана, натянул лук и пустил эту стрелу прямо в мое сердце»), но полны грусти и осознания бесперспективности чувства, которое, видимо, было и впрямь достаточно сильным. Все ее письма у меня сохранились — многие в стихах, мне посвященных. Одно я позже использовал в повести «Крепкие нервы» — они были созвучны чувствам моей героини, которая тоже, как и многие в ее возрасте, сочиняла стишки.
Неужели видеться?
Неужели мучиться?
О тебе не хочется
даже вспоминать.
Все твердят уверенно:
«На ошибках учатся»,
Я шепчу насмешливо:
«Делать их опять».
Чтобы я не слишком возгордился, она спускала меня с заоблачных высот на грешную землю. «Да, я тебя очень люблю, хоть и не ослеплена настолько, чтобы не видеть твои недостатки. Я люблю тебя таким, каков ты есть. Люблю за твой живой ум, за то, что ты так же, как и я, артистичная натура и любишь искусство и музыку, за то, что ты милый и занимательный собеседник… Но в то же время я превосходно вижу, что ты всего-навсего мальчик, который рано приоткрыл запретную дверь, и стремишься быть взрослым раньше времени. Конечно, твои взгляды несколько оригинальны для нашего поколения и времени, но и только. Ведь они не твои и взяты тобою из книг. Ты просто обладаешь восприимчивым умом и богатым воображением, и кое-что укрепилось у тебя, найдя там благодатную почву».
Как и следовало ожидать, жизнь брала свое, и какое-то время спустя я получил известие о ее замужестве, а потом и о рождении сына. Избранником оказался такой же, как она, студент-юрист, по распределению угодивший следователем в Игарку. Валя последовала за ним, став тамошним адвокатом. На протяжении нескольких лет я получал ее интереснейшие письма с игарским почтовым штемпелем — подробно и красочно она рассказывала о своих судебных делах, и передо мной постепенно возникала не нуждавшаяся ни в каких комментариях ужасающая картина нравов забытой Богом русской глубинки, долгими месяцами отторгнутой от Большой земли.
Чуть ли не ежедневные кровавые побоища, беспробудное пьянство, зверские убийства с поводом и без повода, грабежи, изощренные изнасилования, мстительные поджоги — ее рассказы об этом походили на леденящий кровь, уныло однообразный и однако же захватывающий криминальный роман, у которого не было начала и не могло быть конца. Далекая, неведомая мне тогда жизнь представала во всем своем кошмаре, и я уже понимал, что в точном соответствии с марксистской теорией о социальной детерминированности совершаемых преступлений сами Валины клиенты не выбирали судьбу, которая им досталась. И что по большому счету отнюдь не они повинны в тех злодеяниях, за которые им приходилось платить столь страшную цену.
Рассказ об одном деле был особенно впечатляющим, но он-то как раз имел не игарскую, а скорее столичную «специфику». Подзащитным моей подруги оказался ведущий солист балета из города Львова, отбывавший в Игарке наказание по обвинению в мужеложстве: тривиальный порок для этой профессии, если вообще порок… В сугубо мужской лагерной среде, — как рыба, которую, наказав, бросили в реку, — он имел лишь возможность в нем укрепиться. Объектом новых его домогательств оказались на этот раз конвоиры. Став «потерпевшими», они ржали на суде, глумясь над «насильником», и Валя с пронзительной точностью воспроизвела мне в письме их омерзительные слова, их похабные жесты во время допроса, — все то, что находило полное понимание у судьи и «кивал»-заседателей.
«Как мне жаль, дорогой мой Аркадий, — писала она, — этого безмерно талантливого и безмерно несчастного человека! Помоги мне найти слова для его защиты». Но чем я мог ей помочь? Она прислала самую ценную его реликвию — он доверил ее адвокату, а Валя доверила мне: фото, запечатлевшее артиста в его счастливую пору перед зданием Львовского театра, в обществе коллег и кумиров с их дарственными автографами на обороте: Ольга Лепешинская, Вахтанг Чабукиани, Нина Тихомирнова, Асаф Мессерер…
Возможно, я не вспомнил бы об этом, в общем-то для тех времен довольно обычном деле (чуть позже оказалась в лагере по такому же обвинению большая группа известных московских музыкантов, артистов и литераторов: по тогдашней терминологии, «мерзкий вертеп»), если бы не такой пассаж из Валиного письма, который заставил меня, еще студента юрфака, о многом задуматься: «Конечно, для нас с тобой, для юристов, закон свят, мы обязаны стоять на его страже. Но прочти, пожалуйста, очень внимательно Уголовный кодекс! Не кажутся ли тебе некоторые его статьи или хотя бы только формулировки довольно странными? Позволяющими их трактовать и вкривь, и вкось? А то и просто бесчеловечными? Как пострадало общество от того, что мужчина желает не женщину, а тоже мужчину? Вместо того, чтобы ему сострадать, оно его просто уничтожает. За что?» Требовалось немалое мужество, чтобы доверить почте в ту пору такие суждения…
Эпистолярный роман оборвался внезапно — я никак не могу вспомнить, что явилось тому причиной. В последнем Валином письме я нашел такие строки: «Мне очень трудно представить тебя совсем-совсем взрослым, ведь ты мне казался таким юным, и меня смущала моя глубокая любовь совершенно взрослой девушки к мальчику, даже еще не подростку».
Много позже я с удивлением заметил, что чувства ко мне «совершенно взрослых» женщин оставались всегда безответными. Такая уж, видно, судьба. Но ту роль, которую Валя сыграла в моей жизни, я осознал с большим опозданием. В Игарке я безуспешно пытался отыскать ее следы. Лишь пожилая секретарша местного нарсуда вспомнила блиставшую здесь адвокатессу: «Редкая женщина! Только вот муж ей попался не тот…» И вздохнула: «Вдруг сорвались в одночасье и куда-то уехали. Даже не попрощавшись. Вы не знаете, почему?»
Мне казалось, что в Красноярское Заполярье я больше не попаду: далеко, да и не к чему. Судьба решила иначе. Почти под конец моей адвокатской карьеры мне досталось одно дело, которое я отношу к числу самых загадочных и самых нелепых из всех, что мне привелось вести. И я снова оказался в Норильске, вблизи от Игарки, к которой почему-то успел прикипеть.
…Было начало сентября — полярная темень еще не наступила, но по часам была уже ночь. В сумерки по окраине — там, где город смыкается с тундрой, — шли двое: женщина в бордовом пальто и мужчина в синем плаще. Позади них на достаточном расстоянии шел еще один мужчина в серой куртке, который вдруг бегом приблизился к ним, схватил мужчину в синем плаще за плечо, нанес ему несколько ударов в лицо, голову и живот. С помощью женщины, которая безучастно наблюдала за этим, преступник волоком дотащил тело жертвы до озера, вблизи которого действо происходило, сбросил его в воду, и пара стремительно удалилась.
От начала и до конца всю эту сцену видели со своего балкона супруги Клименко (все фамилии, конечно, изменены). Их отделяли от участников драмы метров двести, не больше. От страха — так они объясняли впоследствии — у супругов отнялся язык, так что лишь утром они доверили эту тайну соседям, до милиции она дошла только вечером, а поиск трупа начали и того позже: назавтра. И, увы, ничего не нашли.
Неделю спустя работница местного комбината Лида Самарина сообщила милиции, что исчез ее фактический муж, отец их годовалого сына, шофер Маслаков, который работал в строительном управлении. Выпивоха и лодырь, он был на самом дурном счету, но из-за нехватки рабочих рук его все же держали. Прогуливал он нередко, поэтому очередное исчезновение внимания не привлекло.
По описанию супругов Клименко, которые видели жертву не в фас, а со спины, его облик приблизительно совпадал с приметами Маслакова. Тем более, что тот, утверждала Самарина, вышел из дома в синем плаще. Не удивило ее и то, что предполагаемый Маслаков шел с неведомой женщиной: он вообще верностью не отличался, не раз «путался с разными-всякими», а в последнее время стал относиться к ней особенно плохо, — это побудило ее заподозрить, что у сожителя «появилась какая-то не одноночка».
Следствие велось довольно грамотно — шел поиск женщин, с которыми был знаком Маслаков, и тех, кто выехал или пытался выехать из города в эти дни. Результат оказался блестящим. Среди знакомых Маслакова обнаружили некую Егорову, тоже шофера, — за полтора года до этих событий у нее был с ним краткосрочный союз. Но — самое главное! — эта Егорова и ее фактический муж Сидорчук на следующий день после тех злополучных событий вдруг вылетели из Норильска в Москву. Причем категорически настояли на срочном отпуске вне всякого графика: в Норильске он составлялся заранее, чтобы не было сложностей с транспортом, — Егоровой и Сидорчуку достался декабрь. Еще того больше: голословно сославшись на какую-то особую срочность, они сумели отхватить два билета из горкомовской брони.
Цепочка доказательств, подтверждавших тот факт, что убитым был Маслаков, выглядела следующим образом: 1) он ушел из дома за три часа до событий, очевидцами которых были супруги Клименко, 2) на нем был синий плащ, 3) супруги Клименко опознали «фигуры» Маслакова, Егоровой и Сидорчука, причем Егорова была ими «опознана» по фотокарточке, где она запечатлена в полный рост, 4) между Маслаковым и Егоровой были «сложные», не приведшие к близости отношения полуторагодичной давности, 5) согласно показаниям соседей, Сидорчук не раз грозился свести счеты с Маслаковым зато, что тот «приставал» к Егоровой, 6) Сидорчук обладал очень большой физической силой, 7) Егорова и Сидорчук неожиданно вылетели из Норильска, так и не дав убедительных объяснений, чем был вызван этот отлет, 8) у Егоровой было пальто бордового цвета, 9) Егорова и Сидорчук безуспешно пытались доказать свое алиби (утверждали, к примеру, что весь вечер безвыходно провели дома, собирая веши к отлету, тогда как было доказано, что они улетали почти без вещей, да и соседи не подтверждали, что те оставались дома весь вечер и всю ночь), и, наконец, 10) Сидорчук был раньше судим за участие в групповой краже.
Ко мне это дело попало уже после того, как Сидорчук (за убийство из мести) и Егорова (за соучастие) были осуждены соответственно на пятнадцать и на семь лет лишения свободы. К тому же в конце июля следующего года — уже после приговора — в соседнем озере, связанном протоком с тем, куда было брошено тело, нашли, наконец, труп мужчины со следами насильственной смерти. Разложившийся и полностью деформированный, но Лида Самарина каким-то образом опознала в нем пропавшего Маслакова. Обоснованность обвинительного приговора была вроде бы подтверждена. Оспаривать его стало еще затруднительней. И все же — попытка не пытка…
Главный и всегда убедительный в подобных делах довод защиты — где же труп того, кто якобы был убит, — тем самым уже не действовал. Оставался другой, в эффективность которого, по правде сказать, я не особенно верил. Осуждение только по косвенным уликам всегда уязвимо, но, с другой стороны, как справедливо заметил великий Кони, «если бы пришлось судить только тех убийц, которых застали с ножом над жертвой, только тех отравителей, у которых в руках захватили остатки только что данной ими кому-либо отравы, то большая часть виновников подобных преступлений осталась бы без законного возмездия».
Разумеется, возможность осуждения подсудимого лишь по косвенным уликам в принципе сомнению не подлежит, но при одном непременном условии: все они замыкаются в единую нерасторжимую цепь, где нет ни одного выпавшего звена, а на каждый вопрос есть убедительный однозначный ответ. Именно этого условия в деле Егоровой — Сидорчука я не нашел.
Остались вопросы, на которые не только не было в деле ответа, но которые вообще никто не поставил. Первый: почему вдруг через полтора года обиженный Сидорчук столь странным и диким образом решил отомстить Маслакову, над чем размышлял он все это время, встречаясь с ним (город-то маленький) чуть ли не ежедневно? Второй: зачем навлек на себя подозрения, стремительно выехав вместе с женой, то есть попросту говоря — демонстративно спасаясь бегством? И третий: как не убоялся совершить убийство еще при полной видимости на совершенно ровной, пустой местности, легко просматриваемой из расположенных неподалеку домов? Иначе сказать: было ли оно вообще, то преступление? То, а не какое-то другое? Подвергать сомнению свидетельства супругов Клименко было вроде бы некорректно, но я все же подверг.
Никакой надежды на то, что эти доводы как-то сыграют, у меня не было. И однако — сыграли. По протесту председателя Верховного суда РСФСР приговор был отменен. Следствие возобновилось. И снова я был убежден: мы добились лишь утешительной отсрочки, выигрыша во времени — не более того. Да и меру пресечения осужденным не изменили. При новом разбирательстве дела никакого иного приговора ждать не приходилось. Тем более, что, направляясь в отпуск на юг, Лида Самарина остановилась в Москве и добралась до заместителя прокурора Союза. Тот пообещал вмешаться и вернуть силу отмененному приговору…
А дальше произошло то, что бывает только в очень плохих детективах. Или, как сейчас мы увидим, в подлинной жизни, которая горазда на драматургию, не подвластную даже самой безумной фантазии.
В Сочи, на улице, Лида встречает того, кто ею был уже не однажды оплакан! Живой труп… Как ни в чем не бывало, с пляжным полотенцем через плечо, вальяжно шествует сам Маслаков. И рядом — заменившая ему Лиду дородная дама, хозяйка пивной палатки, взявшая его на свое содержание. Менять «семьи», как впоследствии оказалось, было ему не впервой. Такое вот хобби… «Загостился я у Самариной», — отвечал он на вопросы следователя, зная, как видно, что перед уголовным законом он все равно не в ответе. За
это… Суд ему грозил все равно, но за другое, и это его не очень пугало: скрываясь от алиментов, он сам подделал свою трудовую книжку, а хозяйка палатки прикупила ему фиктивный паспорт на имя Федюнина. Спасла… «Маслаков» остался на дне озера, «Федюнина» никто не искал.
«По вновь открывшимся обстоятельствам» дело против Егоровой и Сидорчука прекратили, но моей заслуги в этом не было никакой: просто нашелся «убитый». Осадок остался преомерзительный…
О своих подзащитных отзываться дурно не принято, но, право же, обретшие снова свободу производили отвратное впечатление своим беспрестанным враньем и тем, как юлили, уходя от прямых вопросов. Так я и не понял, зачем они в самом деле внезапно сорвались с места и, всех обманув, умчались «на материк», где раствориться в толпе куда легче, чем в замкнутом тундрой заполярном Норильске. Ведь кого-то же там все равно убили. Не опознали. И убийц не нашли. Почему-то мне показалось, что Егорова и Сидорчук к убийству все же причастны, только убит был ими не тот и не зато? Но — кто и за что, это так и осталось вопросом, на который, по-моему, не слишком усердно искали ответ.
Обнажение оставшихся тайн не входило в обязанности адвоката, и это как раз меня огорчало. Веди я тогда журналистский поиск, а не выполняй строго очерченные законом функции защитника по надзорному производству, точку на этом я бы, конечно же, не поставил. Вспомнился казус, который мы решали на студенческом семинаре. Некто отсидел за убийство, вышел на свободу, встретил живого «убитого», в отместку за пережитые муки на самом деле убил его и предстал заново перед судом. Должен ли он быть снова наказан или следует считать, что свое наказание он уже отбыл впрок?
Для юриста ответ вполне очевиден, но такие головоломки хорошо тренируют мозги. В конкретной ситуации головоломка могла измениться, поскольку убить своего мучителя грозилась ни в чем не повинная Лида. И вряд ли ей кто-нибудь засчитал бы те два года, которые за убийство никем не убитого отсидели другие.
Трудно поверить, но схожая ситуация уже встречалась и в жизни, и в литературе. Незадолго до начала войны вышла в свет небольшая книжица в ледериновом переплете, которую зачитывали до дыр: «Записки следователя» уже ставшего к тому времени знаменитостью Льва Шейнина. Знаменитостью он стал потому, что имя его то и дело уважительно называл Вышинский во время Больших московских процессов, словно именно тот по всем правилам юриспруденции виртуозно изобличил шпионов и заговорщиков. И еще потому, что рассказики его о том, как блистательно он раскручивает любые уголовные дела, не раз публиковались в журналах.
Бессмысленно подходить к автору с нашим сегодняшним знанием о нем (его судьбе и его деяниям посвящен мой очерк «Правая рука великого инквизитора», вошедший в книгу «Нераскрытые тайны»), как и к его сочинениям — с сегодняшним представлением о том скромном жанре, к которому они относились. тогда все гляделось не так, как сейчас. Советский детектив, как и судебный очерк, практически не существовал. Уже хотя бы потому, что основу того и другого составляют отнюдь не лучшие стороны современной действительности. То, что не украшает ни строй, ни время. В заданные рамки восторженного оптимизма не вписывались убийства и грабежи, насилия и поджоги. Для них — на худой конец — отводилось место в газетной хронике происшествий и в заметках «из зала суда».
Литературные миниатюры молодого следователя отличали два примечательных качества: во-первых, живой слог, умение короткими штрихами набросать портрет, воссоздать атмосферу; во-вторых же (это, пожалуй, самое главное), ощутимая достоверность, эффект присутствия: ведь автор ничего не рассказывал с чужих слов, он сам был активным участником действия и он же — главным героем.
Один рассказик из этой книжицы, где, как и во всех остальных, автор представал искуснейшим и безупречно корректным искателем правды, был особенно примечательным. Помню, как он пленил мое детское воображение, как дух захватывало от той неумолимой логичности, с которой он загонял в угол все начисто отрицавшего, отчаянно сопротивлявшегося преступника. Тем более, что речь шла не о чем-то, автором сочиненном, а о том, что было «на самом деле»…
Рассказик ненавязчиво и скромно назывался «Поединок». Автор живо описал, как был найден расчлененный труп неизвестной молодой женщины и как изобличен убийца: им оказался ее муж, известный в ту пору московский судебно-медицинский эксперт Афанасьев (его полная фамилия: Афанасьев-Дунаев), которого Шейнин походя обозвал «омерзительной карикатурой на человека». Похоже, он был огорчен лишь тем, что «карикатуре» дали всего-навсего десять лет, а не отправили на тот свет.
О выдающемся мастерстве следователя, с особенным блеском проявившемся именно в этом деле, говорили повсюду. Но в последующие издания «Записок» рассказ не вошел: и убийство, и блеск его раскрытия оказались липой. Юрий Домбровский, который в своем романе «Факультет ненужных вещей» вывел Шейнина под именем Штерна, написал, что убитая «преотлично жила на Дальнем Востоке с новым мужем».
На самом деле реальная красавица Нина Амирагова жила на Крайнем Севере с моряком высокого военного звания, к которому тайно сбежала от тиранившего ее своей ревностью мужа, и оттуда с упоением следила по газетным отчетам, как подводят под пулю ее «убийцу». Но главное — жила! Расчленен-то кто-то все-таки был. Другой — не опознанный. И кто-то другой кого-то другого и впрямь расчленил. Но найден не был. Впрочем, разве тогда замечались такие накладки? Липой были тысячи тысяч придуманных преступлений, счет безвинно наказанных шел на миллионы. Какое значение в этом потоке могла иметь всего лишь одна загубленная судьба?
«Факультет ненужных вещей» вышел только в 1988 году. С Юрой Домбровским, тогда уже покойным, мы были в свое время неплохо знакомы, но о Шейнине не говорили. О том, что с делом Афанасьева-Дунаева у прославленного следователя случился конфуз, я и так уже знал давно. Об этом мне рассказывал Брауде — в машине, когда мы ехали с ним в Подмосковье на один из его последних процессов. Помню, он с выражением воспроизвел фрагмент из последнего слова подсудимого: «Наступит день, распахнутся двери этого судилища, и в зал войдет сама Нина Амирагова, которую, по вашему мнению, я убил». Когда в середине шестидесятых мы встретились с Шейниным у нашего общего приятеля, известного юриста Аркадия Полторака, автора книги «Нюрнбергский эпилог», я рассказал Шейнину о том, что услышал от Брауде, стремясь вызвать его на продолжение разговора. Но он уклонился, обозвал Брауде фантазером и снисходительно посетовал: «Лучше бы он адвокатствовал, а не болтал чепуху».
Если верить устным рассказам и опубликованным воспоминаниям многих замечательных и достойных людей из мира культуры, с которыми Шейнин бок о бок жил и работал, это был исключительно остроумный рассказчик, душа общества, обаятельный человек. Я несколько раз с ним встречался — у того же Полторака дважды или трижды, причем в застолье, а не на ходу, а также в редакции «Октября», где он служил заместителем антисемита Панферова, в кабинете главного редактора Мосфильма, каковым он одно время был, — увы, ничего подобного заметить мне не удалось. Возможно, два года в лубянской тюрьме, где неистовый обличитель «контриков» и уголовников, не особо сопротивляясь, признал себя виновным в создании «сионистского гнезда драматургов», сделали свое дело.
Мне достался другой Шейнин: усталый, больной, сломанный человек. Улыбка казалась приклеенной к застывшему лицу. Он панически боялся любых напоминаний о прошлом. С трудом втягиваясь в разговор, неизменно упоминал о страхе: о том, что всегда «чего-то» боялся его прославленный шеф — всесильный Вышинский, да и сам он днем и ночью ждал удара из-за угла…
Однако люди, работавшие с ним в те же самые годы, запомнили Шейнина совершенно иным. По их впечатлениям, он снова был на коне, к нему вернулось второе дыхание, а вместе с этим и самоуверенность, барство, начальственные замашки. Наверно, оба эти образа принадлежат одному и тому же человеку, ничуть не противореча друг другу. С подчиненными, в деловой обстановке, он все еще играл роль могучей личности, способной казнить и миловать, вне служебных стен позволял себе в большей мере оставаться самим собой.
От прошлого у него остались лишь надменность и барство: он ждал почтительности, если не преклонения, и всем своим видом, глубокомысленным умолчанием (себе на уме!) и таинственной усмешкой, давал понять, что ему ведомы секреты исключительной важности, но он, разумеется, никогда, ни за что, никому их не раскроет. Так, вероятно, и было, но это отнюдь не прибавило ему никаких достоинств, а делало — в моих, по крайней мере, глазах — еще более скользким.
Недавно я снова перечитал его «записки», которые так приводили меня когда-то в восторг. Меня — и миллионы других… И был поражен, с какой обнаженностью выпирает из каждой «документальной» новеллы несомненная ложь. Социальное обличительство подменяло анализ — юридический и психологический, и только те, кто был оглушен грохотом партпропаганды, не могли тогда этого заметить. Надо было через многое пройти, о многом узнать, многое пережить, чтобы вполне очевидное стало действительно очевидным.
А дел, где за убийство никем не убитых осуждены невиновные (иные даже расстреляны), только в моей картотеке свыше десятка. За «раскрытие» их невежды и фальсификаторы получали грамоты, ордена, поднимались по службе. А по их вине ни за что пострадавшие в лучшем случае, притом с большим опозданием, тоже получали награду: бумажку с информацией об отмене судебного приговора. Отнятые у них бездушной машиной уничтожения лучшие годы жизни никто, естественно, им не вернул. И за это даже не извинился. Ошибочка вышла — с кем не бывает?..
Глава 10.
Три имени — одна тайна
В середине шестидесятых годов я уже был постоянным автором и консультантом «Литературной газеты», постепенно вовлекаясь в круг ее повседневных забот. Нарастал поток читательских писем, чуть ли не в каждом шел рассказ о человеческих драмах, о «конфликтных ситуациях» (так они назывались на советском жаргоне), которые для своего решения (если только оно было возможно!) требовали нетривиальных подходов. Поэтому я нисколько не удивился, когда работавший в отделе коммунистического воспитания Александр Сергеевич Лавров (вместе с женой он станет вскоре автором популярной телесерии «Знатоков») попросил меня приехать для участия в срочном консилиуме.
На этот раз речь шла не о читателе, а тоже об авторе «Литературной газеты»: в помощи нуждался не кто-нибудь, а сам Эрнст Генри! Младшему поколению это имя мало что говорит, тогда как для тех, кто постарше, оно было почти легендарным. Кто он, этот человек со столь необычным для русского уха именем, в точности предсказавший и самый факт нападения нацистской Германии на Советский Союз, и направление главных ударов, и ход развития событий всей первой фазы войны? Причем — за несколько лет до того, как был разработан зловещий план «Барбаросса»!.. (Иногда мне приходит в голову парадоксальная мысль: не воспользовался ли фюрер подсказкой мудрого публициста? Ведь план «Барбаросса» буквально списан с его текста и со штабной военной карты, которую Эрнст Генри сам начертил?)
Хорошо помню маму и дядю за чтением потрепанной книжки зимой сорок первого — они сверяли по ней развитие реальных событий, потрясенные тем, насколько точно те были описаны каким-то безвестным провидцем. Помню и мамины слова: «Никому ни слова об этом!». Изданная в Москве в тридцать седьмом, эта книга была запрещена в тридцать девятом: любовный альянс с Гитлером исключал возможность легального существования антифашистского сочинения. Запрет не был снят и после того, как любимый друг стал заклятым врагом: инерция запретов была всегда у нас более сильной, чем инерция разрешений — еще до конца сорок первого суды выносили смертные приговоры тем, кто был арестован в мирное время за «антигерманскую пропаганду».
Эрнст Генри оказался Семеном Николаевичем Ростовским, тишайшим и скромным жильцом многосемейной квартиры где-то на Юго-Западе нашей столицы — его безжалостно травили соседи по всем правилам советских коммуналок, ничуть не считаясь с тем, что он давным-давно был уже во всем мире живой легендой. Впрочем, вряд ли они знали об этом, а узнав, наверняка стали бы травить с еще большим усердием. Человек иной группы крови, иного воспитания и культуры, он был совершенно беспомощен против агрессивной наглости тех, кто всегда был желанной опорой режима. Бороться с этой омерзительной кодлой было заведомой безнадегой: уговоры на хамов не действовали, милиция чаще всего с ними была заодно. Да и что могла бы сделать наша милиция, даже если бы пожелала? Разве что подлить еще больше масла в огонь.
Мой совет был простейшим и невыполнимым: добиться для товарища Генри отдельной квартиры. Но Чаковский взялся за это— антибуржуазный пафос популярного автора «Литгазеты» был ему близок, а стремление стать благодетелем для страдающей жертвы (жертвы не властей, а толпы!) составляло одну из его неотъемлемых черт.
С тех пор мы стали встречаться с Эрнстом Генри все чаше и чаше, особенно после того, как в редакции стал работать мой друг Юрий Павлович Тимофеев, неизменно собиравший в своей тесной квартирке незаурядных людей. Лишь тогда — шаг за шагом — стала мне приоткрываться тайна Эрнста Генри, до конца не разгаданная и по сей день.
Никто толком даже не знает, каково же подлинное имя этого человека. Не только имя — еще и отчество, и фамилия. Год и место рождения. Да и многие другие «параметры», без которых нет человека. По одним данным, Эрнст Генри это Семен Николаевич Ростовский, родившийся в Тамбове в 1900 году. По другим, ничуть не менее достоверным, это Леонид Абрамович Хентов, 1904 года рождения, уроженец города Витебска. Большой Энциклопедический словарь склоняется к первому варианту, но годом рождения считает 1904-й, тогда как в том году родился отнюдь не Ростовский, а Хентов. Происхождение публициста, как видим, остается загадкой и к концу того века, в начале которого он родился.
Ничего странного в этом нет, ибо еще в ранней юности он избрал для себя жизнь, полную приключений и обрекавшую его на вечную конспирацию. Сын богатейшего коммерсанта и фабриканта, которого мировая война застала в Германии, где тот предпочел и остаться, Семен Николаевич (назовем его так, как он сам называл себя) решил вместе с сестрами пробиваться к отцу почти сразу же после большевистского переворота — в начале лета 1918 года. Возможностей перехода зыбкой границы было сколько угодно, но он, признав новых хозяев, предпочел уехать легально, обратившись с просьбой к советским властям.
Одно это заставляет меня прийти к выводу, что годом его рождения следует все же считать 1900-й. Вряд ли такое путешествие — с документами, а не в качестве беспризорника — мог совершить 14-летний подросток. И при этом — вывезти в Германию через охваченные войной территории младшую сестру. В таком возрасте — могли он вообще хлопотать о выездных документах? Ему просто дали бы от ворот поворот. А дал и то, что в те времена считалось паспортом.
Кто давал — тогда и потом — подобные разрешения и на каких условиях их давал, — все это сомнений не вызывает. Скорее всего с тех пор и началась тайная жизнь Семена Ростовского, получившего документы на имя Леонида Хентова. Или наоборот: Леонида Хентова, получившего документы на имя Семена Ростовского.
Пропуск на Украину, которая была еще под гетманом Скоропадским, служил и пропуском в дальнее зарубежье. Через несколько недель юный Семен-Леонид оказался в Берлине, но пошел отнюдь не по стопам отца, к которому так пылко стремился. Он сблизился с теми, кто в конце 1918 года основал по указке Москвы компартию Германии, и стал таким образом «классовым врагом» дорогого родителя. Модель, истории хорошо известная…
Перипетии его жизни — даже только на этом этапе — вполне могли бы стать сюжетом политического детектива. Меняя внешность, паспорта, имена, биографию, легенды и явки, он тайком, и не раз, ездил в Москву, побывав по дороге и в польской, и в литовской тюрьме, оттуда проник в захваченный англичанами и турками Баку, а оттуда еще дальше — в Турцию, на подпольный съезд тамошних коммунистов, делегаты которого вскоре — все до единого — были арестованы и утоплены в море.
А наш Семен уже был снова в Германии, кочуя из города в город и добившись легального статуса, причем способом самым простейшим: он пошел на прием к прусскому министру внутренних дел Заверингу, покаялся в грехе молодости — увлеченности идеями коммунизма, обещал увлечься чем-то другим и стать законопослушным жителем Веймарской республики. Западные простаки поверили на слово, снабдили легальными документами, «выслали» из Пруссии в Дрезден (Саксония) — с законным видом на жительство, помогая тем самым агенту большевиков подрывать государственный строй приютившей его страны.
Я не биограф Эрнста Генри и поэтому опускаю очень важные детали его жизненного пути. К ним, надо думать, еще вернутся. К его функции курьера молодежного Коминтерна (КИМ), к дружбе с Лазарем Шацкиным — создателем и нашего Комсомола, и КИМа, с вождями КПГ, к тайным связям с так называемым Европейским бюро Коминтерна, обосновавшимся в Берлине и готовившим перевороты в Германии и по соседству. Именно там орудовал Георгий Димитров, погоревший на этой своей нелегальщине и схваченный гитлеровской полицией после провокационного поджога Рейхстага.
Сам же Семен Николаевич в это время был уже далеко: оперативно и мудро оценив новую обстановку в стране, его приютившей, он — под предлогом выезда к тяжко заболевшей в Лондоне старшей сестре — вовремя покинул Германию, счастливо оказавшись в судьбоносные дни на берегах туманного Альбиона. Там он и стал Эрнстом Генри, автором взбесившей нацистов книги «Гитлер над Европой», почти сразу же обошедшей весь мир.
Секретные немецкие архивы в сорок пятом году попали в Москву — из них с непреложностью вытекает, что и для прусских, и для саксонских властей никаких сомнений в том, на кого работает «независимый журналист», не существовало. По их данным, Симон Ростовский, родившийся все же не в 1904-м, а в 1900-м, и не в Витебске, а в Тамбове, был «русским агентом, командированным для участия в германском коммунистическом движении». По тем желанным, он занимался экономическим шпионажем в пользу Советской России и получал денежные переводы «из тщательно законспирированного коммунистического источника».
Вероятнее всего, это было не слишком далеко от истины: в документальной литературе, основанной на данных лубянских архивов, но принадлежащей перу (это важно отметить) не тех, кто лично причастен к работе «органов», уже не раз его имя упоминалось в списке наиболее продуктивных и неутомимых советских «разведчиков». Сами ветераны писать о нем пока что не смеют. Кто знает — почему?..
Достоверно известно, что из Англии он нелегально выезжал для каких-то таинственных операций в Бельгию, Францию и даже на некий, ни в одном источнике не называемый, средиземноморский остров, потом снова вернулся в Лондон и стал работать при советском посольстве, составляя для НКВД еженедельные отчеты об «английских политических проблемах». Именно там, в тридцать шестом, и родилась еще одна его книга — «Гитлер против СССР» — та самая, где были в точности предсказаны события, которые произойдут лишь пять лет спустя. Книга вышла в Англии, потом в Соединенных Штатах, потом во Франции и в Аргентине (для испаноязычных стран) и лишь после этого — в «переводе с английского» — в советской столице. Если судить по германским архивам, нацистская разведка так и не дозналась, кто скрывался за английским псевдонимом «Эрнст Генри».
В годы войны советский посол Иван Майский назначил журналиста Ростовского, а не Эрнста Генри редактировать выпускавшийся посольством информационный еженедельник на английском языке, целью которого, как любой понимает, было вовсе не информировать, а вешать на уши лапшу очередным простакам — в ту пору союзникам по общей борьбе. Простаков, похоже, было немного, но какую-то пользу английские аналитики оттуда все-таки извлекали: ведь по тому, что хочет внедрить в сознание дезинформатор, тоже можно понять его замысел и уязвимые точки.
Ежу ясно, кто и по какой «дружбе» мог назначить кого бы то ни было на такой ответственный пост. Не слишком ясно другое: зачем в сорок третьем Ростовский-Генри летал из Лондона в Москву и Куйбышев, где все еще находились эвакуированные туда иностранные миссии?
Поводом снова послужила болезнь сестры — теперь уже младшей, загадочным образом оказавшейся в Советском Союзе после того, как она из него сбежала. Всем известно, с какими трудностями был связан в разгар войны перелет через Африку и Ближний Восток (минимум пять или шесть пересадок) на военно-транспортном самолете (другие тогда не летали), — представить себе столь беспримерный гуманизм советских властей, устроивших ему эту экскурсию, нельзя даже при самом богатом воображении. Куда больше времени, чем у сестры в больничной палате, Семен Ростовский проводил в беседах с британским послом Арчибальдом Кларк-Керром, известнейшими в ту пору английскими журналистами Александром Вертом, Ральфом Паркером и другими полезными собеседниками, небезразличными для спецслужб и вряд ли подозревавшими, что разговаривают с Эрнстом Генри.
В истории советской разведки он останется не только как провидец и дезинформатор. Почти нет никаких сомнений в том, что именно он, оказавшись в Англии, завербовал по крайней мере одного из знаменитейшей «кембриджской пятерки» (под таким обобщенным именем известны советские супершпионы Ким Филби и другие). того самого Гая Берджесса, который окончил свои дни в Советском Союзе уже не в качестве профессионального шпиона, а профессионального алкоголика. Обладая поистине магнетической силой влияния на разум и чувства своих собеседников, Эрнст Генри покорил Берджесса страстной верой в справедливость коммунистических идеалов и в их неизбежное всемирное торжество.
Многие годы спустя англичане сделали телефильм «Красные шпионы» — Семену Николаевичу отведено в нем весьма почетное место. Фильм этот, ясное дело, объявили у нас клеветническим: ни тогда, ни теперь рассекретить
этого своего агента, притом агента ценнейшего, Лубянка не захотела. Сегодня, когда десятки таких агентов (уровнем несравнимо ниже) бахвалятся, как они нарушали законы страны, позволившей им у себя жить и работать, повествуют о своих подвигах и издают (едва ли не все) насквозь лживые «мемуары», имя Эрнста Генри в этом ряду не звучит. Сам он уже ничего написать не может, да и — ручаюсь в этом! — писать никогда бы не стал: не та натура. О нем не пишут тоже. Имя его забывается, оставаясь лишь в памяти тех немногих, кто все еще помнит изрядно уже устаревшую его публицистику.
В сорок шестом Ростовского-Генри отозвали из Лондона окончательно, но связи его еще пригодились, а пристойная репутация, которая всегда сохранялась за ним, открывала многие двери. Как сотрудник повышенной ценности, слишком многое знавший, он состоял, конечно, в том самом лубянском списке, что был приготовлен на «день Икс» для немедленных превентивных арестов. Но Генри — в качестве арестанта — опередил на два дня своих коллег из того же списка, пачками арестованных в ночь с 5 на 6 марта, поскольку его связали с бывшим патроном, послом — теперь уже академиком — Иваном Михайловичем Майским, доставленным в каземат двумя неделями раньше: 19 февраля 1953 года.
За Эрнстом Генри пришли 3 марта. Тирану оставалось жить еще два дня, когда подполковник Никитин встретил на Лубянке всемирно известного арестанта обычным чекистским приветствием: «Советую вам, шпион и изменник, сразу рассказать о себе всю правду». Арестант согласился: всю правду, и только правду! «Я не изменник», — заявил он, разумно пропустив мимо ушей словечко «шпион». Поединок, которому предстояло длиться около года, начался.
Главным изобличителем Эрнста Генри стал его друг, с которым он сблизился после возвращения в Советский Союз и встречался едва ли не ежедневно, найдя в нем желанного собеседника на приемлемом уровне. Друга звали Альфред Курелла: специалистам по новейшей истории это имя хорошо известно, жителям бывшей ГДР — тем более. Функционер германской компартии в двадцатые годы, он бежал после приход а к власти нацистов сначала во Францию, потом в СССР, где получил советское гражданство и прожил до середины пятидесятых годов. Короткое время он был кем-то вроде литературного секретаря у Анри Барбюса и понудил его написать знаменитую — пошлую и лживую — книгу о Сталине, избранные цитаты из которой было велено у нас заучивать наизусть, а сама книга в русском переводе — оба ее издания — подлежала изъятию из всех магазинов и библиотек, поскольку там на каждой странице мелькали имена «верных соратников», стремительно переходивших, пока книга писалась и издавалась, в разряд врагов народа.
По достаточно достоверным, хотя и недокументированным (пока что!) данным, сам Курелла и был главным автором этой книги, которую французский писатель лишь отредактировал и подписал. Почти сразу же вслед за этим Барбюс в очередной раз посетил Москву и несколько дней спустя отправился к праотцам, не то отравившись грибами (рыбой? арбузом?), не то подхватив инфекцию, ни разу не названную по имени ни в одном «медицинском» документе. Курелла — он был верным служакой, но в чекистской кухне разбирался не слишком — без труда догадался, что Барбюсу помогли умереть (конечно, «враги народа»), написал об этом в ЦК, но ответа, естественно, не получил. На его взгляды и верность не повлияло и это.
Делом Семена Ростовского занималось несколько следователей Лубянки очень высокого ранга — сплошь подполковники, полковники и генералы: Никитин, Зотов, Мельников, Рублев… Они и столкнули двух собеседников в новой словесной дуэли, только теперь она называлась уныло и угрожающе: «очная ставка». Курелла сказал напрямик, что дружба, мол, дружбой, но святая идейность для него, разумеется, выше любых дружб.
«В процессе длительного общения, — вещал Курелла, — Ростовский неоднократно высказывался в антисоветском духе по ряду вопросов, в частности, о характеристике советского строя. Государственный строй в СССР, утверждал он, якобы не имеет ничего общего с социализмом, а по существу является государственным капитализмом. В подтверждение этой троцкистской концепции Ростовский приводил такие доводы: в Советском Союзе существует определенная прослойка людей, в руках которых сосредоточена вся власть, и эта прослойка руководящего советского партийного актива присваивает себе продукты труда советских людей. <…> Среди руководителей партии и правительства, говорил он, якобы идет борьба за власть, при этом он допускал выпады против главы советского правительства <таковым был почивший уже к тому времени Иосиф Виссарионович Сталин>. Он даже утверждал, что будто бы не американский империализм, а Советский Союз спровоцировал войну в Корее, что советская внешняя политика якобы агрессивна и что Советский Союз потерял ту симпатию со стороны народа Англии, которую он завоевал во время войны».
Альфреда Куреллу можно было бы обвинить в клевете, если бы я лично, хотя и значительно позже, не слышал от Семена Николаевича все то же самое, что воспроизводил доносчик. Доносчик, но не клеветник. Прусский педант и одновременно коммунистический фанатик. Прозаик, литературный критик и переводчик, который выбирал для своих переводов не Софронова с Грибачевым, а Твардовского с Паустовским, но ничему у них так и не научился. И только поэтому стал потом секретарем гедеэровского ЦК, главным партидеологом Восточной Германии, насаждавшим в немецкой культурной среде те самые взгляды, которые он тайно излагал перед следователями Лубянки.
Но Эрнст Генри, искушенный в создании всевозможных легенд и знавший уже не только о смерти Сталина, но и о падении Берии, просчитавший тотчас же, какие перемены за этим последуют, стал отрицать не факты, а лишь их произвольное толкование. «Я действительно говорил все то, что рассказывает Курелла, — подтвердил мудрый подследственный, — но это были вовсе не мои слова и не мои мысли. Ведь я, как и Курелла, был допущен по роду моей журналистской работы к западной прессе, мы делились друг с другом тем, что там прочитали, и я часто пересказывал в беседах с Куреллой ту пропагандистскую клевету, которой эта пресса была переполнена. Мы обсуждали, как надо на нее реагировать в советской и зарубежной печати».
На помощь Курелле поспешила его жена, столь же фанатичная немецкая коммунистка Эльфрида Кон-Фоссен, воспроизведшая реакцию Эрнста Генри на арест «врачей-вредителей» и кампанию против «космополитов»: он назвал эти события «звеньями государственного антисемитизма», который разжигал «главный и злобный антисемит — руководитель Советского правительства». На момент крамольных разговоров таковым был Сталин, на момент допроса — Маленков. Характеристика, данная Семеном Николаевичем, по справедливости относилась к обоим, имя, конечно же, называлось, но следователь — в протоколе — уточнять не стал: ведь «врачи-вредители» уже были освобождены, а их арест в официальном сообщении был назван «посягательством на нерушимую дружбу народов» — лубянские следователи не хуже обычных читателей знали, что скрывается за этим прозрачным эвфемизмом.
Многие годы спустя, читая материалы «уголовного дела номер 137 по обвинению Ростовского С.Н.», я поражался его простодушию и полной оторванности от советских реалий. Он остался где-то в двадцатых, в кругу идей и людей того времени. Он просил, например, вызвать свидетелями для подтверждения фактов далекого прошлого одного из создателей советского комсомола Оскара Рывкина и швейцарскую коммунистку Лидию Паскаль-Дюби. Рывкина расстреляли в тридцать седьмом, Паскаль-Дюби — годом позже. Но Семен Николаевич, прожив к тому времени в СССР уже почти семь лет, ничего об этом не знал.
Я мог бы подумать, что и эта его неосведомленность была не более чем умелой игрой, если бы не его наивный и самоубийственный, как оказалось, вопрос к Курелле, которым завершилась очная ставка. «Считаете ли вы меня врагом Советского Союза?» — зачем-то спросил своего обличителя этот странный подследственный. Считалось, что вопрос задал следователь, ему Курелла и ответил: «Оценивая все поведение и политические взгляды Ростовского, безусловно считаю Ростовского врагом Советского государства».
Мне довелось рассказать еще самому Эрнсту Генри о том, что я нашел в его следственном деле, — об этом дивном ответе прежде всего. «Честный дурак» — так отозвался он о подлости друга: Семен Николаевич умел прощать — не изменил своему умению и на этот раз, хотя «честный дурак» вполне сознательно подводил его под пулю.
Курелла плохо врубался в стремительные повороты истории, не понимал, что ноябрь пятьдесят третьего, когда его призвали на очную ставку, уже не март того же года, когда Генри арестовали. Он был убежден, что видит «друга» в последний раз. Однако 13 февраля пятьдесят четвертого следствие объявило, что за гражданином Ростовским нет никаких преступлений, и даже предложило машину, чтобы отвезти его домой.
Но дома уже не было: квартира в Ананьевском переулке, где он жил в одиночестве до ареста (с женой, немецкой коммунисткой Рут Майер, он давно развелся), была занята — по традиции, восходящей к тридцатым годам, — кем-то из лубянских товарищей. Обосновавшись у приютивших его знакомых, он не стал добиваться освобождения старой квартиры, а попросил замену, и на волне начавшихся реабилитаций получил ту самую комнатку в новостройке, где соседи стали ему писать в суп.
Встретился и с Куреллой — перед его возвращением в «демократическую» Германию. В Берлин Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта… «Как я счастлив, дорогой, — прослезился Курелла, — что вы свободны. Я всегда верил в торжество справедливости». Прослезился и Эрнст Генри и крепко пожал руку старого друга, которого счел не прохвостом, а всего лишь исполнившим, как полагалось, свой первейший партийный долг. Они оба привыкли всю жизнь играть и не воспринимали слова, произнесенные вслух, как отражение подлинных мыслей.
Семен Николаевич принадлежал к тому, все более и более узкому, кругу людей, которым чужда какая бы то ни было праздность и бестолковая трата времени, чья мысль работает без перерыва, а духовное общение предпочтительнее любого другого. Мы особенно интенсивно встречались в семидесятые годы, и я не помню ни одного вечера, проведенного вместе, который был бы заполнен разговором по пустякам. Он всегда оставался марксистом в классическом — западном, если хотите — понимании этого термина и еще многие годы после подавления пражской весны сокрушался о том, что «танки задавили великую мечту».
По его мнению, именно в Чехословакии «истинный марксизм» мог бы пережить свой ренессанс и получить реальное осуществление, ибо социализм, по Марксу, должен победить в индустриально развитой стране, а не в стране «с крестьянским большинством и с крестьянской психологией», каковой, по его мнению, была и осталась Россия. Я едва не вздрогнул, слушая эти его рассуждения: ведь то же самое, почти теми же словами, говорила Людмила Живкова, хотя у нее за спиной не было такой биографии, как у Эрнста Генри.
В начале шестьдесят шестого (мы незадолго до этого познакомились и были друг для друга людьми «посторонними») он предпринял дерзкую акцию, которую, если учесть реалии того времени, справедливо назвать гражданским подвигом. Увидев, как после свержения Хрущева партийная верхушка стала реанимировать сталинский культ, и поняв, что за этим может последовать, Эрнст Генри написал письмо Брежневу, но имя свое под ним не поставил, осознавая, сколь малое впечатление оно может произвести на нового генсека. Он лишь составил список людей, пригодных для подписи, и самолично всех их объехал, дабы убедить в важности этой акции. Убеждать никого не пришлось.
Копию этого письма, о котором в ту пору еще только шептались, Семен Николаевич подарил мне в году семьдесят пятом, и оно уже тогда поразило меня умелым выбором формулировок, рассчитанных именно на того, кому было адресовано. И то правда — ведь оно преследовало вполне определенную и очень важную цель, а не являлось произведением литературы, для которого он, конечно, нашел бы другие слова и другие эмоции. «…Значительная часть <…> поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, — говорилось в письме, — еще не предана гласности. <…> На Сталине лежит ответственность за гибель бесчисленных невинных людей, за нашу неподготовленность к войне. <…> Наш народ не поймет и не примет отхода — хотя бы частичного — от решений о культе личности. <Что сказал бы сейчас дорогой Семен Николаевич, доживи он до наших дней?> Любая попытка сделать это поведет не только к замешательству и разброду в самых широких кругах. Мы убеждены <…>, что реабилитация Сталина вызвала бы большое волнение среди интеллигенции и серьезно осложнила бы настроение в среде нашей молодежи».
Теперь мы знаем, что страхи эти были совершенно напрасными (куда «партия» повернула бы, туда и пошли бы за нею интеллигенция с молодежью), но тогда письмо произвело впечатление и притормозило возрождение сталинского культа. Тем более, что Семену Николаевичу удалось собрать под ним такой букет подписей, не считаться с которым было вряд ли возможно: академики Л. Арцимович, П. Капица, М. Леонтович, И. Майский, А. Сахаров, С. Сказкин, И. Тамм, писатели В. Катаев, К. Паустовский, Б. Слуцкий, В. Некрасов, В. Тендряков, К. Чуковский, режиссеры и актеры О. Ефремов, Андрей Попов, М. Ромм, И. Смоктуновский, Г. Товстоногов, М. Хуциев, М. Плисецкая, художники П. Корин, Б. Неменский, Ю. Пименов, С.Чуйков.
С увлечением рассказывал мне Семен Николаевич о своем знакомстве с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, которого считал «великим мыслителем» (поставил кавычки, чтобы подчеркнуть: это точно те слова, которые я от него слышал) и который «мог бы стать духовным отцом советского народа, если бы не был антимарксистом». В этих словах был весь Эрнст Генри: и разум, и сердце его стремились избавиться от идеологических схем, но фанатизм догматика, в эти схемы уверовавшего, побуждал его любую свежую мысль мерить все на тот же догматический аршин.
Где-то в середине семидесятых он дал мне прочитать и свою полемическую статью, критикующую Сахарова за его идею конвергенции капитализма и социализма. Кто только не топтал тогда за это Андрея Дмитриевича: от Чаковского до Солженицына! С диаметрально противоположных, конечно, позиций. Но таких «аргументов», которые нашел Семен Николаевич, не использовал, пожалуй, никто: он назвал эту идею «капитуляцией перед капитализмом», которая «отпугнет от Советского Союза» — кого бы, вы думали?.. «Прогрессивно мыслящих людей»!
Прогрессивно мыслящими он называл зарубежных коммунистов и подыгрывавших Кремлю омерзительных левых «интеллектуалов», зловещая роль которых в поддержке сталинской диктатуры еще в достаточной мере не изучена и не получила должной оценки. «Уж не Жорж ли Марше с Луи Арагоном ходят у вас в прогрессивных?» — спросил я Семена Николаевича, возвращая ему статью. «Разумеется, — недоуменно ответил он. — У вас есть основания в этом усомниться?» Я предпочел промолчать.
Когда осенью 1977 года мы готовились к проведению первых «Дней Литературной газеты» в Болгарии и подбирали состав делегации, я предложил включить в нее Эрнста Генри, чей неортодоксальный марксизм должен был бы прийтись по душе хорошо мне известной болгарской интеллигенции. Ни Чаковского, ни Сырокомского уговаривать не пришлось: Эрнст Генри был постоянным автором «ЛГ», а харизма, которой он обладал, могла бы способствовать успеху нашей поездки.
Действительность превзошла все ожидания. Только тогда я увидел воочию, какое содержание скрывается за ходульным словосочетанием «человек из легенды». Тысячи людей еще помнили политические бестселлеры «Гитлер над Европой» и «Гитлер против СССР» — эти книги распространялись из-под полы в льнувшей к Германии довоенной Болгарии. Многие считали их апокрифом, сочиненным в Москве и не имевшим единоличного — реального — автора. И вот он во плоти самолично явился и был готов к ответу на любые вопросы.
Во всех аудиториях его встречали громом оваций. Даже принимавший нас Тодор Живков с особым усердием жал его руку, уверяя, что издавна является почитателем «замечательного коммуниста товарища Эрнста Генри». К чести Семена Николаевича, он не купался в лучах своей славы, а подошел вполне деловито к представившейся ему возможности высказать в зарубежной (все-таки зарубежной) среде то, что его волновало: всюду он говорил об опасности возрождения сталинизма и о тех бедах, которые тот принес, о необходимости «демократизировать и гуманизировать социалистический строй».
Память о пражской весне была еще слишком жива — произносить публично такие речи мог позволить себе разве что очень смелый и в то же время очень наивный. Сталинистов в Болгарии было ничуть не меньше, чем в Советском Союзе, но оппонировать Эрнсту Генри, которому дал столь высокую оценку сам Тодор Живков, никто не посмел.
Впервые (на моей, разумеется, памяти) он был озабочен тогда не только политическими, но и бытовыми проблемами. На склоне лет в его жизнь вошла, наконец, любовь (мне он четко сказал тогда: впервые!). Во время какой-то поездки (кажется, в Алма-Ату) он познакомился на читательской встрече с местной студенткой, и ему показалось, что она ответила взаимностью на вдруг вспыхнувшее в нем чувство.
Было трогательно смотреть, как он неумело подбирал юбки и кофточки, теряясь в размерах и модах и каждый раз сомневаясь в точности выбора. Моя жена пришла ему на помощь, она ходила с ним по софийским магазинам, примеряя на себя всевозможные «мини», смущалась сама и смущала его: больше всего ему не хотелось, чтобы за постыдным этим занятием его застал кто-нибудь посторонний. Я посторонним уже не считался.
Возвратившись в Москву, мне пришлось еще раз оказать ему «бытовую» помощь. На подходе к восьмидесяти годам Семен Николаевич стал отцом, и возникла потребность не только оформить свое отцовство, но и вступить с матерью новорожденного сына в юридический брак. Настаивала, конечно, она, но и Семен Николаевич вовсе не выглядел жертвой чьего-то давления. Воспротивились работники загса — разница в возрасте больше чем на полвека приводила их в ярость. Спорить с ними и их убеждать — такое унижение было ему не под силу.
Просьба о помощи, с которой он ко мне обратился, содержала условие не вмешивать никого в тайну его личной жизни и решить, если можно, вопрос самому: сумевший преодолеть и не такие барьеры, он пасовал перед хамством чрезмерно моральных дамочек, которые глумились над знаменитостью, сознавая при этом, насколько «сам Эрнст Генри» — для них не более, чем гражданин Ростовский — зависит от их расположения.
Подобных заданий мне исполнять еще не приходилось. Моральные дамочки встретили меня с нескрываемым удивлением.
— Судя по вашим публикациям, — злорадно врезала одна из неистовых, — вы должны бы защищать старика от молодой хищницы, а не потакать ей. Как-то не вяжется с вашим именем… Мы отказываем товарищу Ростовскому, потому что жалеем его. Седина в голову — бес в ребро, — это не нами придумано. У нас таких заявлений сотни, все норовят окрутить знаменитых и богатых. Хоть бы одна влюбилась в бедного и неизвестного. Неужели не понимаете, чего они добиваются? Московской прописки, и ничего больше. Получит прописку — и бросит старую клячу при первой возможности. Если вы действительно желаете добра товарищу Ростовскому и имеете на него влияние, помогли бы ему лучше одуматься.
«Молодую хищницу» я не видел в глаза, она никогда не появлялась на тех скромных застольях,
которые время от времени мы затевали, — Семен Николаевич знал каждому реальную цену и в «интеллигентный круг» ее не вводил. Копаться в подробностях мне совсем не хотелось. Да не все ли равно, что там у нее за душой?! «Старик» пребывал в здравом уме и твердой памяти, его «окрутить» не смог бы никто, тайные мысли своей возлюбленной он был в состоянии прочитать ничуть не хуже, чем непрошеные защитницы его интересов.
— Позвольте человеку совершать даже безрассудные поступки, — сказал я. — Это его священное право.
Дамочки не позволили, но преодолеть их сопротивление большого труда не составило. Закон был на стороне жениха, негласные распоряжения анонимных начальников решающей роли сыграть не могли. Мое вмешательство имело тогда в Минюсте какое-то значение, создавать шумный конфликт из такой ситуации никому не хотелось. Запрет был снят, но, как это ни грустно, прогноз чиновниц все-таки оправдался.
Впрочем, предсказать такие последствия было, наверно, не так уж и сложно, а быть провидцем в тайнах души, поддавшись искренним, но, увы, запоздалым чувствам, куда труднее, чем проникнуть в замыслы политических лидеров. На склоне дней Семен Николаевич остался один, бесконечно привязанный к сыну и возлагавший все надежды на то поколение, к которому тот принадлежал. Ему казалось, что несбывшиеся мечты его юности воплотят те, что придут на смену.
Это совпало с тем периодом, который получил у нас название перестройки и который вызвал у Эрнста Генри новый прилив энергии. Он всерьез поверил, что никогда не покидавшая его романтика какого-то «идеального коммунизма» — Семен Николаевич остался ей верен несмотря ни на что — наконец-то превратится в нечто реальное. В вихре наступивших событий мы виделись очень редко, а телефонные разговоры вели обычно ночами. Было трудно представить, что человеку, одержимому новыми грандиозными планами, вот-вот исполнится девяносто! В ЦДЛ он затеял «свободную трибуну писателей», где при большом стечении публики страстно спорил и о «возврате к незамутненным источникам истинного социализма».
С учетом уже обретенного исторического опыта заезженная эта риторика выглядела поистине окаменевшим реликтом. Но для Эрнста Генри слова, давным-давно стершиеся, как медные пятаки, все еще не утратили своего первозданного смысла. Он звал и меня принять участие в этих дискуссиях, заверяя, что «московская весна» будет успешнее пражской, и призывая внести свой вклад в грядущий успех. С такими иллюзиями я уже успел распрощаться, но огорчать неисправимого романтика мне не хотелось — я уклонялся от его предложений, находя для этого не слишком убедительные и легко им опровергаемые предлоги. Понудить меня участвовать в очередной говорильне не смог даже и он.
Девяностолетний его юбилей, до которого он недотянул совсем немного, — и фактический, и «юридический» — вообще прошел незаметно. Уже наступило время иных идей и иных героев — Эрнст Генри надолго пережил свою эпоху, а у Семена Николаевича Ростовского (Леонида Абрамовича Хентова) не осталось никого, кроме малолетнего сына, фактически отлученного от отца.
Лубянка, которой он многие годы служил, никогда не признавала его «своим» (вероятно, чувствуя, что совсем своим — в ее понимании — он никогда не был), у писателей и журналистов уже были другие идолы и другая шкала не только политических, но и нравственных ценностей. На подходе к финальной черте Эрнст Генри оказался ни с кем, как и был он ни с кем всю жизнь, независимо от того, какое ведомство считало его своим сотрудником и кому он отдавал свой незаурядный талант.
Глава 11.
Чак
В семьдесят третьем году Виталий Сырокомский, первый заместитель Чаковского в «Литгазете», предложил мне перейти окончательно на работу в редакцию. До этого я уже многие годы регулярно выступал на ее страницах, все меньше и меньше совмещая любимую мной журналистику с адвокатской работой.
Впрочем, назвать адвокатскую нелюбимой я тоже, конечно, не мог. И бросать ее насовсем, по правде говоря, не хотелось. Адвокатское поприще было не только продолжением семейных традиций, но и способом постижения подлинной, не припомаженной жизни. Главное же его достоинство — возможность приносить людям реальную пользу — все больше и больше становилось химерой. Ни закон, ни судьи, ни то, что считалось общественным мнением, адвоката в процессе не ставили ни в грош, а его место в обществе если как-то и обозначали, то исключительно со знаком минус.
Презумпция невиновности изучалась в университете разве что как «осколок буржуазного права». Ее сторонника (среди «наших»), профессора Михаила Строговича, объявили апологетом реакции. Считалось бесспорным, даже если не говорилось вслух: преданный суду человек заведомо виновен («у нас зря не сажают») — с какой тогда стати его защищать? И от кого? Такие идиотские вопросы то и дело задавались в печати. «Защищать, но не выгораживать!» — называлась опубликованная в «Правде» чья-то статья, безграмотная и наглая, самим названием определявшая меру презрения власти к адвокатуре — этому архаичному и чуждому нам институту: власть терпела его лишь потому, что должна была выглядеть демократичной и цивилизованной на международной арене. Пускать пыль в глаза.
Еще совсем молодым, в первые годы своей адвокатской карьеры, я испытал шок оттого унижения, которому подвергся у всех на глазах в зале Московского городского суда, где участвовал в процессе как адвокат. Притом даже не в уголовном — в гражданском. Поразительно, что и это дело прямейшим образом связано с «Литературной газетой», о работе в которой я тогда и не помышлял.
Самуил Яковлевич Маршак попросил меня защищать интересы молодого художника Мая Митурича, который еще не был академиком живописи, но уже прославился изумительным оформлением детских книжек. Собственно говоря, в том процессе Май был отнюдь не художником, а всего лишь сыном художника, его достойным и бескорыстным наследником. Один из «мирискусников», знаменитый Петр Васильевич Митурич — ближайший друг Велимира Хлебникова (он умер на руках Митурича), женившийся после смерти друга на его сестре, художнице Вере Хлебниковой, — формального завещания не оставил. Поэтому его творческое наследие подлежало разделу между наследниками по закону, каковыми были на равных трое детей от двух браков. Дети от первого — Мария и Василий — сначала интереса к этому наследию не проявляли: переживший тирана, но все равно умерший в нищете и забвении, десятилетиями не выставлявшийся, Петр Митурич, по их представлениям, как художник никакой материальной ценности пока что не представлял. Его картины и рисунки хранились у Мая и ждал и своего часа.
Час этот настал вскоре после его смерти: в стране стало «подтаивать», жестокий мороз сменился начавшейся оттепелью, возвращались забытые имена. Первая за многие годы посмертная выставка Петра Митурича на Кузнецком мосту стала московской сенсацией. На нее ломились посетители. О ней вполне благосклонно отозвалась пресса. И лишь тогда двое старших детей художника вспомнили, что и они — тоже «при чем»… Работы отца вдруг обрели материальную ценность, а в недалеком будущем неизбежно должны были обрести еще большую: теперь уже этого не мог бы понять только полный глупец.
Иск о «разделе имущества» для Мая — младшего сына Петра Васильевича и, стало быть, племянника Велимира Хлебникова — был громом среди ясного неба: этого удара он не ожидал. Он свято исполнял просьбу отца: сохранить в целости все, что тот создал, объединив это и с тем, что осталось от Велимира, и с творческим наследием Веры. Получился бы уникальный комплекс работ совершенно различного жанра, типа и стиля — итог жизни одной замечательной русской семьи. Об этом сохранилась в тетради запись Петра Митурича. Ее авторство никем не оспаривалось, но — и это была сущая правда, — не заверенная нотариусом, она никакого юридического значения не имела.
— Голубчик, — жалобно доносилось из телефонной трубки, — надо что-то сделать! Нельзя допустить этот разбой! — Маршак чуть не плакал. — Когда Май приходит ко мне, у меня полное ощущение, что вошел Велимир. Вылитый Велимир… И я не могу смотреть ему в глаза от сознания своего бессилия. Его глазами смотрит на меня сам Хлебников, вы понимаете? Не бросайте Мая, голубчик!..
Я-то бросать его не собирался, да что ему тол ку от этого?! Закон был не на его стороне. Но… Кто и когда в советском суде соблюдал законы? Стыдно сказать, только на привычное беззаконие и можно было рассчитывать, обратив постылый советский стереотип в свою пользу. Несомненное завещание Петра Васильевича законной силы не имело, — я решил, однако, сыграть на привычной для нас демагогии. Меня утешало одно: на этот раз, по большому моральному счету, она могла послужить доброму делу.
По моей рекомендации было составлено и тут же опубликовано в «Литературной газете» (11 июня 1959 года) коллективное письмо в защиту целостности творческого наследия покойного художника. Его подписали Маршак, Чуковский, Коненков, Фаворский, Кукрыниксы, Сарра Лебедева и другие деятели культуры. Но, вместо того, чтобы найти аргументы для справедливого решения конкретного дела, газетные редакторы, опять же по чисто советской традиции, вывели «проблему» на пресловутое обобщение: «Не пора ли в законодательном порядке предусмотреть, чтобы художественные ценности, оставшиеся после смерти художника, были ограждены от формального раздела наследниками, а судьба произведений определялась интересами общества?»
Трудно поверить, что к этому убогому тексту могла прикоснуться рука тех писателей, чья подпись стоит под письмом. Но главное — получалось так, что именитые деятели культуры попросту предлагали государству грабить художников! Присваивать их труд. Без всякого камуфляжа! Это был не столько голос писателей и художников, сколько рык революционных братишек…
И — что еще главнее! Из этого текста с очевидностью следовало: защитники Мая признавали всю незаконность своей «защиты» и возлагали надежды лишь на новый закон, который, будь он даже и принят, никакого отношения к судьбе спорного наследия все равно иметь бы не мог. Сами «подписанты» ничего подобного не писали: в этом заверил меня Маршак, а позже, когда я его об этом спросил, подтвердил и Чуковский. Но их подписи стояли под опубликованным материалом, и оспорить это — по причинам понятным — они не могли. Газетная вырезка была приобщена к судебному делу и таким образом стала как бы «юридическим фактом». Вот с таким багажом мне предстояло отстаивать — воспользуюсь кондовым юридическим языком — интересы моего доверителя.
Никакого шанса выиграть процесс, разумеется, не было. Но я надеялся хотя бы на сочувствие суда: ведь мы защищали действительно честное и благородное дело! Надеялся на то, что он попробует склонить истцов к выполнению несомненной даже для них воли отца, — к добровольному отказу от раздела. То есть — до тех пор, пока все иные альтернативы не будут отвергнуты, — хотя бы морально останется с нами и попробует в рамках закона как-то помочь. К тому времени и Русский музей в Ленинграде, и Пушкинский в Москве письменно выразили готовность принять с благодарностью в дар все наследие Петра Митурича, Веры и Велимира Хлебниковых и отвести ему достойное место в своей экспозиции. Май немедленно согласился, Мария и Василий столь же быстро отвергли.
У суда (у судьи, если точнее) мы, однако, не встретили ни малейшего сочувствия. «Да кто он такой, этот ваш Митурич? — глумился судья. — Что он сделал для народа? Где общественное признание?» Городской суд помешался на Каланчевке, и, довольный собою, судья с ухмылкой предложил всем нам выйти на привокзальную площадь, дабы опросить с десяток прохожих, знают ли они, кто такой Петр Митурич. Два кивалы — «народные заседатели» — льстиво хихикнули. Невежды торжествовали. Пререкание с судьей, будь он хоть трижды невежда и четырежды хам, заведомо исключалось.
Не помню уже, по какому поводу я, сознавая, что в этой атмосфере процесс завершать нельзя, поднялся, чтобы огласить ходатайство. Тут произошло нечто ошеломительное. Судья (буквально через год или два он, по неведомым мне причинам, покинет судейское кресло, станет членом коллегии адвокатов, обретет приличную репутацию, будет запросто встречаться со мной на адвокатских собраниях, и я никогда ему не напомню его паскудства!) брезгливо махнул рукой и даже без злобы, вообще без всяких эмоций, как собаке, которая не вовремя тявкнула, спокойно бросил: «Заткнитесь!»
Самое поразительное — я заткнулся! Мне не хватило не только сил, но и воздуха, чтобы как-нибудь возразить. Процесс все равно отложили — причины нашлись, а я, как побитый пес, приплелся домой и тут же слег, ощутив неведомую мне ранее боль в груди. Вызванный врач констатировал приступ стенокардии. Мама впервые испытала его, когда ей перевалило за пятьдесят. Мне было почти в два раза меньше.
После поражения в деле Мая Митурича я провел в судах десятки, если не сотни, дел и многие даже успешно. Но унизительное чувство процессуальной своей второсортности испытывал не однажды. Показать, что адвоката терпят лишь по необходимости, считалось у многих судей и прокуроров хорошим тоном. Не позволить себя унизить, напомнить о своих правах и своем достоинстве — такой возможности практически не было: министерство юстиции, под неусыпным контролем которого состояла адвокатура, непременно расценило бы это как дискредитацию суда. Нет, подымай выше: всей советской юстиции. И еще выше: всего советского государства! Так что уж лучше было смолчать. Сделать вид, что так и положено. Не заметить тех унижений, которым тебя подвергают.
Постепенно я к ним притерпелся. Перестал замечать. Но «заткнитесь!» — забыть не мог. Вспомнил, наверно, и сразу же после того, как получил приглашение окончательно перейти на работу в редакцию. К тому времени я уже понял, что смогу в этом качестве принести гораздо большую пользу, чем в качестве адвоката. Не человечеству — людям. И даже — себе самому: ведь нет ничего дороже удовлетворенности своей работой и осознания того, что она вдет не впустую.
Главой редакции уже десять лет к тому времени состоял Александр Чаковский, превративший малотиражный, сугубо профессиональный, идеологически выдержанный и безмерно скучный листок, который выходил по вторникам, четвергам и субботам, в «толстый» 16-страничный еженедельник большого формата — первое такого рода издание в Советском Союзе. Завсегдатай проклятого Запада, он сделал ставку на новый тип газетной периодики, получивший там широкое распространение после войны, и предложил Старой площади внедрить такое же и у нас.
Предложил еще и другое: реализовать давнюю сталинскую идею, которую советский фюрер высказал в сороковые годы Константину Симонову. Идею лукавую и отнюдь не такую уж глупую: создать квазинезависимое издание, через которое можно было бы подбрасывать разные международные «дезы», вешать на уши лапшу, а в случае чего заявить, что публикация состоялась в неофициальном издании, за которое ни государственные, ни партийные органы никакой ответственности не несут. Как в любой нормальной стране, где любая публикация это не более, чем личное мнение автора. Ведь правда же, кто не знает, что в Советском Союзе существует полная свобода печати?!.
Такое предложение хрущевской команде пришлось по душе. Но и брежневская его не отвергла: в нем таились большие возможности для различных маневров, к тому же Александр Борисович обладал феноменальной способностью убеждать любых «партайгеноссе» высшего ранга в неизменной своей правоте, завораживая их несокрушимой логикой и безупречно найденными к случаю формулировками.
Конечно, он был выше их всех — по живости ума, нахватанной эрудиции, способности свободно ориентироваться в нештатных ситуациях, умению предвидеть, чего от него ждут, что хотят услышать его вельможные начальники, для которых он быстро стал незаменимым. И поймать налету их примитивные мысли, и тут же облечь в чеканные формулы, которых не было и быть не могло в убогом их словаре. Как известно, среди подлинных авторов «Малой земли» и всей бессмертной трилогии, изданной под коллективным псевдонимом «Л.И. Брежнев», был и Александр Чаковский — большое благо для газеты в ту пору.
Многие годы спустя, когда «Литературную газету» по причинам, которые в этой книге нет смысла обсуждать, постигло несчастье и она без боя сдала позиции, завоеванные интеллектом, талантом и трудом десятков первоклассных профессионалов, — только тогда дождавшиеся своего часа гробокопатели и мародеры, снедаемые мстительной завистью к бывшему успеху и всей газеты, и ее сотрудников, язвительно напомнили миру о том, каким был партийный замысел при создании этого еженедельника. Напомнили для того, чтобы показать, насколько дутым был ее авторитет и в какую подлую игру она играла. Расхрабрившиеся козявки, не смевшие пискнуть, когда это было опасно, забыли лишь об одном: замышляла-то Старая площадь действительно то, о чем с таким сладострастием они нам напомнили, да вот только так ли, как ей хотелось, этот замысел воплотился?!
Формировать кадровый состав редакции Чаковский поручил Виталию Сырокомскому, и тот — с чистой совестью и без задних мыслей — стал подбирать всюду лучшие перья. Именно для того, чтобы с их помощью издавать читаемый еженедельник, ничего общего не имеющий с унылой газетной серятиной. Подбор шел по самым высоким критериям и ни разу сбоя не дал. Главным образом «Комсомольская правда», но и другие газеты тоже, отдали «ЛГ» своих популярных сотрудников. Никаких условий перед ними не ставили, никакими «ценными указаниями» не снабжали — это была, несомненно, единственная газета, где самый факт приглашения автоматически означал, что журналист способен работать на свой страх и риск, не держась никакой специальной «линии», не получая никаких заданий и указаний, — работать так, как считает нужным и как умеет: предполагалось, он сам знает, что нужно его газете.
Как и подобает газете писательской, одним из главных условий любой публикации было не только «что», но и «как»: журналистика смыкалась с литературой, а если точнее — ею была. Не случайно почти все ведущие сотрудники «ЛГ» еще в шестидесятые и семидесятые годы, а не позже, когда это стало проще пареной репы, выпустили по несколько книг и оказались членами союза писателей. Иных принимали вообще только за очерки и статьи в газете: на литературных весах несколько их страничек тянули куда тяжелей, чем иные пухлые романы.
Газет, в сущности, было две: первая и вторая «тетрадки».
Первая была рупором Союза писателей, освещала проблемы литературы и искусства — с позиций идеологической чистоты. Нет нужды говорить о том, что за многие публикации на первых восьми страницах (чего стоит только травля Солженицына, Синявского и Даниэля, многочисленных диссидентов!) приходилось краснеть: никакое субъективное — «иное» — мнение там высказать было нельзя, ни в какую мнимую независимость на этих страницах никто не играл.
Вторая «тетрадка» вовсе не уравновешивала первую, как это слишком примитивно толкуют сегодняшние «пинатели», — у нее просто не было ведомственного хозяина, каким для первой являлся Союз писателей. Так называемый общий контроль со стороны ЦК к тому времени уже одряхлел, а ЦК превратился из некоего монолитного монстра в совокупность отдельных чиновников, каждый из которых одеяло тянул на себя.
Виртуозное мастерство хитреца Чаковского состояло в том, что он безошибочно определял, в какую цековскую дверь надобно постучаться, дабы получить желанный ответ (на их языке — совет). По негласным интрижным правилам партийного штаба, один кабинет не вступал в спор с другим. Получив добро за дверью номер пятнадцать, можно было рассчитывать на то, что из-за двери номер шестнадцать рекламации не последует. Лишь бы не перепутать дверь…
Задача, которая стояла перед газетой, казалась неразрешимой: быть проводником «линии партии» и вместе с тем стать широко читаемой. Личные амбиции Чаковского сыграли немалую роль. Он страстно хотел, чтобы его газету хвалили. Высокие партийные товарищи, заграничные собеседники, узколобые догматики и фрондирующие скептики… Идеологические громилы и те люди, чье мнение действительно он ценил… И писатели, и читатели…
Бывая в Дубултах (единственный писательский дом, который он признавал и любил), Чаковский ревниво вслушивался в отзывы «отдыхающих», штурмуя оттуда редакцию сообщениями, как оценили такую-то публикацию писатель X., внучка академика Y. и отдыхающий по соседству товарищ Z., настоящее имя которого, и это все доподлинно знали, было Косыгин. Или пусть даже только Шауро. Или кто-то еще… Не дай Бог, если вдруг оценили плохо: телефонная трубка едва выдерживала его крик. Никаких практических последствий это не имело: Сырокомский грозно сообщал на летучке, что такая-то статья вызвала критические отзывы и это необходимо учесть. Учитывали так, как считали нужным…
Вот в этом-то и было все дело, в этом и заключался тот секрет, который все называли феноменом «Литгазеты». Журналистский корпус, оказавшись столь однородным по своим устремлениям, отношению к окружающей действительности и профессиональному уровню, объединенный общностью интересов, позиций, целей, жил уже своей жизнью и сам направлял путь газеты, иногда вступая в сложную, не очевидную для посторонних конфронтацию со своим руководством. Каждый из сотрудников в отдельности, при всем своем таланте и благородстве, оказавшись в другом коллективе, в другой среде, при других редакторах, скорее всего не смог бы так себя проявить. тогда — не потом… И уж во всяком случае не имел бы даже сотой доли той самостоятельности, которую он получил в «Литературной газете».
Не коллектив реально был в подчинении у руководства, а руководство — у коллектива. Но — еще один феномен советской реальности! — успех газеты у читателей неизбежно менял и психологию самого руководства. Ведь лавры доставались и нашим начальникам! Точнее — им прежде всего! И они становилось тоже членами единого коллектива, радостно переживавшими общий успех. Именно общий — без этого никакого феномена не было бы вообще. Так складывалась уникальная творческая атмосфера единственной, ни на что не похожей в то время газеты — атмосфера, в которой я прожил двадцать счастливых лет.
Тираж ее повышался из года в год. Когда Чаковский пришел в «ЛГ», он едва доходил до сорока тысяч. Став еженедельной, газета сразу же его увеличила в пять раз. Он и дальше стремительно рос, но удовлетворить полностью читательские потребности было все равно невозможно. Подписка на «Литгазету» стала лучшим подарком, особенно далеко от Москвы. Чаковский оставил свой пост, доведя тираж до шести с половиной миллионов. При этом, по подсчетам социологов (такое исследование было специально заказано редакцией), номер газеты читало в среднем от шести до десяти человек. Иногда — до двенадцати… Далеко не каждая передача центрального телевидения даже в наши дни собирает такую гигантскую аудиторию.
Представить себе, что десятки миллионов читателей просто стали жертвами массового психоза, вряд ли возможно. Значит, было нечто такое, что заставляло тянуться именно к этим газетным страницам самых разных людей: и академиков, и героев, и мореплавателей, и плотников… И я в точности знаю — что: искренность, увлеченность, интеллигентность, нетривиальность взгляда, незаемность мысли, человеческий, хотя, по понятным причинам, сплошь и рядом эзопов язык, уважение к читателю. Никто не выдавал свое мнение за истину в последней инстанции. Любая публикация, без специальных уведомлений, была приглашением к спору. Полемических, даже резко критических, даже резко ругательных писем было сколько угодно. Но ни разу ни один читатель не упрекнул журналиста газеты в лицемерии, фальши, обмане. За это ручаюсь…
Журналистский корпус сложился отличный — каждый занимался своим делом, и у всех вместе оно было общее. Успех коллеги был и своим успехом. За эти годы мне пришлось работать с теми, кого всегда отличала авторская индивидуальность, самобытный стиль и несомненная компетентность. Владимир Кокашинский, Евгений Богат, Анатолий Рубинов, Александр Левиков, Олег Мороз, Владимир Михайлов, Игорь Гамаюнов, Александр Борин, Лидия Графова, Юрий Рост, Юрий Щекочихин, Нинэль Логинова, Лора Великанова, Григорий Цитриняк, Геннадий Бочаров, Капитолина Кожевникова, Леонид Почивалов — знаю, что перечислил далеко не всех, и прошу прошения у тех, кто не назван. Все они, и названные, и неназванные, были профессионалами первого класса. Не говоря уже о клубе «Двенадцати стульев» во главе с Виктором Веселовским, а потом и пришедшими ему на смену Андреем Яхонтовым, Павлом Хмарой…
В этом ряду — лишь сотрудники второй «тетрадки», что отнюдь не означает моего пренебрежения к первой. Просто я работал в ежедневном контакте с теми, кто во второй. Но отлично сознаю, что успех газеты был бы невозможен без такого, скажем, пера из первой, как Ирина Ришина. Как Алла Латынина. Лидия Польская. Слава Тарощина. Татьяна Хлоплянкина. Сергей Чупринин. Владимир Радзишевский. Ростислав Поспелов. Александр Егоров. Владимир Коркин. Карен Степанян. И многие другие. Это был единый «пул» — в том его достоинство и в том же секрет успеха.
Интересами газеты жили вдали от редакционного коллектива, но безошибочно настраиваясь на единую литгазетскую волну, первоклассные собкоры в Ленинграде и союзных республиках: Галина Силина, Илья Фоняков, Григорий Кипнис, Эдуард Елигулашвили, Зорий Балаян, Александр Самойленко, Георгий Целмс, Пятрас Кейдошюс — в их приверженности тем позициям, на которых стояли мы, не пришлось усомниться ни разу. Это была единая команда, где все понимали друг друга с полуслова.
Случалось, на какое-то время в коллектив залетала птица совсем из другого гнезда, совершенно не пригодная для климата, который сложился в редакции. И коллектив без малейших усилий отбрасывал ее, отторгал, как инороднее тело. Практически, насколько я помню, у нас никого не увольняли. Чужак смывался сам.
В последнем издании Большого энциклопедического словаря Чаковский назван одним «из идеологов охранительно-конформистской литературной политики конца пятидесятых — начала восьмидесятых годов». Что касается его собственной писательской продукции и той линии, которую он (отнюдь не только по приказу) проводил в иных «первотетрадочных» материалах газеты, — так оно, конечно, и есть. Что касается речей, произносившихся им, особенно за границей, — тем более. Но «политическим прожженным спекулянтом», как обозвал его в своей книге «Волчий паспорт» Евгений Евтушенко, Чаковский не был. Вспоминая о времени, в котором мы жили, реальный и трезвый анализ куда предпочтительнее пристрастного судейства. Жаль, что этому правилу не всегда следуют.
Чаковский не спекулировал на конформизме, он им жил. Не знаю, был ли он хоть сколько-нибудь эмоционален вне присутственных стен, но в работе уж точно никаких эмоций не признавал и психологическим поиском не занимался. Ему было абсолютно все равно, являются ли, скажем, стихи Евтушенко попыткой «очищения идеалов» или «театрализованной спекуляцией» (такой нелепый вопрос, по мнению поэта, будто бы стоял перед Чаковским), — он просто хотел их печатать, непременно в «Л Г», но так, чтобы не подставиться и не загреметь.
«Я вам буду позволять тридцать процентов против советской власти, но с условием, что остальные семьдесят будут — за», — говорил он Евтушенко. В этом и был он весь: пресловутые семьдесят процентов предназначались только для Старой площади, ими он защищался от любого разноса, а тридцать приносили славу газете. «Ну, какую антисоветчину вы нам еще подсунули?» — такими словами предварял он обычно чтение моего очерка. Вздыхал — и ворча: «Без антисоветчины вы не можете», — ставил на версточной полосе свою закорючку: прошло!
Нет, никакой спекуляции, тем более «прожженной», в его редакторстве не было. Скорее он был циником — постольку, поскольку цинизм присущ любому прагматику, жестко играющему по правилам этой, а не какой-то иной игры. Но еще и фанатиком: его прощальная речь на последнем съезде КПСС, которую он произнес, уже ни от кого не завися и осознавая свой бесповоротный уход с политический сцены, убедительно подтверждает это.
Главным произведением, которое он создал, были не его давно забытые романы и еще более забытые речи, а «Литературная газета» — именно в той ее ипостаси, которая обеспечила ей под занавес шестимиллионный или даже семимиллионный тираж. Он дал волю своим сотрудникам, которые отнюдь не разделяли его «охранительно-конформистские» позиции. И он знал, что не разделяли! Он использовал все доступные ему рычаги, чтобы пробивать на полосу их очерки и статьи, задержанные цензурой или влиятельными партийными бонзами, отлично понимая, что эти очерки и статьи расшатывают систему, которую сам — искренне, ревностно — охраняет. Он защищал своих сотрудников от любых попыток прищемить им язык, используя для этого могучие связи в верхах и все искусство кремлевских интриг, которым сам владел виртуозно. Как все это в нем уживалось, я не знаю.
Последние шесть лет своего земного существования он пребывал вне газеты и без газеты, и сразу же оказалось, что в ней, а не в «литературе», вся его жизнь. Оставшись всего лишь за письменным столом и не зная, о чем писать, он превращался у всех на глазах в сентиментального, слезливого рамоли. Говорят (не знаю, насколько это точно), он требовал, случалось, официальный костюм, хорошо отглаженную рубашку и галстук, потому что его вызывает (давно к тому времени усопший) товарищ Брежнев. И — машину, скорее машину: ведь его ждет политбюро! На другие фантазии угасавший, сдвинутый мозг уже не был способен.
И однако же факт остается фактом: двадцать лет руководимая им газета была легальным оазисом в коммунистической пустыне, дав возможность критически мыслящим, все видящим, все понимающим, но безгласным и изверившимся людям осознать, что они не одни в этой «вселенной». Была тем, что в одном из стихотворений тот же Евтушенко, слишком круто, прямолинейно, несправедливо и, как теперь говорят, однозначно обошедшийся с Чаковским в своих мемуарах, назвал «катером связи».
О том, что руководители газеты прекрасно осознавали взрывной характер иных публикаций, убедительно свидетельствуют те наивные и смешные ухищрения, к которым они прибегали. Сырокомский придумал — для предварительной защиты того или иного очерка — сопровождать его (в рамочке! жирным шрифтом!) какой-нибудь актуальной цитаткой из новейших откровений партийных вождей. Что-нибудь вроде «как учит товарищ Брежнев» или «как подчеркнуто в решениях последнего Пленума». Поскольку о том, про что говорилось в «опасной» статье, ни товарищ Брежнев, ни Пленум ЦК не молвили ни слова, эта жалкая хитрость была наверху быстро разгадана, и газетному начальству разъяснили: такой рептильной выходкой они лишь высмеивают автора цитатки, показывая, насколько далеко от реальной жизни то, чему он учит и на что указывает.
тогда изобрели другой комичный щит. В редакционном врезе, предварявшем публикацию, сообщалось, что история, о которой рассказывает автор, разумеется, нетипична для нашей великолепной советской действительности и представляет собой разве что уродливый «частный случай». Сначала я по глупости противился этой заведомой лжи, полагая, что она превращает меня в посмешище. Но, ознакомившись с читательской почтой, резко переменил тактику. Там, где в корректуре редакционного вреза стояло «не типичный случай», я смело исправлял на «редчайший», «единственный» и даже «уникальный», что редакторатом встречалось, естественно, с одобрением. Доведение этого бреда до триумфального абсурда стало для нас с Богатом любимым занятием. Мы соперничали друг с другом в поисках все новых и новых дурацких синонимов, пока проницательный Чаковский не дал нам по рукам. «Прекратите этот балаган», — сказал он Богату, о чем Женя тут же поспешил сообщить мне.
Но сбитый столку читатель, похоже, уже втянулся в игру.
«Почему вы держите нас за дураков?! — возмущался читатель из Перми Виктор Егорович Демьянов. — Постыдились бы своих седин <у меня их тогда еще не было>! О каком-таком уникальном случае сообщаете вы?» Это был отклик на очерк «Сильная личность» — о безнаказанном воровстве, которым систематически занимались областные начальники и их дети. «Неужели вы сами верите в такую глупость? тогда приезжайте к нам в Пермь, и мы вам покажем десятки таких же случаев. Мы тут вслух читали и обсуждали ваш „судебный очерк“. Ничего уникального в нем не увидели. И никто не увидит. Зачем тогда правой рукой пишете одно, а левой другое? Побольше уважения к своим читателям, вот чего мы хотели бы вам пожелать».
Я ответил: «Дорогой Виктор Егорович! Если вы, прочитав очерк, пришли к выводу, что ничего уникального в рассказанном мною нет, что никто эту уникальность вообще в очерке не увидит, значит, там это так и написано. Как получилось, что, вопреки редакционному уведомлению, вы смогли сделать именно такой, правильный вывод, — это мой журналистский секрет. Важно, что вы такой вывод сделали. Благодарю вас за это».
Через несколько дней принесли телеграмму: «Все поняли спасибо нетерпением ждем публикаций новых уникальных случаях семья Демьяновых и девять ее друзей». Ради одной такой телеграммы, честное слово, стоило с мукой пробивать очерк на полосу и писать дурацкие врезы…
Здесь уместно рассказать о том, перед каким мучительным выбором я оказался, готовя очерк «Сильная личность». Его «героями» стали почти все царьки Пензенской области во главе с первым секретарем обкома Ерминым, к тому времени перекочевавшим уже в Москву на высокий пост заместителя председателя российского Совмина. Был он к тому же членом ЦК — иначе сказать, фигурой неприкасаемой. И все же мы прикоснулись… Выбор, впрочем, стоял лишь предо мной, никто другой о нем не имел никакого понятия. Почти единственным из областного начальства, кто прямо в криминале замешан не был, но, будучи вторым секретарем обкома, все знал и воровству не мешал, оказался Георг Васильевич Мясников, в далеком прошлом комсомольский вождь московского разлива, который вернул мне — фактически лично он, а не мифическое бюро, — комсомольский билет. И тем самым дал шанс выплыть.
Лично он, повторяю, ни прямого, ни косвенного отношения к сюжету как таковому вообще не имел, что избавило меня от угрызений совести, когда я опустил в очерке его фамилию. Но спастись ему было бы трудно: ведь он все знал и ничему не мешал. Когда тайное становилось явным, партийная метла мела беспощадно. Я с тревогой ждал, не коснутся ли и его крутые «меры». Пронесло!.. Думаю — потому, что подсуетился Ермин. Спасал себя, а заодно и других.
Вряд ли я простил бы себе, если бы отплатил Мясникову злом за добро: по известной восточной пословице, это достойно не человека, а осла. Но и порадеть «своему», закрыв глаза на все непотребства, тоже не было доблестью. Такие вот задачки задавала нам жизнь: так — плохо, а так — еще хуже! Несколько лет спустя, когда Мясников вернулся в Москву и стал первым заместителем Дмитрия Сергеевича Лихачева в Советском Фонде культуры (то есть фактически руководителем Фонда), мы снова увиделись — с интервалом лет в сорок. И он сказал, что хорошо себе представлял, какой выбор стоял предо мной.
— Неужели вы помните, — спросил я его, — мое персональное комсомольское дело?
— До мельчайших деталей, — ответил он.
— Своим очерком я причинил вам зло?
— Несколько трудных недель. Но все обошлось.
— Могло не обойтись?
— Могло…
Он пожал мне руку и отвернулся. Я знал, что закрыть глаза на пензенскую «панаму» не имел никакого права. Но отчетливо сознавал и то, что Мясников, а не кто-то другой, спас меня от гражданской казни в те жестокие времена. Спас, будучи со мной не знаком и, конечно же, не предвидя, как дальше сложится жизнь. Какую драматургию закрутит… Даже если он действовал тогда по чьему-то звонку, все равно — операцию провел бесподобно.
В надписи на книге, которую я ему подарил, все это нашло отражение. В ответ он прислал свое фото — с припиской: «У меня нет книги, которую я бы мог Вам подарить». На фото была надпись: «Человеку, который помнит добро». Фотография лежала в редакционном моем кабинете. Она затерялась, когда я его лишился. Многое у меня пропало тогда. Фото Георга Мясникова — толком не могу объяснить, почему — одна из тех потерь, о которых я особенно сожалею.
Уже несколько раз на этих страницах упомянуто имя Евгения Богата, моего коллеги и друга. В семидесятые годы это был, несомненно, ведущий сотрудник и самый популярный автор «Литературной газеты». Я был всегда избалован огромной читательской почтой, но рекорд все равно оставался за Богатом: мне светила лишь серебряная медаль. И во всех опросах, которые проводили по заказу редакции социологи, первое место среди популярных авторов безраздельно принадлежало ему.
Женя имел философское образование и, заявив о себе как о талантливом и своеобразном писателе, все равно остался философом. Точнее — мыслителем, которому случай, фабула, факт служат лишь поводом для размышлений о нравственных ценностях, о смысле жизни, о попытке человека постичь самого себя. Для своих философских эссе, занимавших обычно целую газетную страницу, он отбирал такие сюжеты — современные и исторические, — которые давали возможность выйти на мировоззренческие обобщения и подчинить читателя движению своей мысли.
Сегодня у подобных эссе читающей публики уже не осталось. Но и тогда грандиозная популярность очерков Богата, предназначенных очень узкому кругу, удивляла и поражала. По всем резонам они не могли найти отзвука у миллионов наших читателей, ибо действие в них развивалось медленно, они были перегружены рассуждениями на отвлеченные темы и отличались намеренным, жирно прописанным морализаторством.
Не могли — да вот находили! Огромные мешки писем после очередной публикации непреложно свидетельствовали о том, что он нащупал какую-то болевую точку и прикасался к ней доброй, врачующей рукой. Заглушая барабанный бой советской публицистики, зазвучал одинокий и чистый, ни на кого не похожий голос.
Писали чаще всего Богату люди со сломанной, ущемленной судьбой, потерявшие ориентиры, беспомощно барахтающиеся в равнодушном людском океане. Он был выразителем их чувств, он понимал их, и они тянулись к нему за советом и помощью. Тянулись — и получали: совет и помощь. Ответить на эти письма никто вместо него, конечно, не мог, и он отвечал сам — старательно, подробно, не считаясь со временем.
Сюжеты наших выступлений мы обычно обсуждали вместе — подробно и долго, — стремясь к максимальному извлечению потенциала, который был в них заложен. Какие-то его мысли нашли отражение в моих очерках, мои — в его. На соавторство никто из нас не претендовал — понятие «творческое содружество» я воспринимаю в реальной конкретике лишь применительно к нашему дружескому союзу, который длился, увы, всего лишь 15-17 лет.
Женя сгорел от тяжелой болезни за ничтожно короткий срок — его уход фатально совпал с грандиозными переменами, начавшимися в стране. Имя его, эссе и книги вскоре забылись. Столь быстрое, ошеломительно быстрое забвение после стойкого, длительного успеха — как же это могло случиться? Не думаю, что вдруг исчезли люди с неудачной судьбой, те, кто ищет душевную и духовную опору. Но ищут ее уже не в проповеднической мудрости эссеиста, а под церковными сводами — одни, в унылом, деловом прагматизме — другие. Всего этого в «эпоху Богата» наши люди были лишены, и он талантливо, умно и щедро заполнил вакуум. Одна эпоха сменилась другой, и благородный Женя Богат остался в мире, ушедшем под воду.
За пределами редакции мало кто знал, каких усилий и хитроумных ходов стоило пробить материал на полосу, а потом еще избежать тяжких последствий. Полный перечень таких, не видимых миру, боев местного значения занял бы всю книгу. Иногда казалось, что ничто уже не может помочь, но выручала случайность. Похоже, Высший Разум благоволил нам и нас охранял.
С неожиданной легкостью прошел на газетную полосу очерк, за судьбу которого я имел основания опасаться. Он стал итогом моей недальней поездки — во Владимирскую область, где в одночасье передохло огромное стадо коров. Коровы погибли от голода: их вообще не кормили. Ничем. Сплошь перепившаяся деревня славно гуляла сначала на Пасху, потом на «майские праздники», не слыша — не слушая! — воя и стонов сдыхавших животных. Впрочем, если и слышала, кормить все равно было нечем: победные реляции о заготовленных на зиму кормах оказались, как водится, дутыми, амбары были пусты.
Этот очерк вызвал такую волну читательских писем, которая даже мне, привыкшему к их изобилию, показалась чрезмерной. Судьба загубленных коров кровно задела и тех, кто всегда оставался безгласным, когда речь шла о загубленных людях. Говорю никому не в укор: ведь нравственный максимализм — голодай сам, но накорми скотину — издавна был нормой в крестьянской России и передавался из поколения в поколение. Его забвение и поразило читателей больше всего. «Что сделали с народом?!» — такой вопрос содержался едва ли не в каждом письме.
Откликнулись те, от кого, по правде сказать, я вообще не ожидал никакой поддержки.
«Благодарю от всего сердца, низко кланяюсь за честное, с болью душевной, обнажение страшной правды, — писал мне поэт Алексей Марков, известный в широких кругах своим, не красившим его, ответом Евгению Евтушенко на стихотворение „Бабий яр“. — Тормошите и дальше людскую совесть, бейте в набат, пробуждайте уснувших, раскрывайте глаза ослепшим. Мы все вам поможем». Написал и поэт Николай Флеров: «Прочитал Ваш потрясающий рассказ и не смог промолчать… Трудно поверить, что люди могли так одичать. Но только ли они виноваты в этом?.. Желаю Вам сил, чтобы Вы могли и дальше делать свое честное дело». Еще одно, очень тронувшее меня письмо, прислали прозаики Майя Ганина и Юрий Сбитнев. Позвонил Володя Солоухин:
— На моей Владимирщине такого никогда не было… Ты написал про стихийное бедствие, только вызвала его не природа, а злая воля подонков. Как тебе удалось нащупать самый больной нерв? Признайся, ты и сам этого не осознавал. Но ведь это не Владимирская, это общерусская беда. У шавок, как и положено, собачий нюх, они — ты увидишь — собьются в стаю и хором тебя облают. Но ты держись.
Так
оно и оказалось. Хор получился складный, а лай перешел в рев. Чаковского донимали секретари сразу нескольких обкомов, грозя «поставить вопрос» в ЦК. Помнится, звонили из Архангельска, Воронежа, Курска, Вологды, Кирова, откуда-то еще. Все гнусавили одно и то же: в области нечего жрать, магазины пусты, а мы своими публикациями дразним людей, возбуждаем, пробуждаем, подначиваем, расшатываем, льем воду на мельницу — известно, разумеется, чью… Звонили не только в редакцию, но и прямо на Старую площадь, оттуда — рикошетом — их вопли донеслись и до нас. Чей-то звонок с очень большого верха Чаковского, видимо, напугал. В пятницу (номер с очерком «Вешние воды» вышел в среду) он вызвал меня и коротко, в стиле военного приказа, обжалованию не подлежащего, распорядился:
— Будем опровергать!
Потом смягчился, дал объяснение.
— Выхода нет, придется… Ничего отрицать не станем. Напишем: автор погорячился, сгустил краски, во всем виновата погода, а пьянство не было таким уж повальным. Важно подчеркнуть: виноваты не социальные условия, а стечение обстоятельств и несколько конкретных людей. Лучше, если вы напишите это сами. Розог для себя не жалейте, но сочините так, чтобы и в ЦК успокоились, и вас увольнять не пришлось бы. Потому что такая вероятность не исключается.
Всю субботу и все воскресенье я корпел над этим заданием, пребывая в роли унтер-офицерской вдовы. В понедельника положил Маковскому на стол свое сочинение размером в одну страницу.
— Что вы мне принесли? — проворчал он, брезгливо держа в руках сотворенное мною раскаяние.
— Опровержение… — пробормотал я. — Которое вы заказали.
— Легенда меняется, — без тени юмора ответил он мне цитатой из известного анекдота про советских шпионов. — Задание вы получили в пятницу, а в субботу и воскресенье события получили другой оборот. На первой полосе пойдет материал под рубрикой «резонанс».
Любуясь эффектом, он дал мне его в уже набранном виде, а принесенную мною страницу театральным жестом швырнул в корзину. В материале, который, кажется, он же сам подготовил, содержалось нечто ошеломительное. Абсолютно все, о чем было написано в «Вешних водах», партийными органами признавалось правильным. За субботу и воскресенье во Владимире, в других городах области срочно прошли расширенные пленумы обкома и всех райкомов области. Несметное количество партийных и прочих тузов лишилось своих постов. Прокуратура возбудила уголовное дело. Материалы Владимирского пленума было предложено обсудить и в других областях страны. «Позор» газеты сказочным образом и сказочно быстро превратился в ее триумф. У чуда, однако, были свои причины, о которых, конечно, я не знал, знать не мог и меньше всего думал о них, ибо к интригам в верхах никакого отношения никогда не имел.
Вот что в реальности оказалось. Только что, после загадочной смерти Федора Кулакова, секретарем ЦК по сельскому хозяйству был назначен Михаил Горбачев, который, естественно, по неизменной советско-партийной традиции, должен был свалить все беды на прежнее руководство и представить себя человеком, при котором все будет совсем по-другому.
Очерк «Вешние воды» оказался для него нежданным подарком. Если бы такого очерка не было, его было бы нужно придумать… На примере беды, постигшей одну владимирскую деревню, Горбачев решил показать, как плохо было стране до него и без него. И что теперь-то уж будет совсем по-другому.
Для поднаторевших в интригах партаппаратчиков мой очерк стал выглядеть чуть ли не заказным. Конечно, нам было выгодно, что они так считали: престиж газеты в их трусливых, лакейских глазах поднялся еще выше, что же касается автора очерка, то его теперь стали бояться в этих кругах еще больше. Чем автор не раз и воспользовался, спасая от расправы попавших в беду людей. Но это уже другая, другая тема…
Тот же очерк задел за живое и совсем иные силы. На обсуждение газетных моих очерков, устроенное в ЦДЛ секретариатом московской писательской организации, пришли, среди многих других, «писатели-патриоты», уже тогда начавшие подавать голос. Не столь пока еще вызывающе, как годы спустя.
Один из этой компании — некто Васильев, занимавший тогда пост заместителя главного редактора «Нашего современника», — расположился в первом ряду Малого зала, почти улегшись на стуле и вытянув ноги вперед. Только я заговорил про «Вешние воды», как Васильев прервал меня ехидным вопросом: «А какое вам, собственно, дело до наших русских коров?» Не уверен, что я смог бы достойно ему ответить, — хамские выходки охотнорядцев еще не стали привычными, — но меня опередил Анатолий Аграновский, скромно сидевший у окна в ряду шестом или седьмом. Он поднялся, пытаясь издали разглядеть хама, и с будничной деловитостью, наивностью даже, спросил:
— Не поделитесь ли с нами, как вам удалось определить национальность коров?
Реплика Аграновского вывела зал из ступора. Все загудели, задвигались, засмеялись. Сторонники Васильева — они были, конечно, в зале — проявить себя не отважились. Раздались крики: «Уберите отсюда этого типа!», «Откуда взялся здесь хулиган?», «Как он сюда пролез?» и разное прочее в том же духе, что сразу же поменяло тональность всего обсуждения.
Старейший писатель, человек беспримерной судьбы и высочайшего благородства, истинный русский интеллигент и дворянин Олег Васильевич Волков тоже поднялся, пытаясь разглядеть через головы сидевших лицо черносотенца. «Мне стыдно за вас», — только и смог он сказать хулигану, но эта беспомощная, казалось бы, реплика была сильней, чем пощечина.
С тех пор к подобным атакам я привык и перестал на них реагировать: уважающий себя человек ни в какую полемику с погромщиками вступать не станет.
Зато само обсуждение доставило много приятных минут. Ведь труднее всего, как известно, добиться признания у коллег, услышать добрые слова не только от читателей, но и от товарищей из того же цеха. Именно такие слова я тогда услышал.
Камил Икрамов говорил о том, как журналистика в обсуждаемых очерках превращается в литературу. Александр Борщаговский — что к голосу их автора прислушиваются миллионы читателей. Станислав Рассадин считал, что автор продолжает святое дело просветителей 18-го века — в большей мере, чем демократов 19-го: первые обращались к массе, стремясь научить ее азбуке общественной морали, тогда как вторые только к себе подобным. Леонид Лиходеев показал многообразие литературных приемов, используемых автором, благодаря чему читатель воспринимает очерки сначала сердцем и лишь потом головой: по его мнению, именно это делает их столь впечатляющими. Анатолий Злобин считал, что в этих очерках отражается господствующее настроение в обществе, от чего каждый из них кажется читателю его собственным публичным выступлением, а не только произведением писателя.
И все же совершенно неожиданным подарком было выступление председателя коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР А.М. Филатова. Он отметил, что судьи делятся на две категории: тех, которые думают лишь о себе, и тех, кто думает о стране и народе. Для вторых, сказал Александр Михайлович, очерки обсуждаемого автора в большей мере служат «материалом для раздумий и даже руководством к действию», чем иные руководства в собственном смысле слова. Сказать вслух
такое (и
тогда!) мог далеко не каждый из юристов самого высшего эшелона. Что-то уже менялось в сознании, дух раскрепощался, надо было помочь этому процессу набрать обороты.
Ситуация в газете кардинальным образом изменилась, когда внезапно, без всяких объяснений, был снят со своего поста Виталий Сырокомский. Ни до этого, ни после — в мою, по крайней мере, бытность — никаких других увольнений руководства не происходило. Редакторат казался стабильным и представлял собой единую, цельную команду, которая, в определенных для нее рамках и соблюдая правила игры, делала свое дело. И вдруг — как шок: сняли Сыра!..
Бродили разные версии, одна фантастичнее другой, но никаких подтверждений какой-либо из них, хотя бы косвенных, так и не появилось. Даже сегодня, когда, казалось, и не такие «тайны мадридского двора» выплыли наружу, эта все еще скрыта во мгле.
Долгое время, ища, как всегда, и свою вину, я допускал, что фатальную роль сыграла одна публикация, к которой я имел прямое касательство. Под рубрикой «Отчет о командировке» мы напечатали за подписью нашего разработчика Бориса Плеханова написанный мной материал об одном квартирном хулигане, который занимал весьма ответственный пост в министерстве иностранных дел. Дипломаты относились у нас всегда к касте неприкасаемых, но «ЛГ» удалось разбить и этот привычный миф. Объясняться приехал в газету секретарь парткома МИДа В.Ф. Стукалин: вскоре он станет заместителем министра. Освобожденный партсекретарь такого министерства занимал в начальственной иерархии ступеньку никак не ниже секретаря обкома.
Когда я по вызову Чака вошел в его кабинет, там уже был накрыт стол — естественно, на две персоны — с коньяком, «мишками» и прочим традиционным набором. Я тоже был приглашен к столу, но ни рюмки, ни чашки, ни «мишки» мне не досталось: не по Сеньке шапка…
— Я вообще не в курсе, — отвел от себя удар главный редактор. — Ваксберг готовил, он все знает и все сам вам расскажет.
Рассказывать мне было не о чем: то, чем мы располагали, вошло в опубликованный материал. Этого было более чем достаточно, чтобы сделать надлежащие выводы о лощеном мидовце, председателе кооператива, который вышвырнул на лестницу кандидата медицинских наук — вдову бывшего дипломата, а вслед за ней и чемодан с ее гардеробом. Квартира вдовы понадобилась директору мебельного магазина — тогда это была очень хлебная и очень полезная (для любителей «черного хода») должность.
Оспорить факты никто не мог — их очевидность была вне сомнений, оспаривалось, и это все понимали, право редакции сделать их достоянием публики. «Своих» дипломаты в обиду не давали, а критика одного из коллег — все по той же советской традиции — воспринималась как компрометация всего министерства.
— Материал тщательно проверен, — сказал я. — Ни одной ошибки в нем нет. Каждый приведенный факт подтвержден документально. А выводы делать не нам: свою миссию мы выполнили.
— И в чем же состоит ваша миссия? — многозначительно улыбаясь и пронзая меня своими бездонно голубыми глазами, спросил вельможный визитер. — Обливать помоями тех, кто на международной арене отстаивает интересы нашей с вами страны?
Я ждал, что на эту демагогическую блевотину ответит главный редактор, но он молча тянул коньяк одним уголком рта и сосал потухшую сигару другим. Опять пришлось отвечать самому — в стилистике, доступной моему собеседнику.
— Мы никого не обливаем, товарищ Стукалин, мы информируем читателя о том, что несовместимо с коммунистической моралью и советскими законами.
— Почему вам надо информировать об этом весь мир, а не партийные органы? Позвонили бы мне, мы бы разобрались и приняли меры.
— Мне кажется, информация такого рода задача не редакций, а совсем других служб. Редакции должны выпускать газеты.
Ошпаренный взгляд Стукалина заметил не только я, но и Чак.
— Идите работать, — пробудился вдруг он, и я пошел, провожаемый прищуром небесно-голубых стукал и неких глаз. Я прочитал в них свой приговор.
Со мной, однако, ничего не случилось, а Сыра изгнали. Сам он учился когда-то в МИМО, был германистом, дипломаты могли его причислять к кругу «своих». И вдруг — такой вот нож в спину… Мне показалось, что увольнение Сырокомского — это месть за «предательство».
Теперь я думаю, что дело не в этом — вряд ли такая причина, если была она, конечно, единственной, могла помешать Чаковскому, при огромных его связях, совладать с ситуацией. Значит, было нечто такое, что не смог преодолеть даже он. Или не захотел. Приунывшему коллективу сообщил лишь одно:
— Я беседовал с товарищем Зимяниным (секретарь ЦК), и он заверил меня, что увольнение Виталия Александровича никакого отношения к линии газеты не имеет. Продолжаем работать, как работали раньше.
То обстоятельство, что и тогда, и даже теперь операция «Сырокомский» окружена столь глубокой и непроницаемой тайной, наводит на простейшую и очевидную мысль: к его изгнанию приложили руку родные службы, тоже мстившие ему за какие-то, неведомые нам, грехи перед ними. Возможно, они имели задевшую их «оперативную» (агентурную) информацию. А возможно, сами же ее смоделировали, или, попросту говоря, сочинили, чтобы посадить в освободившееся кресло совсем другого человека.
Другой вскоре пришел. Это был Юрий Петрович Изюмов, который долгие годы был ближайшим помощником Виктора Гришина, тогдашнего первого секретаря московского партийного горкома, члена политбюро, мечтавшего втайне о месте генсека. Свою близость к Гришину Изюмов никогда не скрывал, но имени его, как имя Господа всуе, не произносил. Имя заменял эвфемизм. «Один-высокоответственный-партийный-товарищ,-которого-я-глубоко-уважаю», — говорил он при случае, и все понимали, о ком идет речь. Однажды я сказал Богату, что это самый длинный псевдоним, который я когда-либо слышал. Определение мое прижилось. Многие потом в редакции вместо «Гришин» говорили: «Самый длинный псевдоним» или еще прозрачнее: «Товарищ псевдоним». Последующий крах Гришина не привел автоматически к краху Изюмова: у него были другие, весьма прочные, связи.
Атмосфера в газете с его приходом стала иной. Воцарился — не сразу, но воцарился — какой-то типично партийный дух, который не мог, конечно, полностью ликвидировать то, что уже стало в газете привычным, и, однако же, исчезли раскованность, непринужденность. Чаще, чем раньше, посещали редакцию немые фельдъегери, приносившие какие-то секретные бумаги, после чего невесть откуда взявшиеся статьи — вполне определенного направления — оказывались на газетных страницах. Даже, случалось, вытесняли те, которые были подготовлены заранее и уже стояли в сверстанной полосе.
Появились и зримые плоды близости к самым верхам. Изюмов пробил для редакции просторное семиэтажное здание возле Сретенки (до настам размещалась Дирекция культурных программ московской Олимпиады), даже у меня впервые появился крохотный трехметровый кабинетик (до этого, в здании на Цветном бульваре, был один десятиметровый на шестерых), но по коридорам передвигались бесшумно, как в постылых советских офисах, где по журналистской службе мне приходилось бывать.
Публиковаться стало труднее, и однако пожаловаться на то, что перед острыми материалами опустился шлагбаум, я не могу. Погоду все равно делал Чак, а не Изюмов. Вольный дух — при таком коллективе — никто подавить не мог. Но лавировать стало труднее.
Однажды мы поехали в Ленинград: «Литгазета» проводила очередную встречу с читателями. С нами поехали Булат Окуджава, Олег Табаков, в Ленинграде к группе присоединился Даниил Гранин. Вел встречу Изюмов, представляя каждого из выступавших по его воинскому званию: мероприятие проводилось в Доме офицеров. Я был представлен тем, кем действительно был: рядовым необученным. Лишь один из участников — международник Иона Андронов — еще за кулисами назвать свой воинский чин отказался. Без маскировки признал вопрос провокацией. Так Изюмову и сказал! Прямо, в глаза… Тот понял свою оплошность — и стушевался.
Перед выходом на сцену мы сидели в так называемой «артистической», распределяя очередность наших выступлений.
— Про что вы будете говорить? — спросил Изюмов: от этого зависело, под каким номером мне выступать.
Я напомнил, что именно в этом зале судили Николая Вознесенского и его товарищей по так называемому «ленинградскому делу», здесь им вынесли приговор, после чего надели на смертников шутовские колпаки: милая шутка палача всех народов…
— Не подходит! — всполошился Изюмов. — Мы приехали не для этого. От вас ждут чего-нибудь поактуальней.
Реабилитация жертв произвола давным-давно состоялась, но публично напомнить о кровавых игрищах усатого тирана по-прежнему считалось опасным. Наверно, Изюмов был по-своему прав: он знал, что в зале присутствуют не только читатели, но еще и опричники князька Ленинграда и претендента на трон, сталиниста Романова, а уж им-то мои исторические новеллы по душе прийтись не могли.
Почему-то тот эпизод, принципиального значения, казалось бы, не имевший, оставил в памяти прочную мету. До «перестройки» предстояло прожить еще несколько лет, но что-то уже сдвинулось в сознании, все время подбирать обтекаемые слова, чтобы выразить даже самую элементарную мысль, становилось невмоготу — по необъяснимой причине я почувствовал это особенно остро, сидя на сцене Ленинградского Дома офицеров и размышляя о том, как бы на эзоповом языке все же сказать то, что мне запретили. Ничего не надумал. И говорил совсем о другом. Встреча все равно прошла превосходно. Но горький осадок остался.
Мы вернулись в гостиницу, и Булат зазвал меня к себе.
— Я боялся, что ты все же ляпнешь что-нибудь этакое, — сказал он, когда мы остались одни. Булат слышал мой разговор с Изюмовым, но в него не вмешался.
— Надо бы ляпнуть! — злясь на себя, возразил я.
— Не надо! — Булат сказал это резко, твердо, категорично. — Зачем рисковать тем положением, которое ты занял? Второго шанса не будет. Ты на своем месте. Оно в миллион раз важнее, чем речь, которую бы ты произнес и на этом сгорел бы. Слишком несоизмеримы последствия.
— Надоело, Булатик! — признался я.
Он внимательно на меня посмотрел и ничего не ответил. Вспомнил ли он, как за несколько лет до этого мы встретились в Восточном Берлине, в его номере гостиницы «Штадт Берлин» на Александер-платц, и я тоже отговаривал его не комментировать свои песни на вечернем концерте, как собирался он сделать, чтоб им лучше дойти до немецких ушей?
— Надоело, Аркадий! — сказал он мне тогда, выслушав столь же разумные мои аргументы. — Надоело, надоело… — повторил несколько раз. Но от задуманных комментариев все-таки отказался. И правильно сделал: «свое место» Булата состояло совершенно в другом.
Какое-то время спустя с бригадой «Литгазеты» мы поехали на такую же встречу в Новосибирск. Это был мой первый (и, наверно, последний) приезд в город, где волею судьбы я появился на свет. Руководил поездкой не Изюмов, а другой заместитель главного — Юрий Поройков. Состав участников от редакции был практически тот же, что в Ленинграде, но уже без Булата и без Олега. Вместо них отправились Виктория Токарева и Григорий Горин.
Летел я в Новосибирск с большим интересом, предвкушая приятные встречи: добрая их половина приходилась на Академгородок. Среди работавших там ученых было немало моих знакомых — предполагалось, что наше пребывание пройдет в среде интеллигентов, духовно богатых людей, любителей и знатоков искусства. В совсем недавнем прошлом здесь устраивались выставки опальных художников, звучали ускользнувшие от цензуры стихи и песни.
Оказалось все по-другому. Из оплота вольнодумства сибирский Академгородок превратился к тому времени в штаб по «борьбе с алкоголизмом» — нигде не было столь страстных и столь многочисленных ревнителей сухого закона, адептов академика Николая Амосова, как там. Я не сразу понял, почему пришедшие на встречу «читатели», очень мало похожие на академиков и вообще на людей, имевших с наукой хоть что-нибудь общее, атаковали меня, обвиняя в «спаивании России». Бесполезно было им объяснять, что этой темы на страницах «ЛГ» я вообще никогда не касался: они никого не слушали, не только меня, и гнули свое.
В антракте человек пять плотно прижали меня к стене — не в переносном, в буквальном смысле, — требуя покаяния. Оказалось, на мне (нет, если быть точным, — «на вас на всех») лежит вина за то, что «страна спилась и загубила свой генофонд». Ученое это словечко — разве что только оно — отличало ученых моих «оппонентов» от громил и неандертальцев. Иные борцы с алкоголем дышали мне в рот перегаром.
По мере того, как их красноречие становилось все агрессивнее, обнажалась и главная страсть, владевшая ими. Все чаще сквозь нечленораздельные, бестолковые звуки прорывались откровенно антисемитские нотки. Сегодня это вряд ли кого-нибудь удивило бы, тогда все еще было внове.
От той поездки у меня сохранились две записки из зала.
Одна: «Только открываешь газету, видишь Ваше имя, и замирает сердце. Опять! Спасибо за правду и смелость. Так хотелось увидеть Вас! Увидели. Дождались!»
И другая: «Чего вы сюда приперлись? У нас вы не найдете ни одного человека, который не хотел бы плюнуть в вашу сторону».
В откровенности и экспрессии не откажешь ни автору первой записки, ни автору второй…
Вскоре после нашего возвращения меня вызвал к себе Изюмов. В кабинете он был не один: у него находился наш цековский куратор — инструктор (так они назывались) Сергей Сидорович Слободянюк. Он привез направленное в ЦК письмо из Новосибирска — возмущенные читатели просили разобраться с «провокатором Ваксбергом», который приехал в Академгородок, чтобы «призвать население пить». В подтверждение своей правоты они прислали кассету: мое выступление перед публикой оказалось записанным на пленку.
Я видел, конечно, — там, в «академгородке», — что за люди меня прижимали к стене, но все же не думал, что крыша у них поехала так далеко. Прислали бы просто письмо — им бы поверили. Под ним стояло множество подписей: от кандидата каких-то наук до шофера и лаборанта. И чуть ли не все — члены КП… Члены — против нечлена: попробовал бы я что-нибудь доказать! Но кассета — документ объективный, и она выдавала их с головой.
По сигналу Изюмова в кабинет принесли кассетник, и мы тут же, втроем, стали слушать запись. В Академгородке выступал я не торопясь, поэтому и прослушивание длилось тоже около часа. За все это время на лице Изюмова ни один мускул не дрогнул, Слободянюк же, наоборот, часто качал головой — то с удивлением, то с укором. Кассета умолкла, и он, наконец, сказал:
— За такое выступление Аркадию Иосифовичу положена медаль, а они требуют его головы. Странные люди…
Такой счастливой концовкой исчерпалась тема, лихо сформулированная в заголовке письма, пришедшего из Академгородка на имя товарища Брежнева: «О том, как Ваксберг спаивает русский народ».
Нет, этим она не исчерпалась. Боюсь, Юрий Петрович воспринял реплику инструктора ЦК слишком буквально. Вскоре меня вызвал партийный вожак Олег Прудков и предложил заполнить анкетку. Оказалось, мне предстояло себя самого представить к награде! Такими были моральные правила борцов за мораль: хочешь бляшку на грудь — подай челобитную… Как раз подоспело время раздать народу очередной миллион штампованных побрякушек— «за производственные успехи по итогам пятилетки», и на долю редакции тоже выпало несколько штук. Снабженный печатью райкома и подписью его секретаря товарища Селихова типографский бланк у меня сохранился: сначала мне предназначалась медаль «За трудовую доблесть», но на нее, как видно, позарился кто-то другой. Прежнее название, грубо заляпанное белилами, сменилось в бланке на новое: «За трудовое отличие». Пусть и так: тоже медаль. Ведь другим ничего не досталось…
Наши начальники не знали одной небольшой детали. того, что я давно уже принял решение: никогда, ни за что, никакой награды от этой власти! Наказывать власть могла любого по своему усмотрению, чем успешно и занималась три четверти века. А награду — увольте: всучить ее насильно не мог никто.
Не смею утверждать, что это решение пришло без чьей-то подсказки. «Подсказчиком» был французский художник Гюстав Курбе. Когда я работал над очерком о расправе, которой его подвергли (этот очерк вошел сначала в книгу «Подсудимого звали Искусство», а потом и в расширенный вариант сборника «Не продается вдохновенье»), то перевел заново письмо Курбе министру изящных искусств с отказом от ордена Почетного Легиона Там были великолепные строки: «Честь не в титуле и не в ордене, а в поступках, в мотивах, в уважении к себе и собственным убеждениям. Я горжусь тем, что не изменяю принципам всей моей жизни. Если бы я поступил иначе, то променял бы честь на ленточку в петлице». И другие, не менее великолепные: «В тот день, когда государство оставит нас в покое, его обязанности перед нами будут выполнены». Строки, заставившие о многом задуматься и на многое взглянуть иными глазами…
Конечно, я понимал, что, раздавая миллионы медяшек, наши власти меньше всего думали о своих обязанностях перед согражданами. Напротив, таким, ничего им не стоящим способом старались приручить их и сделать покорными. Понудить к поклонам… Тем более, что клянчивших ордена, звания и иные подачки оказалось у нас безбожно, немыслимо много (об этом, правда, я узнал лишь после того, как приоткрылись архивы) — очередь за наградами растянулась бы на километры. Не только встать в эту очередь, но и без всяких просьб удостоиться обглоданной кости с барского стола, — такая, вполне возможная, перспектива давно уже мне казалась унизительной и постыдной.
— Ни о какой медали, — сказал я Прудкову, — не может быть и речи.
Моя реакция на благосклонность начальства стала тотчас известна Изюмову. Последовал вызов.
— Возможно, вы ждали орден, а не медаль? — осведомился лучший друг высокоответственного партийного товарища, которого он по-прежнему глубоко уважал. — Запаситесь терпением, не все сразу. Начнем со скромной медали, потом повысим уровень. Когда дается правительственная награда, не торгуются о ее высоте, а приносят благодарность и стараются еще лучше работать. Надеюсь, вопрос исчерпан.
Положительно, они всех меряли на свой аршин.
— Не заставляйте меня, Юрий Петрович, сделать публичное заявление об отказе от высокой награды, которую я безусловно не заслужил, — ответил я, чувствуя, как сжимается сердце. — Это заявление наверняка причинит неприятности мне, но еще больше, наверно, — газете. Не думаю, что это будет в интересах редакции.
— Дело ваше, — холодно подытожил Изюмов.
О том, что он при этом подумал, я прочитал в его глазах.
Прошло совсем немного времени, и Изюмов снова вызвал меня на ковер. Брежнев уже почил в Бозе, вслед за ним отправился и Андропов, шла короткая полоса правления Черненко, не сулившая вроде бы никаких светлых надежд. Но ветер грядущих перемен, благотворных и неизбежных, уже ощущался всеми. Люди почувствовали себя более раскованными, вели себя, не опасаясь грозного окрика. И однако же он раздался.
Мой приятель, тассовский журналист Борис Шестаков, большой специалист по Венгрии, попросил меня встретиться со своим другом — бывшим московским корреспондентом коммунистической газеты «Непсабадшаг» Ласло Медвецки, который стал теперь ее ответственным секретарем. В Венгрии тоже почувствовали, что у нас грядут перемены, и отправили хорошо знавшего Москву Ласло на журналистскую разведку. Чем была вызвана просьба о встрече со мной, сам Ласло объяснил читателям во вступлении к своим московским репортажам: «Благодаря режущим по живому статьям Аркадия каждый номер Литературной газеты, где они появляются, читают по крайней мере пятьдесят миллионов человек». Это было, видимо, преувеличение, но оно привлекало внимание венгерских читателей к тому, что рассказывал своему собеседнику «резавший по живому».
Ничего особенного, кстати сказать, он не рассказывал — взгляд на эволюцию нашей действительности был достаточно распространенным и достаточно широко известным. Новым был, пожалуй, мой рассказ о шалостях Щелокова, незадолго до этого сведшего счеты с жизнью, и о беспримерной (в ту пору!) коррупции, которой оказался подверженным брежневский клан. Изюмову поручили со мной «разобраться».
Ледяным голосом он предложил мне написать «объяснительную записку», порекомендовав раскаяться в своей несомненной вине: ведь я выдал «иностранцам» государственную тайну! «Может быть, это, — утешил Юрий Петрович, — даст мне возможность смягчить наказание, которое вас ожидает». При беседе присутствовал один наш сотрудник в штатском — Борис Крымов, когда мы вместе покинули изюмовский кабинет, он без всякого камуфляжа изложил мне свои мысли: «Будь моя воля, я тут же отдал бы вас под трибунал, но, к сожалению, Юрий Петрович слишком гуманен».
Никакого раскаяния гуманный Изюмов от меня не дождался. Но его любовь ко мне не стала от этого менее жаркой.
Истинной наградой служили письма читателей (о них в отдельной главе) и отношение друзей, товарищей, коллег, всех тех, с кем вместе работалось и с кем делалось общее дело.
Тот же Изюмов придумал однажды какую-то «аттестацию» сотрудников — возможно, для того, чтобы избавиться от не слишком способных (были, разумеется, и такие), но и подвергая при этом унизительной чистке тех, кому впору было самим экзаменовать своих экзаменаторов. Собеседованию предшествовало составление пресловутой советской характеристики, над которой трудился непотопляемый треугольник (администрация, партком и профком), и другой характеристики — от «товарищей по работе». Вся эта игра в демократию ради не очень понятных целей имела для меня лишь одно последствие, более чем приятное и очень мне дорогое: аттестационная комиссия получила слишком восторженный мой «словесный портрет», с которым, увы, не могла не считаться. Вот что написали товарищи:
«Охарактеризовать его исчерпывающе — задача невыполнимая. Очертить только контуры его творчества? Но как можно изобразить форму костра, постоянно меняющего свои очертания? Вот он первым в нашей стране, в статье о мэре города Сочи, пристально всматривается в эволюцию руководителя, ставшего взяточником, открывая своим очерком путь другим журналистам к исследованию нового тематического пласта… Вот в очерках „Погоня“ и „Сильная личность“ впервые в нашей прессе говорит о преступниках в высоких властных структурах, чью разрушительную деятельность защищает закон о депутатской неприкосновенности… Вот в двух очерках „Завтрак на траве“ и „Обед на песке“ и в кинофильме „Средь бела дня“ заявляет на всю страну, что мы беззащитны перед хулиганами, что в столкновении с ними мы рискуем не только физически пострадать, но и попасть в тюрьму. И Пленум Верховного Суда СССР дает всем судам нашей страны специальное разъяснение: да, Ваксберг прав, упредительная защита правомерна, к чему бы она ни привела, пусть даже к смерти хулигана… Вот Ваксберг смело вторгается в запретную тему неоправданных привилегий, и в „ЛГ“ появляются одна задругой три публикации: судебный очерк „Дубовая роща“ и две полемических статьи „Платон мне друг“ и „Друзья и недруги Платона“… Вот он впервые дает точное наименование тем „законам“, которыми руководствуется наша юстиция, и не только она: телефонное право! И термин этот с его легкой руки облетает страну, входит в привычную речь на всех без исключения уровнях, им щедро пользуются и Генеральный Секретарь ЦК, и журналисты центральных и местных газет, и все население, которое сразу же забывает, кому принадлежит авторство на понятие, определившее целую эпоху! Может ли быть у публициста больший успех, если им создано произведение из двух только слов, которое сразу лишается автора и становится просто народным?!. А вот он в другом своем творческом облике — в пьесах, кинофильмах, телесериалах, чье происхождение, разумеется, связано с судебными очерками, опубликованными в „ЛГ“…
Мало кто уже помнит, что и само название жанра, в котором он успешно работает, придумано тоже им: судебный очерк как особый вид газетно-журнальной писательской публицистики вообще не существовал до тех пор, пока Ваксберг его не создал и не придумал ему термин. Жанр, сочетающий в себе злободневность и остроту журналистики с писательским обобщением, точно выписанными образами героев и яркой индивидуальной стилистикой. Недаром кто-то из критиков назвал его судебные очерки социально-психологическими романами, спрессованными до одной газетной страницы.
Два главных качества определяют успех Ваксберга-первопроходца у огромной читательской аудитории: а) мощный гражданский темперамент, заставляющий его в столкновении с проблемами жизни негодовать, возмущаться, искать ответ на вечный вопрос: „Кто виноват?“, и б) способность увидеть даже в мелкой конфликтной ситуации модель проблемы, показать в частном всеобщее, увидеть самому и дать увидеть читателю тревожное явление, проявившееся в каком-нибудь неприметном факте…»
Такой вот документ лежал перед аттестационной комиссией, но это не помешало ей задать мне вопрос: «Как вы собираетесь в дальнейшей работе избавляться от недостатков и исправлять свои ошибки?» Не помню, что я ответил, но, судя по тому, что с работы меня не выгнали, экзамен кое-как сдал.
А еще спустя несколько лет наш главный газетный сатирик Павел Хмара от имени коллектива сочинил стихотворный спич, под которым подписалось полсотни моих товарищей, — там в шутливой форме обыгрываются названия нескольких судебных очерков, оставивших какой-то след в истории газеты, и содержатся намеки на события, о которых пойдет речь в следующих главах. Спич был приурочен к двадцатилетию штатной работы в «ЛГ» и подводил итог самому важному этапу моей жизни. Цитата будет длинной, но она все равно в два раза короче хмаровского оригинала.
Раздайся гром и стон оваций!
Свершилось! В напряженье сил
Аркадий Ваксберг целых двадцать
лет в «Литгазете» прослужил.
О нем не может быть двух мнений:
опора «Литгазеты» — он!
Юрист! Артист! Философ! Гений!
Трибун! Плевако! Цицерон!
Его глазами видим мир мы.
Он на порок наводит взгляд,
и гаснут «Бани», рвутся «Ширмы»
и «Воды вешние» бурлят.
Он только пару строк настрочит,
и оппонент летит в трубу,
и зло кинжал Алиев точит,
Вышинский вертится в гробу.
Его идейные исканья
всегда ему мешали жить,
но сам Изюмов был взысканье
ему не в силах наложить.
Его застать в газете трудно,
но, милые мои друзья,
могучий этот голос трубный
в газете заменить нельзя.
Врагов своих он просто косит,
друзей же любит горячей.
Да, кстати, он с собою носит,
как Плюшкин, тысячи ключей.
Ключи, ключи, ключи — как в сказке!
Кило, не менее того…
И, я сознаюсь, в этой связке
есть ключ от сердца моего.
Судьбы ярчайшие моменты
не все я в этот стих вложил,
но «Бурные аплодисменты»
от нас Аркадий заслужил.
Эти добрые и веселые стихи были, конечно, куда приятней и дороже любой бездушной медальки, ничего не отражавшей и ничего не означавшей, кроме разве что, в случае ее принятия, соучастия в играх высоко взлетевших вельмож. Но когда исполнилось четверть века моей работы в «Литературной газете», об этом уже было некому вспомнить, да и проще сказать — недосуг. Иных уж нет, другие далече, а те, кто близко, естественно, озабочены вовсе не тем, чтобы складывать спичи.
Все расхищено, предано, продано… Почему мне так часто вспоминаются эти ахматовские строки?
Глава 12.
Коктебельские камешки
Оглядываясь назад, пытаюсь вспомнить, когда именно я ощутил приход долгожданной «оттепели». Думаю, все же не после доклада Хрущева на Двадцатом съезде, а несколько раньше. О начавшихся переменах мне сказало прежде всего счастливое мамино лицо, когда она — еще в пятьдесят пятом — вернулась домой с полученной ею справкой о первой в ее практике реабилитации жертвы политического террора. Реабилитации, увы, посмертной. Не помню, кто он был, этот первый. Маму допустили до ведения так называемых «секретных» дел (явно в связи с ожидавшимся их наплывом), и хотя такой допуск по большому счету был довольно сомнительной честью, он позволял делать добро, принося множеству семей весть о восстановленной справедливости.
Всех дел этого рода, прошедших через ее руки, уже не упомню, но частыми нашими гостями в связи с ходатайствами о реабилитации были в то время, среди многих других, Лидия Корнеевна Чуковская (мама занималась делом ее мужа, ученого и писателя Матвея Петровича Бронштейна), Берта Самойловна Квитко (вдова поэта Льва Квитко) и Эстер Ефимовна Маркиш (вдова Переца Маркиша). Сейчас трудно поверить в то, что очевидную для всех невиновность приходилось доказывать так долго и так мучительно: требовался не один месяц хлопот (собирались письма уважаемых людей, подтверждавших безупречную репутацию казненных, многократно посещались прокурорские кабинеты), прежде чем почта доставляла, наконец, в заурядно сером конверте вожделенную справку — даже без рутинного извинения: ну, убили, что теперь делать, так ведь признали ошибку! И за это скажите спасибо…
В одно из своих посещений Лидия Корнеевна принесла свою книжку о Борисе Житкове с дарственной надписью, побуждавшей взглянуть на себя иными глазами. Она прочитала мои первые опыты — несколько хлипких, беспомощных (как я это теперь понимаю) рассказиков — и откликнулась таким посвящением: «Дорогому коллеге, Аркадию Иосифовичу, с любовью, уважением и надеждой». Никаким коллегой я тогда еще не был, но ее надежда породила надежду и у меня самого. А отзвуком горького торжества — реабилитации Матвея Петровича — явилась дарственная надпись на ставшем сенсацией втором сборнике «Литературной Москвы» — уже не мне одному, а «дорогому семейству»: «Доблестной маме и соперничающему с ней сыну с любовью и благодарностью». Последнее тоже имело отношение не только к маме, но и ко мне: я принимал участие в составлении всех ходатайств, никакого «допуска» не имея и никого не уведомляя о знакомстве с лубянскими тайнами. Презрев все запреты, мама приносила выписки из секретных дел домой и работала над ними не в «спецкабинете», а за своим письменным столом.
Кстати, надпись Лидии Корнеевны на «Литературной Москве» имела постскриптум: «Дарю не себя, а более достойных внимания: Крона, Цветаеву, Заболоцкого, Щеглова. Л. Ч.» Эссе безвременно ушедшего критика Марка Щеглова, «Заметки писателя» драматурга Александра Крона, запретные в течение многих лет стихи Цветаевой и новые — поразительные! — опального Заболоцкого были не только глотком свежего воздуха в литературном застое, но и сулили приход каких-то масштабных, радостных перемен. Надежды, которые не сбылись.
По случаю такого же торжества (сознаю всю дикость этого слова в столь трагичном контексте) Фира Маркиш пришла однажды с охапкой цветов и шерстяной вязаной шапочкой: подарок, созданный ее же руками. Замечательная мастерица, она после ареста мужа поддерживала себя и детей вязанием свитеров, и все знакомые и знакомые этих знакомых, даже те, кто ни в каких свитерах не нуждался, считали своим долгом сделать Фире заказ, терпеливо дожидаясь, когда очередь дойдет и до них. У нее сохранились старые связи (брат Фиры, журналист Александр Лазебников, работал раньше в «Комсомольской правде»), они и устроили ей в «Огоньке» персональную колонку — уроки вязания: тогда за такие публикации очень сносно платили. Мы ждали очередного номера, чтобы убедиться: колонка есть, значит, хотя бы с Фирой все в порядке. Потом колонка исчезла…
Годы спустя мы встретились с Эстер Ефимовной в Дубултах, в писательском доме творчества, и как-то вечером цепочка воспоминаний возвратила нас в те печально-радостные дни. И она рассказала мне и Александру Беку, что последовало за справкой, которую мы «обмывали» (назовем это так) у нас дома. Ее вызвали на Кузнецкий мост, в приемную КГБ, и предложили получить то, что осталось от убиенного Переца Маркиша. Документы, блокнот, что-то еще… И несколько золотых зубов — лубянское хозуправление педантично их сохранило в запечатанной сургучом коробочке…
— Только не рассказывайте ничего маме, — предупредила меня она. — А то вам придется вызывать неотложку, как тогда вызывали ко мне.
Прошло еще много лет, мамы уже не было в живых — судьба вернула меня к тому окровавленному сюжету, но уже в другом качестве и на другом витке. Обнаружился один из лубянских палачей, самым непосредственным образом причастный к уничтожению Маркиша и тех, кто разделил с ним общую участь. Один из бывших руководителей следственной части МГБ, который допрашивал узников по делу Еврейского Антифашистского Комитета (а также Лидию Русланову и еще многих-многих других, столь же виновных) и давал ценные указания своим подчиненным, — Павел Иванович Гришаев оказался не в бегах и не за решеткой, а рядом, в центре Москвы, с партбилетом в кармане, на посту профессора юридического института, обремененный уважением коллег, докторской степенью, званием заслуженного деятеля науки и кучей изданных книг, из которых особенно выделялась одна: «Репрессии в странах капитала».
О его почтенном лубянском прошлом никто ничего не знал. Не знал до тех пор, пока не появился в «Литературной газете» мой очерк «Заслуженный деятель», публикации которого предшествовал мучительный разговор со все забывшим профессором — память жестоко подводила его, когда речь шла о палаческой кухне «следствия», но тут же к нему возвращалась, когда он вешал о своей работе в аппарате Нюрнбергского трибунала — там он гляделся героем без всяких кавычек.
Еще были живы и другие истязатели невиновных — например, полковник юстиции Николай Лаврентьевич Кожура, который наблюдал за следствием из своего прокурорского кабинета и самолично убедился в справедливости всех обвинений. Им подписано множество писем об отказе в пересмотре дела, хотя бы посмертном. Несколько позже, получая надлежащие указания, он на том же голубом глазу писал письма об их несправедливости.
Сообщал родственникам о посмертной реабилитации с тем же бюрократическим равнодушием, с каким раньше сообщал им же об отказе в оной. В конце восьмидесятых, будучи все еще при завидном здоровье на заслуженном отдыхе, он сказал по телефону, что впервые слышит фамилии тех, кого отправил под пули, — беседовать нам, стало быть, не о чем.
Вот об этом был очерк, на который первым откликнулся Евтушенко: он позвонил мне тем же утром, когда вышла газета, предложив немедленно устроить пикет у здания того института, где все еще работал Гришаев, и требовать над ним суда. Предполагалось, что в пикет встанет еще много известных писателей, но никто не откликнулся, пикет так и не
состоялся.
А от Фиры, из Израиля, пришло письмо: «Дорогой Аркадий! Обращаюсь к Вам без церемоний — по старой памяти, просто по имени. <…> Спасибо за верность памяти наших мучеников, и желаю Вам продолжать до победного завершения борьбу с заслуженными деятелями. Ваша, благодарная Вам, Эстер Маркиш».
Исполнить ее пожелание я, увы, не мог борись — не борись, больше от меня уже ничто не зависело. «Победного завершения», то есть справедливого воздаяния за чудовищный геноцид, никто из наших правителей не хотел. Правосудия не свершилось. Прежним-новым хозяевам страны это было совсем не с руки.
Но то, что мог, я сделал. Как говорили древние римляне: Feci quod potui, faciant meliora potentes (Я сделал, что мог, пусть другие сделают лучше, если смогут).
Когда в 1991 году мы встретились с Эстер Ефимовной в ее доме в пригороде Тель-Авива, надежды на то, что другие (будто бы демократы; будто бы пришедшие к власти) сделают лучше, — такие надежды все еще были. На то, что зло будет вслух признано злом, а имена преступников — с точным обозначением того, что они сделали, не вообще, а каждый конкретно, — назовут не только историки и журналисты, но и официальные представители власти. Даже, может быть, судьи…
Неисправимые простаки?! Нет, мне не стыдно за нашу наивность, которая, в сущности, не что иное, как вера в добро и правду. Как бы и сколько бы ее ни затаптывали, она вряд ли исчезнет. Ибо только на ней держится мир.
Чувство «другого времени», ощущение пришедшей свободы (не хочу подменять тогдашнее восприятие сегодняшним, куда более трезвым) пришло летом 1957 года, когда в Москве состоялся международный молодежный фестиваль. О том, что это очередная пропагандистская акция в рамках общей стратегии «холодной войны», тогда совершенно не думалось. Думалось о другом: распахнулся (пусть только приоткрылся, да и то в одну сторону) железный занавес, и сразу — да, только на две недели, но все же, но все же… — хлынул в Москву поток людей из другого мира. Все они были «левые», не обязательно красные, но с розоватостью безусловно, да еще с заученными лозунгами и романтическими порывами. И однако же — прибывшие оттуда! Как с Марса… С другим выражением лиц. Раскованные и непосредственные. Никакого опыта массового общения людей из двух разных миров у нас до этого не было. После сталинской клетки даже такое воспринималось как величайший дар.
Для меня он оказался особенно сладостным. Через журнал «Семья и школа», с которым я тесно сотрудничал, меня пригласили на работу в фестивальный пресс-центр. Удостоверение, врученное каждому его корреспонденту, открывало все двери.
Я поймал себя на совершенно неожиданной мысли: никого и ничего не боюсь, все доступно! Сколь ни была эта мысль абсурдной и легковесной, она была еще и счастливой, ибо снимала проклятые тормоза и впервые позволила ощутить себя свободным человеком.
Никогда — ни раньше, ни позже — не чувствовал я такой легкости в никого не обременяющих, ничем не стесненных контактах, в мимолетных встречах, в спонтанной влюбленности, непостижимым образом приходившей вечером и — без грусти, с взаимной и искренней благодарностью — испарявшейся утром. Наступал очередной вечер, и после бесподобных часов, проведенных в одном из сотен фестивальных залов, она приходила снова, но уже в ином варианте… И завершалась под утро — естественно, беспечально. Благодарным поцелуем…
Аргентинская девочка, студентка из Буэнос-Айреса, разыскала меня все-таки в самый последний день, чтобы пролить слезу и сказать на прощанье: «Я тебя ни о чем не прошу, только, пожалуйста, береги себя». Я думал, что это просто грусть от предстоящего расставания, но она уточнила: «Мне кажется, скоро у вас будет снова плохо. Береги себя! Пожалуйста, береги себя». Я слушал вполуха, мне были интересней ее прелестный французский с гортанным акцентом и печально влюбленные глаза немыслимой глубины, чем те заклинания, которыми сопровождались объятья. Кажется, я бездумно и легкомысленно улыбался, но мудрой оказалась она, а не я: когда стали снова завинчивать гайки, мне подумалось, что мы сами хуже разбираемся в своих же делах, чем чужие в наших — издалека. Лучше видится на расстоянии? Или просто там больше информации и острее взгляд?
Фестивальная эйфория длилась всего (или целых?) две недели. Встреч было множество — иные оставили след и имели какое-то продолжение, другие забылись.
Многие часы провел я с Франсисом Лемарком, тогда еще совсем молодым, а теперь прославленным французским композитором — он возглавлял жюри конкурса джазов. Лохматый, с копной черных волос, в больших очках, которые все время сползали на нос, он снисходительно, но с полной серьезностью, слушал любительские оркестры из разных стран, которые казались мне поистине залетным чудом: ведь никаких джазов — живых, не пластиночных (исключая отечественные, родные: Утесова, Цфасмана, Рознера) — до этого слушать не приходилось. В перерывах он иногда сам подходил к роялю и что-то наигрывал, помогая столь ненавязчивым образом отличить профессионализм от дилетантства. Очень милого, и все равно — дилетантства.
На территории Центрального парка культуры и отдыха, при огромном стечении публики, творили художники: писали, рисовали, ваяли.
С группой польских студентов мы долго стояли у газона, на котором вольготно расположились наши ребята, составлявшие забавный ансамбль: один рисовал, другой лепил, третий обтесывал камень. Время от времени двое из них брали в руки гитары и пели, заводя окружавшую их толпу. Я, конечно, тогда не знал, ни кто они, эти ребята, ни то, что очень скоро предстоит с ними сдружиться и на долгие годы остаться почти не разлей вода…
После фестиваля — столь же радостного, сколь и утомительного — отдыхать пришлось только один день. Меня ждали мои адвокатские обязанности, а если точнее — поездка на Украину, в город Умань. Наслаждаться его живописным Софиевским парком, история которого уходит в восемнадцатый век (теперь это дендрарий Академии наук), времени не оставалось: я едва поспевал к началу процесса, от которого вряд ли можно было ждать благополучного исхода. Как ни странно, он привлекал не оригинальностью, а банальностью фабулы. В банальности или, проще сказать, в типичности ситуации и виделась тема для будущего газетного выступления: я предварительно договорился с редакцией, что напишу об этом статью.
Подсудимый и потерпевшая дружили с детства. Ни для кого это не было секретом: вся деревня звала их неразлучной парой. Остались они весьма близкими друзьями («более чем друзьями» — такое выражение я однажды услышал ребенком и долго не мог понять, что это такое) даже после того, как «он» уехал в Черкассы поступать в техникум. Там и остался. Потом опять зачастил в родную деревню: благо недалеко. И снова они пребывали в положении «более чем друзей». После очередного его визита — вдруг заявление в милицию, которое оттуда переправили в прокуратуру: «она» обвинила друга в насилии…
Дело назначали к слушанию после полудня — я пришел к нему утром в местный домзак с кучей вопросов, но он не дал задать ни одного. Сразу же — с просьбой:
— Товарищ адвокат, узнайте, кто это Клавку там накрутил: мамаша или подружки? Чем я им вдруг не вышел?
А у двери суда меня ждала незнакомая женщина. Представилась:
— Мать Клавы… Вы уж, пожалуйста, постарайтесь, чтобы Витюшку наказали не очень.
Потерпевшая была для меня в процессе «противной стороной», — не то что «сговор», но и просто любой разговор с ней не поощрялся. Осторожность помешать не могла, поэтому я сухо отрезал:
— Если виновен, накажут, и очень!
— Да не виновен же он!..
— То есть как?!.
— А вот так: было между ними все по-хорошему.
Читая дело, размышляя над тем, что угадывалось между строк, я и сам пришел к этому выводу. Но вслух усомнился:
— Зачем тогда ваша дочь поспешила в милицию?
— Что ж ей, по-вашему, — утопиться? Вся деревня знает, что они гуляли. С него как с гуся вода: погулял и уехал. А ей здесь жить…
Это была весьма тривиальная схема, по которой возникло не одно подобное дело — в те, советские, годы, когда нравы формировались партией и правительством. «Он» и «она» вели себя и тогда без оглядки на то, что скажут, что подумают, что будет потом. Любили друг друга и распоряжались собой по своему усмотрению. По желанию, если точнее. А дальше как раз и вступали в свою полную силу ханжеские условности советской морали. Все, действительно, шло «по-хорошему», пока за закрытую дверь — случайно или намеренно — не заглядывал кто-нибудь посторонний: отец или мать, соседка или подруга. И это побуждало, опять же вполне по-советски, спасать подлым, бесчеловечным способом свою «репутацию».
На сей раз каким-то образом туда заглянула учительница. Иначе сказать, от кого-то узнала про грех бывшей своей ученицы. И решила прийти на помощь.
— Кто тебя, Клава, теперь замуж возьмет?..
И завертелась машина: заявление, следствие, допросы, очные ставки… Слезливые жалобы… Возмущенные письма… Зачем?! Понять это было мне не дано. Неужели затем, чтобы снять с приговора копий побольше и предъявлять кандидатам в мужья?
Через несколько лет материалы по точно такому же делу — буквально один к одному, но с другой географией, — мне прислал А.И. Солженицын. «М<была названа, конечно, фамилия> просит, — писал он, — если я ничем помочь не смогу, отправить все материалы Вам, что я и делаю. У меня сложилось впечатление, что он действительно не виновен». Александр Исаевич, естественно, это сразу же понял, а вот судьи никак понять не могли. Чтобы дошло до них вполне очевидное, в том, солженицынском, случае мне понадобилось три года. В уманьском все-таки меньше — около двух. А сначала был обвинительный приговор. Доказательства виновности блистательно отсутствовали, зато имелась характеристика: педагогический коллектив аттестовал свою бывшую ученицу как «девочку правдивую и искреннюю». Отсюда суд сделал вывод: «Нет оснований не доверять ее показаниям».
Когда «насильника» освободили, подтвердив справкой с печатью его невиновность, «жертва» была уже чьей-то счастливой женой и столь же счастливой матерью. Так что с гуся вода была не ему, а ей. Оклеветанный, а потом с опозданием обеленный, он не пожелал даже на день посетить родную деревню, и трудно было его за это корить: никто, буквально никто из тех, кто знал его с колыбели, не рискнул за него заступиться…
Зато в деревне этой был я. Сначала — в связи с его делом: не для защиты в суде, а для газетной статьи это было необходимо. Равнодушие к судьбе своего, чья невиновность сомнений не вызывала ни у кого, меня поразило. А потом, лет двадцать спустя, я приехал сюда же совсем по другому поводу, но тоже в связи с преступлением. На этот раз — подлинным. И без всяких кавычек — трагичным.
Спасение невиновного, хотя бы и запоздалое, в деревне все же запомнилось. Адвокатский адресок пригодился, когда там случилась совсем иная беда. Но в адвокатуре к тому времени я давно уже не работал — из юридической консультации письмо переслали в редакцию «ЛГ». И я отправился в знакомые мне места уже журналистом, а не адвокатом. Дело, право же, стоило того. Другого подобного я не знал. И не знаю.
В тот, первый, приезд как достойный внимания экспонат мне показали белобрысого мальчишку тринадцати лет, которого все называли «немец». Он действительно родился от солдата из вермахта — во время нацистской оккупации здесь какое-то время располагалась воинская часть. Показали и мать — сутулую «старушку», которой было что-то около тридцати, в платке и ватнике, несмотря на августовскую жару. Это все, что запомнилось. Теперь предстоял с ней разговор — сын ее был арестован и уже осужден. Его дело и привело меня снова сюда, под Умань.
Детективной крутизны в этой истории не было, она достойна не беглых строк мемуариста, а психологической драмы, рожденной реалиями уходящего века. С тех пор, как он осознал сам себя, этот уманьский «немец» жил с клеймом прокаженного. Известная всем тайна его рождения ни на час не давала покоя. Он вырос, окончил техникум, получил профессию электрика, но главным его делом стало нечто совершенно иное: по крупицам он собирал информацию о тех горьких годах. О жизни под оккупацией, о немецких частях, расквартированных в Умани и в округе. Через наши и гедеэровские архивы получил такие сведения, которые предельно сузили круг подозреваемых в возможном отцовстве. Через Красный Крест — не наш, а Международный, который в Швейцарии, — добрался до того, кто носил искомое имя: его помнила мать, с разными искажениями помнили и другие односельчане. Ему повезло: предполагаемый отец жил не в ФРГ, а в ГДР. Шел конец семидесятых. Добыть туристскую путевку в эту страну большого труда не составляло.
Неподалеку от Берлина (еще одна удача) он разыскал своего отца. А возможно (пока что только возможно!), того лишь, кого он за отца принял. И вида не подал, в каком родстве с ним состоит: почти пенсионного возраста, тот понятия не имел о том, что, кроме троих «немецких», послевоенных детей, у него есть еще и четвертый — «украинский». Вместе с воинской частью он покинул ту деревню за восемь месяцев до рождения мальчика, который прожил всю жизнь изгоем. Поразительно, как ему удалось заманить в ту деревню бывшего оккупанта! Сыграл на его сентиментальности, на естественной ностальгии по молодым годам, по местам, с которыми у того были связаны не самые плохие воспоминания. Убедил, что в деревне кое-кто его помнит, притом лишь с лучшей стороны (вместе с одним офицером он помог «отстать» грузовику, на котором угоняли в нацистское рабство десятка три украинских женщин, и этим фактически их спас), а в карательных акциях бывший солдат не участвовал. И тот приехал их навестить, эти места: он успел стать активистом какого-то отделения общества гедеэро-советской дружбы, кое-как говорил по-русски, так что поездку ему устроили без особых хлопот.
Теперь уже можно было употреблять слово «отец» без добавления «предполагаемый»: мать его опознала, а он ее — нет. То ли годы ее изменили, то ли в памяти гостя стерлись ее черты. Мог запомниться лишь забившийся в угол, перепуганный насмерть подросток — кто знает, сколько их было, таких вот девчонок, в его военные годы? Ничто (я сам сверял фотокарточки) не могло бы его навести на мысль, что рано увядшая, высохшая колхозница это та самая девочка, чью жизнь он растоптал. Но сомнений в том, что это ОН — ОН и никто другой, — у сына быть уже не могло.
Тело туриста из ГДР было найдено на рельсах пролегавшей неподалеку железной дороги. Экспертиза сразу же установила, что смерть наступила от «сдавливания шеи руками». Наезд был всего лишь инсценировкой — грубой и глупой: на рельсы был брошен труп. Найти убийцу труда не составило. Вины своей «немец» не отрицал, подробные объяснения дать отказался. Да в них и не было никакой нужды. Категорически отрицал лишь соучастие матери, хотя интуиция подсказала мне, что без нее все-таки не обошлось. Но доказать это никто не сумел. Пятнадцать лет ему одному — такой вынесли приговор. Мать даже не привлекали…
Для властей ситуация была особенно деликатной. С одной стороны — иностранец из «братской» страны, активист общества дружбы, но в то же время солдат нацистского вермахта, скорее всего насильник, в лучшем случае совратитель беспомощной малолетки — подтверждением этому служили показания двух десятков свидетелей… С другой — внук погибшего на фронте советского солдата, сын обесчещенной и униженной, мстивший за мать, которая так и жила с печатью «немецкой подстилки» — всеми отвергнутая, обреченная на одиночество, лишенная возможности ходить с поднятой головой…
Дело старались замять, не предавать его никакой огласке. Суд состоялся в другом областном центре и шел, вопреки закону, при закрытых дверях — под тем предлогом, что в ходе процесса раскрывались интимные тайны. Хотя, будь он открытым, еще не известно, на чьей стороне оказалось бы то, что называют общественным мнением. Вряд ли на стороне убитого. Впрочем, мнения, пожалуй, могло и не быть, ибо не было
общества в истинном смысле этого слова, без чего
мнение просто не может существовать.
По тем же причинам не удалось напечатать и очерк. Начальники мои обратились к своим постоянным советчикам, занимавшим посты на двух площадях — Лубянской и Старой, — и совет получили: от публикации воздержаться. Я заранее знал, что будет именно так — испрашивая командировку, о подлинных мотивах убийства, разумеется, умолчал. Но бесплодной она не осталась. Никто не мог помешать мне использовать все каналы, которым было это подвластно, и просить о снисхождении.
В конце концов где-то все же прониклись. Кто-то все-таки понял, что речь идет о таком преступнике, который вполне мог бы стать героем трагического рассказа. Снисхождение последовало, но вполне символическое: с пятнадцати лет срок без шума сократили до десяти. В той ситуации, о которой я рассказал, это тоже считалось победой. Не могу объяснить почему, но большого удовлетворения она не доставила. Ни мать, ни сын с тех пор ни разу мне не написали, и об их дальнейшей судьбе я ничего не знаю.
Сразу после Умани — тогда, в пятьдесят седьмом, — предстояла куда более радостная поездка, я задумал ее давно, начитавшись и наслушавшись о прославленном Коктебеле. Писательский дом творчества был еще не по мне, — как и сотни других паломников легендарной Киммерии, я устроился в «частном секторе», но целые дни проводил среди избранных: на их пляже и в их парке. Кое-кто меня уже знал. Только что вышедшая книга «Издательство и автор» (популярное переложение моей кандидатской диссертации) сразу же распространилась в писательском мире: каждому хотелось узнать про свои авторские права. Уже через год эта книга выйдет вторым изданием (еще через три к ней добавится книга «Автор в кино» — о правах кинематографистов), так что в этой среде я окажусь как бы сразу в нескольких ипостасях: литератора, защитника авторских прав и обладателя бесценных сюжетов из личной практики адвоката.
Коктебель еще сохранял ту несказанную прелесть, что приворожила к нему и Волошина, и Цветаеву, и весь тот, тогда еще не ушедший, мир, который нес в себе драгоценные и живые приметы Серебряного века русской культуры. Стайки восторженных обожателей ходили за Марьей Степановной Волошиной, допущенные счастливчики часами просиживали в священной обители поэта, слушая ее рассказы и записывая каждое слово, которое та обронила. Ритуальные походы в бухты — Сердоликовую, Лягушачью или в Бухту-Барахты, — на Святую, к Карадагу, а особенно на Волошинскую могилу собирали совсем незнакомых людей, которые тут же становились давно знакомыми и даже друзьями. Сбор полудрагоценных камней и обмен ими придавал осмысленность курортному безделью и становился легчайшим способом приобщения к миру избранных. Пляжный треп касался тем самых высоких — иной был здесь попросту невозможен. Горький запах полыни, неумолчный стрекот цикад и пустынно скалистые берега пробуждали романтические видения, превращая в подобие реальности гриновские миражи.
Ольга Берггольц под руку со щупленькой Алигер нарочито развинченной походкой выходила на берег в мятой матросской тельняшке и вызывающе называла себя портовой шлюхой. Усевшись на парапет и сбросив маску, она хриплым голосом вдохновенно читала стихи перед собравшейся толпой. Опьяненный уже пришедшей к нему славой, Женя Евтушенко ударял за девочкой-подростком — дочерью Маргариты, — ничто не предвещало того кошмарного конца, который ожидал ее многие годы спустя. Всеволод Иванов, сопровождаемый аристократически красивой женой Тамарой Владимировной, гордо раскладывал на скамейке дневной улов — камешки немыслимой красоты — и лишь хитро щурился, когда его засыпали вопросами, почему опалы и сердолики покорно идут к нему, а других избегают. Худющий Давид Самойлов, тогда еще без очков, веселый и загорелый, сыпал экспромтами-эпиграммами, которых потом я, увы, не нашел — ни одной — в сборниках его сочинений: он им, видно, не придал значения, а те, кто их слушал, не записали. Юрий Бондарев (это было, кажется, годом позже), молодой и стеснительный, но уже имевший вполне определенное суждение о себе, дичком разглядывал признанных мэтров и нервно курил, гася сигареты о подошву сандалий. Кинорежиссер Володя Скуйбин, тогда еще без малейших признаков болезни, которая скоро сведет его в могилу, нежился на солнце и восхищался повестью Нилина «Жестокость» — по ней он вскорости сделает лучший свой фильм. To y художницы Мирэль Шагинян, дочери полусумасшедшей Мариэтты, то у литературоведа Александра Габричевского собирались самые избранные, — там никогда не пели, как в других коктебельских домах, а только вели очень умные разговоры и читали стихи. Никита Толстой, сын Алексея, красного графа, профессор физики и отец (боюсь ошибиться!) шести, а может, восьми детей, увлеченно рассказывал на пляже семейные байки. Будущая писательница — шестилетняя его дочь Татьяна — резвилась на песке, ничем не выделяясь среди других голышей, безмятежно окунавших свои телеса в набегавшие волны. Аркадий Мигдал, еще, кажется, не академик, но все равно знаменитость в мире науки, просил, чтобы его называли АБ, и льнул исключительно к молодежи, избегая почтенных коллег. Другой — пока еще тоже не академик — Бруно Понтекорво всегда появлялся в сопровождении двух молчаливых «шестерок», которые не оставляли его одного ни на минуту. Он плохо изъяснялся по-русски, отводя душу в английском, на котором они болтали с Никитой. Когда Бруно удалялся в сопровождении своих «адъютантов», Никита приговаривал ему вслед: «Бедная, бедная понтекурва». Зато академик со стажем, он же ГерТруда с лицом Фантомаса, — Александр Микулин, чья огромная дача высилась на берегу, — величаво спускался в народ, сопровождаемый выводком гостивших у него смешливых московских студенток: Микулин их обожал, и они его обожали. Фанатик одной темы, он и на пляже всех учил «заземляться» — прикладывать вечерами руку к металлу, дабы освободиться от отрицательных (может быть, положительных, точно не помню) ионов и тем себе обеспечить здоровый, глубокий, спокойный сон. Тотальное отсутствие чувства юмора придавало его пляжным лекциям, возможно, и не бестолковым, вполне пародийный характер.
По крайней мере два коктебельских знакомства имели особое продолжение. Во-первых, с Вероникой Тушновой, в дочь которой я тут же влюбился. И во-вторых, со Львом Копелевым, вчерашним гулаговцем из шарашки и завтрашним Рубиным из «первого круга», который впервые проводил отпуск вместе с новой женой — Раисой Орловой.
Вероника, черноокая красавица, бывшая на гребне своего поэтического успеха, умела собирать вокруг себя самых разных людей, покоренных ее обаянием и талантом. Дар быть очаровательной женщиной органично сочетался в ней с даром лирического поэта, чей — скромный, но чистый и честный — голос нельзя было спутать ни с чьим другим. Рано сгоревшая (она умерла пятидесяти лет в шестьдесят пятом году), не чуждая и ранее недолговечных пылких влюбленностей («О сердце, склонное к порывам» — это ее стихи о себе самой), Вероника испытала незадолго до смерти сильное и ответное чувство, драматично вторгшееся в другую семью и приведшее к тяжким последствиям. Ни скрывать, ни делить свою любовь она не умела и не хотела, и было сразу же видно, как трагически обречена ее внезапная страсть. Думаю, и неизличимая болезнь, и ранняя смерть Вероники находятся в причинной связи с этой горько счастливой, закатной любовью к Александру Яшину. Замечательный писатель и благороднейший человек, он пережил Веронику всего на три года, так и не дождавшись публикации ни своей «Бабы Яги», ни «В гостях у сына», увидевших светлишь с наступлением перестройки.
тогда — в пятьдесят седьмом, пятьдесят восьмом — Вероника была еще замужем за Юрием Павловичем Тимофеевым, человеком не очень определенной профессии и все равно несомненно блестящим: без таких эрудитов, находящих высший смысл и высшую радость в интеллектуальных беседах, духовная жизнь если и не замирает, то становится скучной и пресной. Его друг Давид Самойлов подтверждает в своих мемуарах, что Юра был «человеком дягилевского типа, вдохновенно влюбленным в искусство», и что «у него был талант собирать вокруг себя таланты, вдохновлять их, служить катализатором творчества, первым ценителем и пропагандистом».
Лишь на моей памяти Юра сменил множество руководящих постов в разных конторах — был редактором (не рядовым) на радио, потом (не рядовым) в Детгизе, потом (снова не рядовым) на Мосфильме, потом где-то еще и, наконец, попал к нам в «Литгазету», где последовательно заведовал двумя отделами, но никак не мог поладить с начальством: кем-либо руководить он не умел, сам ничего не писал и, увы, писать не умел, а править чужие тексты — этого в «ЛГ» не делали, хотя бы уже потому, что не было в том никакой нужды. Авторами выступали обычно писатели, к правке они относились болезненно, да и главный редактор этого не любил. Чаковский сам ничего не правил — только давал указания. Оставить их без внимания не стоило никакого труда. Трудно было как раз выполнить. Юра старался, и всегда неудачно.
Создан он был совсем не для этого. Его истинным блаженством и не всегда достижимой мечтой было лежать на диване — в окружении рапир и кольчуг, которые он собирал, — и читать мудреные книги. Только самые лучшие — других не признавал. И собирать вокруг себя умных людей, чтобы говорить о прочитанном. Вкус он имел превосходный. За это его любили. Из-за этого к нему тянулись. Но профессией такое занятие все же стать не могло. Он всегда нуждался в деньгах и всегда боялся лишиться работы, ибо знал, что ни один работодатель не мог быть им доволен. Он всегда был не как все. Штучный товар… В этом было его проклятье, но и в этом же — счастье.
Его первый брак имел трагический конец. Юра был в городе, когда загорелась дача, которую они снимали. Жена успела выкинуть через окно сверток с новорожденной дочкой, а сама выпрыгнуть не смогла и заживо сгорела. Дочь Наташа росла без матери. Когда Юра женился на Веронике, у нее была от первого брака своя Наташа. Обе Наташи были (и остались) очень дружны, но и брак с Вероникой был недолговечным, оставив после себя несколько превосходных ее стихов, посвященных Ю. Т. «Его» Наташа выросла и вышла замуж за сына Юриных друзей, теперь известного у нас как американский политолог, президент частного Никсоновского центра Дмитрий Саймс. тогда же это был просто Дима Симис — сын адвоката Дины Каминской и правоведа Константина Симиса. Став видными правозащитниками, они были вынуждены покинуть Советский Союз, а Дима сделал это еще раньше, и жена, ясное дело, собралась последовать за ним.
Не тут-то было! По правилу, которое в то время существовало, для того, чтобы получить овировское разрешение, ей надо было представить подписанный отцом документ о том, что тот дает разрешение дочери (взрослой!) на выезд и никаких претензий к ней не имеет. Претензий-то он, разумеется, не имел, но, подпиши Юра такую бумагу, сразу же расстался бы с партийным билетом и с работой в редакции. Для того и придумали лубянско-цекистские иезуиты это мракобесное правило, чтобы повязать круговой порукой и сделать заложниками и родителей, и детей, натравить их друг на друга, поставив перед бесчеловечным выбором: или — или. Будь Юра один, он поступился бы собой ради Наташи. Но как бы он стал содержать семью? Жену (новую, молодую) и новорожденную дочь… Редакционные боссы, работавшие в полном контакте со «службами», честно (!) предупредили, что день, когда он подпишет злосчастный тот документ, будет последним днем его работы в редакции.
Он медлил. Боролся с самим с собой, загнанный в ловушку лубянскими гуманистами. Самые верные, самые надежные друзья от него отвернулись: по их мнению, он «шкурно мешал счастью дочери». Но была еще и другая дочь — его вынуждали выбирать между одной из них. Не знаю, как это выглядело издалека, но я имел печальную привилегию наблюдать его муки вблизи — каждый рабочий день. Это был уже вообще не работник и, конечно, не сибарит, предающийся думам лишь о высоком, — просто сломленный человек, ожидающий новых ударов. Наташа в конце концов благополучно уехала, а Юра — этого мог не заметить только слепой — был уже не жилец.
И действительно, скоро его не стало. Уход его загадочен и мистичен. Жена с дочерью проводили лето в дачном поселке редакции Шереметьево (возле аэропорта), где местком выделил Юре комнатку с терраской. Сам он оставался в городе, на работе. И вот — застолье в городской квартире с никому неведомым и исчезнувшим человеком; Юра, которого нашли мертвым много позже, чем наступила смерть… Возможно, никакого криминала в этой загадочной смерти и нет, но то, что Юру затоптали и раздавили, притом неизвестно зачем и за что, — в этом никаких сомнений у меня нет.
тогда же до этих кошмарных событий было еще далеко, союз Вероники и Юры казался счастливым и прочным. Новый год мы встречали все вместе в их доме на Новинском бульваре, рядом с американским посольством: доставшаяся Веронике от отца, крупного ученого-биолога, большая профессорская квартира свободно вместила десятка два веселых гостей. Среди них был и Лева Копелев, для меня тогда еще Лев Зиновьевич, — молодой, красивый, излучавший счастье недавно обретенных любви и свободы. Самое яркое воспоминание от той ночи: аккомпанируя всей компании на рояле и отбивая такт ногой, Копелев вдохновенно поет не что-нибудь, а «Бандьера росса» — песню итальянских коммунистов, а ему подпеваете ничуть не меньшей экспрессией, заводя остальных, поэт Марк Соболь…
Вся эта когорта романтиков даже после ГУЛАГа продолжала верить в чистый, незамутненный коммунизм, к которому будто бы стремились европейские братья по классу, — должно было пройти еще много времени, Будапешт пятьдесят шестого повториться в Праге шестьдесят восьмого, прежде чем открылась жестокая истина и коммунистическая пелена окончательно спала с глаз.
Наше общение не было очень частым, но один телефонный звонок Копелева в марте или апреле 1967 года был в каком-то смысле историческим. Не вдаваясь в подробности и уклоняясь от моих вопросов, он повелел в такой-то день и точно в такой-то час быть дома и дождаться звонка «одного товарища». «Товарищем», позвонившим действительно с точностью до минуты, оказался Александр Исаевич Солженицын, — он приехал в Москву из Рязани и пожелал встречи со мной. Она состоялась в тот же день в доме его друзей неподалеку от Сокола. Я прихватил с собой те книги, о которых он попросил.
В клетчатой рубахе с засученными рукавами, Солженицын выглядел молодым работягой из какой-нибудь стройбригады и, если бы не тема нашего разговора, в таком образе и остался бы. Он готовил тогда знаменитое письмо писательскому съезду о цензуре и нуждался в документальной информации о формальных обязанностях союза писателей по отношению к своим членам и к их правам. То, что таковых обязанностей не было и быть не могло, сомнений не вызывало, но он хотел убедиться в этом, читая уставы и прочие нормативные документы, а не полагаясь на то, что «и так всем известно».
Мало кто с таким вниманием вслушивался в мои комментарии, интересовался моим мнением! В этом проявлялось не только уважение к собеседнику, но и несомненное желание не ошибиться, не взять ложную ноту, не подставиться тем шакалам, которые только и ждали повода, чтобы его укусить. Следы нашей работы над этими документами видны в нескольких пассажах его открытого письма. Сначала я отнесся скептически к изучению официальной жвачки, которую никто не брал всерьез, поскольку руководящими указаниями всегда служили звонки партийных боссов, а не параграфы каких угодно уставов. К моему удивлению, Солженицын с этим не согласился. Он сказал, что всегда дотошно изучает советские законы, чтобы «бить врага» его же оружием. Даже в гулаговские времена, рассказывал он, ему порой удавалось чего-то добиться ссылкой на законы, которые власти издавали лишь для декорации, не думая, как видно, что кто-то будет требовать их исполнения. Тем более зэки…
Лева и Рая поселились рядом со мной, в нашем писательском гетто на Аэропортовской. Их квартира сначала была на первом этаже, под ее окнами днем и ночью дежурили «спецмашины», снабженные новейшей техникой для подглядывания и подслушивания. Никуда они не делись и после того, как объект их внимания сменил большую квартиру на маленькую, — сменил лишь для того, чтобы подняться на три этажа выше, завесить окна глухими шторами и не видеть своих опостылевших надзирателей на круглосуточном их дежурстве: слишком уж они напоминали ему вертухаев с Марфинской шарашки. Способом общения во время наших бесед служили только палочки для разговорных дощечек, на которых не остается никаких следов — стоит лишь приподнять целлофановую пленочку, прикрывающую дощечку.
Дальнейшее известно: Леву и Раю, восторженных, казалось, романтиков-коммунистов, выперли из страны. Для Раи это было особо мучительно: вне России, вне стихии родного языка — знала это заранее! — она задохнется. Переместится из одной клетки в другую — только и всего. Но безропотно последовала за Левой. А могла ли не последовать? Решала все равно не она. И не он. А — «они». И все те же «они», не ограничившись тем, что изгнали опостылевших им писателей из дома, продолжали травить их — даже после того, как весь мир поверил, кажется, в необратимость так называемой перестройки.
21 декабря 1988 года в «Советской России» один титулованный наемный погромщик (кандидат филологических наук) в очередной раз облил Копелева помоями, назвав его «профессиональным импотентом» и «заслуживающим презрения платным недругом» родной страны. Ничтожества и подонки просто обязаны мерить всех на свой аршин — в том и состоит их профессиональная потентность… Большая группа лучших граждан России протестовала на страницах «Огонька» против этого хулиганства. А я просто послал Леве телеграмму: «Восхищаюсь почитаю люблю».
Чуть погодя я прочитал в «Иностранной литературе» ответы Копелева и Орловой на анкету журнала: и Лева, и Рая, каждый порознь, среди новейших публикаций, произведших на них самое сильное впечатление, отметили мою публицистику. Это был их ответ — не только журналу, но и мне самому. И дружеский привет — издалека.
В Кельне, где, наверно, не было человека, который не знал бы в лицо и не чтил господина профессора, мы встретились с Левой уже после того, как Раи не стало. Ни болезни, ни седая борода пророка его не изменили: он остался таким же неисправимым романтиком, только без коммунистических завихрений, — верил в Россию, в то, что демократия выдюжит и всех своих недругов, старых и новых, непременно и сокрушительно победит. Разубеждать его мне не хотелось, да он все равно бы мне не поверил.
Кто-то из приятелей-искусствоведов (кажется, Александр Каменский) передал мне, что в моем совете нуждаются трое скульпторов, которых знает вся Москва. Ко «всей Москве» — по крайней мере тогда — я не относился и поэтому их не знал. Но тем же вечером отправился в их мастерскую — как врач скорой помощи по вызову на дом. Как хорошо, что меня не обуяла гордыня и я не отнесся к той просьбе с высокомерием зазнайки! Ведь мог же сказать — на адвокатский манер: пусть заходят, приемные часы такие-то…
Легко догадаться, что любезной троицей оказались те самые ребята, которые собирали вокруг себя толпу на газонах Центрального парка за полгода до этого — в дни фестиваля. Владимир Лемпорт, Вадим Сидур и Николай Силис были тогда единой дружной командой, а их подвал неподалеку от Крымской площади стал ежевечерним клубом московской интеллигенции. Когда я пришел, в мастерской, кроме хозяев, уже вольно расположились человека два или три, через час там вообще было не продохнуть — стульями служили коробки, ящики, неотесанные камни и даже законченные уже скульптуры. Развешанные впритык друг к другу, затейливо расписанные авторские тарелки немыслимой красоты, статуэтки из бронзы и глины, миниатюрные скульптурные композиции, заполонившие множество полок, настраивали на возвышенный лад.
К делу приступили не сразу — я как бы тут же вошел в число членов клуба и с ходу принял участие в дружеской пирушке. Водку пили из аптечных мензурок, закусывали щукой в томате — с удивительной лихостью консервные банки вскрывал перочинным ножом Коля Силис, самый юный из троицы и потому обреченный быть самым проворным. Закончив с раздачей закуски, он брался за гитару, — Володя и он составляли неутомимый дуэт, чей репертуар казался неисчерпаемым. Песни только что начавшего повсюду звучать Окуджавы и залетного Жоржа Брассенса, чьи стихи перевел сам Володя, составили гвоздь программы, а входившие в моду имитации полублатных песен, воспроизводимых с нескрываемым юмором, лишь дополняли ее, — но уже после того, как в мензурках иссякла жидкость. Непременный турнир остроумия, иронический комментарий на злобу дня, болтовня ни о чем, но всегда, тем не менее, о чем-то, порой очень серьезном, — все это, вперемежку с песнями и пародийными тостами, создавало неповторимую атмосферу призрачной и вместе с тем совершенно реальной московской вольницы тех оттепельных лет.
Дима Сидур, уже тогда бородатый — борода скрывала лицевую рану, которой его, солдата, наградила война, оставив в теле еще несколько осколков, — пил понемногу вместе со всеми, но уже был как бы отдельным, чуть-чуть поодаль, улыбчатый, немногословный, предпочитавший умную речь беззаботному трепу. Именно он был гидом по мастерской — объяснял, что и почему воплощено в той или другой отесанной каменной глыбе, или пока в заготовке, или только в замысле — случалось, даже еще не пластичном, а всего лишь литературном, то есть невидимом, но поддающемся объяснению. Его подруга Юлька, вскоре ставшая женой и навсегда оставшаяся верной его огромному таланту и огромной духовной силе, ни от кого не скрывала своей влюбленности, да и не могла скрыть, — ее беспощадно выдавали глаза. Свою краску в подвальную атмосферу вносила и тогдашняя подруга Володи, — он чуть снисходительно, но не обидно называл ее «шмокодявка»: молоденькая красавица с длинной косой, она вскоре стала женой известного критика.
Помощь, в которой нуждались три скульптора, — не просто совет, а именно помощь, — была им оказана незамедлительно. Я считался тогда добрым гением авторов, чьи права были попраны властью в лице лучших ее представителей: министерских или издательских самодуров. За какой-то грандиозный барельеф, который ребята сделали по заказу, чиновники отказались платить, вдруг сочтя гонорар, предусмотренный договором, слишком высоким: проведя запоздалую калькуляцию, они обнаружили, что общая сумма, разделенная на троих и на время работы над барельефом, превышает «среднемесячный заработок высокооплачиваемого советского служащего». Так и было — с чарующей глупостью — сказано в официальной бумаге: аванс, который скульпторы уже получили, был, по мнению запоздало спохватившихся чиновников, и без того слишком высокой платой за проделанный труд.
К тому времени мне пришлось провести в суде не одно так называемое авторское дело. Многотысячные гонорары действовали на судей, как красное на быка, — за несомненно принадлежавшее автору вознаграждение иногда приходилось воевать месяцами. Доводы логики, юридическая аргументация оказывались бессильными там, где главенствовало истинно «социалистическое правосознание»: и так с жиру бесятся — перебьются! Так что глупость и подлость чиновников вполне могли одержать верх над законом: у чиновников и у судей были общий язык и общая кастовая мораль. У нас с ними общего — не было ничего.
На этот раз судья попался не из самых дремучих. Я рассказал на процессе известную байку — о том, как ответил великий художник на вопрос, сколько времени писал он свое полотно: «Всю жизнь и еще одну ночь». Судья улыбнулся — это был хороший знак. Мы с Димой переглянулись: он тоже почувствовал, что в судейской улыбке таится надежда. Так оно и вышло. Иск удовлетворили, ответчик даже не счел нужным решение это обжаловать. Еще несколько недель, и мы могли уже налить в наши мензурки ту жидкость, что была куплена на отыгранный гонорар.
Из участников обмывания помню только Бориса Слуцкого: тут мы с ним и познакомились. Он сидел рядом со своим скульптурным портретом, мастерски высеченным из глыбы серого гранита. Поражало не только портретное сходство, но и точно воссозданный психологический портрет прототипа: суровость, духовность, углубленность в себя. Молчаливый, насупленный, со сдвинутыми бровями и пронзающим взглядом, живой — не изваянный — Слуцкий пил вместе со всеми, но не водку — вино. В трепе участия не принимал, хотя было видно, с каким неподдельным вниманием он слушает всех и все, включая самое откровенное балагурство.
Его тяга к мастерской и ее хозяевам была вполне очевидной, хотя, лишенный какой бы то ни было сентиментальности, Слуцкий никогда не выражал это вслух. Но — не просто тяга, симпатия, расположение, а любовь — безусловно имела место, и она нашла отражение в той надписи на книге своих стихов, которую он сделал позже, когда наше общение стало частым и интенсивным: «Аркадию Ваксбергу, с которым мы связаны: 1) общностью идейных позиций, 2) общностью любви к трем подвальным скульпторами 3) общей нелюбовью к юриспруденции». Надпись в характерном для Слуцкого стиле — по-военному четкая, без сантиментов, с пронумерованными пунктами, как в резолюции.
Третий пункт тоже имеет свою историю. До войны Слуцкий учился в юридическом институте, и мы не раз вспоминали одну и ту же прокуратуру Краснопресненского района Москвы, где — в разное, разумеется, время — мы проходили студенческую практику. Она оставила у нас одинаковое, вполне определенное впечатление, и я высказывался порой еще резче, чем он, поскольку слишком жестких дефиниций Слуцкий вообще не любил. «После такой практики, — как-то сказал я, — трудно сохранить уважение к юриспруденции, ну а про то, что творится в наших судах, вообще не приходится говорить». Вот отголоском этой реплики и явился третий пункт его посвящения. Сам он юриспруденцию не жаловал люто — особенно после того, как поработал какое-то время в военном трибунале («Я судил людей и знаю точно, / Что судить людей совсем не сложно, / Только погодя бывает тошно, / Если вспомнишь как-нибудь оплошно») и даже (бывают же такие совпадения!) принял участие в описи имущества несчастного Бабеля: посмертная публикация фрагмента ненаписанных мемуаров Бориса содержит подробный рассказ об этом.
После того, как я переселился в
писательский дом на Аэропортовской, Слуцкий часто стал заходить ко мне (жил неподалеку в какой-то постройке барачного типа), никогда не предупреждая об этом по телефону: такие церемонии были не в его стиле. Скользнув взглядом по книжным полкам, без увертюр сразу переходил к теме, которая его волновала и которую он хотел обсудить. Беседа текла неторопливо, с замахом на долгие часы. И вдруг — разговор еще был в самом разгаре, но для Слуцкого он почему-то уже завершился — поднимался, ворча: «Мне пора», и уходил не прощаясь. Никакой невежливости я в этом не чувствовал: просто традиционные «здрасьте» и «до свидания» он считал всего лишь данью формальности. А любые формальности были у него не в чести.
Лишь однажды, кажется, он никуда не спешил и беседу на полуслове не оборвал. Зная его любовь к красным винам, я привез из Молдавии, где был в командировке, знаменитые каберне, негру де Пуркар и рошу де Пуркар, каждого по одной бутылке. Вот их все три мы и выпили. Было это уже в семидесятые. Не помню, по какому поводу зашел разговор про Илью Глазунова, с которым Борис раньше дружил, а ценил его не только раньше, но и всегда.
— Не понимаю, почему получилось так глупо, — без всякой краски в голосе сказал он. — На пике первого успеха Глазунов попал совершенно не в ту среду. Не в ту, потому что только она его сразу поняла, приняла и полюбила. И его затянула. Оказался бы в другой, — мы имели бы другого Глазунова.
Слуцкий глубоко чтил Эренбурга, а тот, как известно, — его. На очень многое они смотрели теми же глазами. А вот в оценке Глазунова разошлись кардинально.
Он любил открывать молодые поэтические таланты. Я не раз слышал от Бори не только новые для меня имена, но и стихи мало еще кому ведомых авторов, — он читал их наизусть, с таким чувством, словно это были его, а не чужие стихи (своих при мне он не читал никогда). Самым любимым, кажется, — из тех, кого он открыл и кому протежировал, — был Станислав Куняев.
«Я уважал Бориса Абрамовича Слуцкого за многое, — напишет Куняев годы спустя в своей мемуарной книге, — но и не в последнюю очередь за то, что он в отличие от многих своих соплеменников хорошо понимал изъяны еврейской натуры».
Придумать, будто Слуцкий вообще мог мыслить такими категориями, как «еврейская натура» и какие-то ее «изъяны» (в целом, глобально!), способен лишь человек, который, подобно Куняеву и его единомышленникам, патологически зациклен на одной-единственной теме и вне ее контекста не в состоянии ничего увидеть. Но особо поразительна глухота профессионального поэта, не услышавшего (не захотевшего услышать) горько ироническую тональность в стихах Слуцкого, которые вроде бы подтверждают (так считает Куняев) его понимание все тех же «изъянов еврейской натуры»: «Стало быть, получается вот как: слишком часто мелькаете в сводках новостей, слишком долгих рыданий алчут перечни ваших страданий. Надоели эмоции нации вашей, как и ее махинации. Средствам массовой информации надоели ваши сенсации».
Куняев действительно не слышит, что Слуцкий с сарказмом и болью воспроизводит лексику и «аргументы» черносотенцев, или думает, что человек, благословивший его на жизнь в литературе, всерьез, как охотнорядец, мог рассуждать о «махинациях нации» и об ее «эмоциях», которые всем надоели? «Стало быть, получается вот как…»: мемуаристу не приходит в голову, что эта строка как раз о нем, что это — его, Куняева, мысли, а вовсе не автора стихотворения. Уж не думает ли Стас, что такие вот строки Слуцкого из другого стихотворения, в котором слышна та же самая интонация, — что они отражают его, автора, мысли, а не мысли погромщиков: «Евреи люди лихие, Они солдаты плохие: Иван воюет в окопе, Абрам торгует в горкопе»?
Могу засвидетельствовать: Слуцкий любил стихи Куняева и симпатизировал ему, несмотря ни на что. Ибо не находился в плену каких бы то ни было безумных идей, был чужд обид, прощал другим даже очень глубокие заблуждения, не считая себя носителем истины в последней инстанции. Ему было бы тяжело видеть «патриотический» шабаш, которому открыла дорогу постсоветская свобода. Всю меру злобы и ненависти, которые таили в себе, ожидая своего часа, иные из милых его сердцу коллег, он вряд ли мог тогда осознать. А свое отношение к «проблеме», маниакально засевшей в мыслях мемуариста и застилающей ему свет, Слуцкий кратко и четко выразил в письме, адресованном ЦК КПСС. Письмо это опубликовано, его фрагменты приведены и в моей книге о Лиле Брик. Той самой, которую комично и злобно ошельмовал редактируемый Станиславом Куняевым журнал «Наш современник», заверяя своих читателей, что я все «расчетливо передернул» и «переврал». Но Слуцкий изъяснялся всегда четко, ясно и недвусмысленно, так что ни передернуть, ни переврать его позицию невозможно.
На одной из книг Бориса, которые я бережно храню, есть посвящение: «Аркадию Ваксбергу с обязательством пользоваться его советами во всех процессах, кроме бракоразводных». Никак не могу припомнить, что побудило его так написать. Ни о каких бракоразводных процессах — ни в прямом, нив переносном смысле— мы с ним никогда не говорили. Думаю, это отголосок той боли, которая всегда была при нем. Жена его Таня (я знал ее, когда она еще не стала женой Слуцкого: за ней ухаживал другой Борис — известный «всей Москве» историк и популяризатор искусства Боба Бродский) была неизлечимо больна, и он никогда, по крайней мере со мной, об этом не говорил. В надписи подсознательно проявилась глубоко сидевшая в нем мысль о преданности любимой женщине, о том, что никогда и ни за что он ее не оставит.
После ее смерти я Борю не видел ни разу, как не видели его и многие другие, с кем он был достаточно близок. Даже те, кто был к нему куда ближе, чем я. Общеизвестно: он уехал к брату, в Тулу, и там — фактически в полном одиночестве, не желая ни с кем общаться, — провел последние свои годы. Лишь беспрерывно писал стихи — их хватило бы на несколько книг. Говорили, что Слуцкого сломил не только уход Тани, но и постоянно терзавшая его память о своем выступлении на том историческом писательском собрании, где глумились над Пастернаком. «Солдат партии», он выполнил полученный приказ, обрекая тем самым себя на медленное самоубийство.
Записанного текста его выступления мне видеть не приходилось, хотя, если бы таковой нашелся, можно было бы более достоверно судить о том, что он на самом деле сказал и что хотел сказать. Борису не был чужд язык метафор и аллюзий, — кто знает, не позволил ли бы
точный текст иначе оценить смысл и направленность его выступления?
Возможно, я ошибаюсь. Возможно, выдаю желаемое за действительное. Возможно, никакой попытки устного междустрочья вовсе и не было. И все равно муки совести, беспощадность к себе искупили все прегрешения, даже если таковые и были. Никем не навязанное, трусливо лакейское письмо Шкловского и Сельвинского в ялтинскую «Курортную газету» с инвективами против гонимого Пастернака — их бывшего друга (а для Сельвинского — еще и учителя! Это он сам писал: «Люблю великий русский стих, не всеми понятый, однако, и всех учителей своих — от Пушкина до Пастернака». Много же он понял…) — их нельзя простить никогда, ни за что. Трагическая речь Бориса Слуцкого, стоившая ему миллиона терзаний и сведшая его в могилу, давным-давно, я надеюсь, прощена самым Высшим Судом.
По возвращении из очередной командировки меня ждала дома записка Слуцкого — он заходил, но меня не застал. «Твоя мать сказала, что ты в Сталинграде по какому-то интересному делу. Приедешь — позвони». Известно, как горячо он любил товарища Сталина, но название «Волгоград» не воспринял. «Скорее уж Царицын, — сказал он мне как-то. — Но лучше оставить как было…»
Дело было действительно интересным, мы с мамой подробно его обсудили еще перед тем, как я поехал. Юридической перспективы у него никакой не было, но была журналистская: так мне казалось. Увы, не было и ее.
Ко мне — адвокату — пришла на прием молодая женщина из Саратова. Привезла документы, которые я читал, как детективный роман. Если совсем схематично, суть дела была такой: накануне войны пропала (посетительница сказала категоричней — была убита) ее старшая сестра, но убийцу «сначала нашли, а потом отпустили» и даже «хотели убить следователя, который убийство раскрыл». Сегодня при такой ситуации каждый заподозрил бы подкуп — взятка решает все. тогда мысль шла по иному пути: те, кто выпустили убийцу и чуть не угрохали следователя, имели большую власть и ею воспользовались, чтобы спасти преступника от возмездия.
— Алю уже не вернуть, — сказала клиентка (в оставшихся у меня документах нет имени — только инициалы: пусть будет Зина), — и никого уже не вернуть, все погибли: мать, отец, два брата. Осталась лишь я. И Алькина фотокарточка. Когда ее убили, мне было семь лет, ничего про нее не помню. Но я должна распутать эту историю. И если этот негодяй еще жив, убить его.
— В этом я вам не помощник, — пришлось мне ее оборвать, но история эта успела меня пронзить, пока я листал документы: слепую копию приговора на трухлявой от времени бумаге, письма из разных прокуратур, отвратительную по качеству фотокопию заметки об этом деле из какого-то официального, судя по лексике, юридического издания, — заметки, ничего не прояснявшей, но зато распалявшей воображение. Денег у Зинаиды, чтобы оплатить все расходы по командировке и ведению дела, разумеется, не было, а вести его бесплатно и ехать за свой счет, даже если бы я захотел, в адвокатуре не полагалось: за таким альтруизмом непременно виделось нечто порочное — с корыстным оттенком. Но у меня уже был иной, куда более подходивший к данному случаю и куда более престижный канал. Заведовавшая отделом в «Литгазете» Валентина Филипповна Елисеева запросто пробила мне командировку и дала все мандаты для изучения дела.
…24 апреля 1940 года Аля ушла вместе с мужем из дома на окраине Сталинграда и с тех пор нигде больше не появлялась. За неделю до этого играли свадьбу. Под белой фатой стояла невеста на восьмом месяце беременности: родные жениха настояли, чтобы он женился и затем оформил отцовство. Матери будущего ребенка, с которой он жил, не таясь, уже более года, за два дня до свадьбы исполнилось семнадцать лет: чтобы получить загсовский штамп, пришлось испрашивать разрешение горисполкома, которое почти сразу же было дано.
Коля Бурцев, тридцати шести лет, был администратором областной филармонии, имел прочные связи с отцами города, что и навело потом на мысль, что он мог заручиться весьма солидной протекцией. Еще он был известен тем, что в подобном же «интересном» положении не без его прямого участия перебывало довольно много прелестниц, мечтавших о музыкально-актерской карьере, но они улаживали с ним отношения без особых скандалов. Аля как раз никакого отношения к тем прелестницам не имела, — не окончив десятилетки, стала работать в гастрономе простой продавщицей, но почему-то именно с ней роман продолжался дольше обычного и привел к финалу, который не был для него самым желанным: к законному браку.
Подозрение пало сразу же на него — это понятно. Бурцев показывал так: они оба поехали в центр города, какое-то время посидели на лавочке в сквере, потом разошлись. Он направился в парикмахерскую, она — в свой магазин. Ей предстояло получить деньги в связи с декретным отпуском, который ей дали, купить продукты и вернуться домой. Но домой она не вернулась и в магазин не пришла.
Через три месяца на волжском острове Сарнинском, неподалеку от Сталинграда, нашли остатки трупа неведомой женщины. Труп был обезглавлен — череп валялся рядом, на правом резце верхней челюсти была металлическая коронка. По свидетельству родных, именно там и именно такая коронка была и у Али. При трупе (при, а не на) обнаружили окровавленный женский купальный костюм и вываленную в грязи, некогда белую женскую комбинацию.
В то время советские криминалисты повально увлекались новым методом скульптурного восстановления мягких тканей лица по черепу. Метод этот придумал антропологи археолог, профессор Михаил Михайлович Герасимов. В разные годы он восстановил по останкам внешний облик Ивана Грозного, Улугбека, адмирала Ушакова и других исторических личностей. Так они выглядели при жизни или иначе, с полной достоверностью это уже никто ни подтвердить, ни опровергнуть не сможет. Да и точность воспроизведения в данном случае особого значения не имеет: история не пострадает, если Иван Грозный выглядел чуточку не так, как его изобразил уважаемый профессор. В криминалистике эта «чуточка» играет порой первостепенную роль: от нее может зависеть судьба человека. Даже сама его жизнь…
Но криминалисты в те годы были уверены, что в их руках появилось волшебное средство. Неопознанных, почти полностью истлевших трупов — зримых следов нераскрытого преступления — было сколько угодно, без их идентификации следствие заходило в тупик. А тут — такая изумительная возможность… Найденный на острове череп отправили в Москву, в институт материальной культуры Академии наук: Герасимову на исследование. И вскоре пришел воссозданный им портрет: вылитая Аля, сама собой!
Пока Герасимов трудился над портретом убитой, технологическая экспертиза пришла к выводу, что материал, из которого был сделан обнаруженный при трупе купальный костюм, идентичен с материалом той майки, из которой сама Аля его себе сшила. Майку предоставила следствию и рассказала о том, кем и как костюм сшит, соседка Али и ее старшая подруга, медсестра Галина Остапенко. Она была активной помощницей следствия, что не могло никого удивить: Галя и Аля выросли вместе, и вряд ли был кто другой, кому Аля поверяла все свои тайны.
Небольшая неувязка состояла в том, что, по заключению медицинской экспертизы, женщине, чей труп был найден на острове, было около двадцати двух лет и что она перенесла уже и беременность, и роды. Однако неувязка эта следствие ничуть не смутила: Аля была девушкой крупного телосложения, так что разница в несколько лет могла, при плохой сохранности трупа, и не быть обнаружена; что до родов, — следствие почему-то решило, что в момент убийства (кто знает: мгновенного или медленного?) у Али могли начаться преждевременные роды. И вот на таких основаниях (плюс то, что супруги вышли из дома вместе; что Бурцев резко изменил отношение к Але после того, как она отказалась сделать аборт; плюс то, наконец, что женился он лишь под давлением) областной суд признал обвинение доказанным и приговорил его к десяти годам лишения свободы. А тут как раз началась война. И всем уже было не до Бурцева и его пропавшей жены…
Но в том-то и дело (журналистская находка, а впоследствии, возможно, и ценный для писателя материал!), что суду (безумные парадоксы нашего безумного времени!) было почему-то именно «до него»!
18 октября 1941 года коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР целый день занималась пересмотром этого дела. Вчитайтесь в дату: 18 октября сорок первого! Самая-самая судьбоносная для Москвы — да и для всей страны — неделя…
Я ничего не знал тогда, что двумя днями раньше из Москвы в Куйбышев и Саратов были спешно отправлены особо важные арестанты, уже приговоренные Верховным судом к смертной казни, в том числе великий Николай Вавилов; что тогда же по личному приказу Берии, молчаливо одобренному Сталиным, в подвалах Бутырской тюрьмы гремели выстрелы: были расстреляны 136 человек, которых везти на Волгу почему-то не захотели (в том числе Сергей Эфрон, бывший заместитель наркомов внутренних дел и путей сообщения Лев Вельский, бывший начальник личной охраны Ленина Абрам Беленький, бывший заместитель наркома иностранных дел Борис Стомоняков, жены уничтоженных военачальников Нина Тухачевская и Нина Уборевич, жена казненного наркома тяжелой промышленности Чарна Межлаук и многие другие — известные и безвестные); что 17 октября под председательством зловещего Ульриха были заслушаны очередные дела врагов народа — все до одного с летальным исходом — об этом тоже стало известно гораздо позднее. Но вот то, что 16 октября, в связи с приближением авангардных нацистских частей к Москве, паника охватила столицу и началось массовое бегство из нее, — это я знал хорошо. И все это знали. Представить себе, что в разгар всеобщей паники трое высших судей страны, не торопясь, тратят целый день на заведомо заурядное, с их же точки зрения, уголовное дело, чтобы освободить из тюрьмы одного осужденного, чей приговор не имел под собой никаких оснований, — вот в это поверить было действительно трудно. Но тем не менее это факт. И он — лишнее доказательство тому, что жизнь наша даже в самые мрачные времена не была однозначной, одноцветной, однолинейной и что понять ее можно, лишь осознав и связав воедино все то, что казалось бы вообще несовместимо.
При внимательном и непредвзятом подходе все доводы обвинения рушились, как карточный домик.
Да, Бурцев женился на Але под давлением близких, но значит ли это, что он обязан был им подчиниться? И почему, согласившись, сразу же ее убил, глупейшим образом вызвав огонь на себя? Только полный простак мог не предвидеть, что в первую очередь заподозрят его самого. Не проще ли было вообще не жениться, вопреки нажиму? Или жениться — и развестись: тогда это не представляло никакого труда… («Ты забыл про страх перед алиментами», — позже напомнит мне Слуцкий. Действительно, забыл. Его напоминание заставит меня усомниться в моих же сомнениях.)
Супруги ушли из дома в два часа дня, в шесть вечера Бурцев стригся в парикмахерской (показания четырех свидетелей), в семь находился в своем кабинете филармонического администратора: шел концерт. Между тем остров Сарнинский расположен от города далеко, и связь с ним затруднена. Достаточно ли было трех-четырех часов, чтобы смотаться туда и обратно и за это время еще успеть расправиться с жертвой? И как бы он мог объяснить беременной жене неурочную эту поездку? Под каким предлогом завлечь?
Верхней одежды при трупе найти не удалось — был только купальник. Но по свидетельству метеостанции 24 апреля было холодным туманным днем, о купании не могло быть и речи, даже если забыть, что речь идет о женщине, которой через полтора месяца предстоят роды.
Принадлежность Але найденной комбинации родные начисто исключили, но подтвердили принадлежность купальника. Однако из того же стандартного материала могли быть сделаны сотни купальников — ничего строго индивидуального в ткани найти не смогли.
Повторная медицинская экспертиза категорически установила, что смерть наступила не раньше, чем за три недели до обнаружения трупа, и что в момент гибели эта женщина беременной не была.
Наконец, оказалось, что хваленый профессор, составляя портрет по черепу, «пользовался для доделок» (так сказано в протоколе) присланными ему фотоснимками! То есть он заранее знал, кого ему нужно идентифицировать. Одного этого было достаточно, чтобы счесть его экспертизу беспардоннейшей липой. С тех пор никто не смог бы меня убедить, что его портреты Ивана Грозного, Улугбека и прочих имеют какое-то отношение к оригиналу. Хорошо еще, если «доделанные» таким образом мистификации (не исторических лиц, а заподозренных в преступлении) никого не подвели под пулю.
Такова сюжетная сторона первого акта драмы. Но был еще и второй акт со своим, ничуть не менее интересным сюжетом.
Следователь Грязнов о том, что происходит с делом, которое было последним в его предвоенной практике, естественно, ничего не знал: в октябре сорок первого, мобилизованный, он был на фронте. Во время сильного артобстрела ему оторвало руку, лечился он в томском госпитале и там из писем родных узнал, что признанный невиновным Бурцев уже на свободе. А он, напротив, был убежден, что Бурцев виновен: решение, принятое Верховным судом, убедило его в этом еще больше. Он вдруг осознал, в чем состояла ошибка. В том, что он решил, будто Аля убита непременно в тот самый день, когда исчезла. А ее — теперь он уверовал в это — Бурцев куда-то упрятал, дождался родов, увез на остров (мертвую или живую?) и оставил там труп.
Честно говоря, это тоже была довольно шаткая версия, которая не могла выдержать даже первых вопросов. Где бы мог Бурцев ее упрятать за такой короткий срок? Разве что она зачем-то укрылась вполне добровольно по сговору с ним. Зачем? От кого? В честь чего, втайне родив ребенка, вдруг поехала с ним купаться на остров? Все это было очевидной фантазией, но Грязнов, которому теперь предстояло вновь возвращаться к мирной профессии, загорелся своей идеей и был готов раскручивать дело заново. Там, где происходили события, послужившие основанием для возбуждения дела, уже шли бои. Не прокурорско-судебные, а куда пострашнее. Ни от дома Бурцева, ни от дома Али и Зины, ни от тех домов, где жил и работал Грязнов, ничего не осталось. А однорукий следователь маниакально рвался на место того происшествия, стремясь во что бы то ни стало доказать — с поправочным коэффициентом — свою тогдашнюю правоту ведь Аля и в самом деле исчезла; ведь чей-то труп и в самом деле нашелся; как же может так быть, чтобы никто не ответил — ни зато, ни за это, если «то» и «это» нечто различное, а не одно и то же?
Во время очередной бомбежки его ранило. На этот раз довольно легко. Впоследствии эту рану и сочтет Зина покушением на его убийство — в отместку за упорство в розыске преступника.
Найти в Волгограде мне почти ничего не удалось. Там жили уже другие люди, мало кто помнил события четвертьвековой давности, а если и помнил, то совершенно другие — куда более страшные. И все же некий навар я с этой поездки имел. Кто-то из старожилов про мой поиск узнал, и перед самым отлетом в Москву мне принесли письмо от инвалида войны Полунина, сам он жил в трехстах километрах от города и передвигался с трудом. Письмо очень сумбурное — лучше его не цитировать, а кратко изложить в пересказе.
Этот Полунин в то самое время, когда разворачивались события с Алиной свадьбой, сватался к ее соседке Галине Остапенко, а та имела виды на самого Бурцева. Обида ее была тем сильней, что именно она Бурцева с Алей и познакомила — на свою голову, как оказалось. Бурцев не хотел брака ни с той, ни с другой, но — по причинам, уже нам известным, — остановился на Але. А потом сел в тюрьму. Тут Галина с горя обратила взоры на Полунина, но тот уже остыл, переключившись совсем на другой дамский объект. И вот, писал мне Полунин, «в один из наших острых разговоров» Галя бросила реплику: «Одна дура мне дорогу перебежала — из нее и дух вон. И твоя Дашка тоже не скроется».
Может быть, и бросила — в пылу гнева, в надежде воздействовать и припугнуть. На что, случается, не идет женщина в — правой, неправой ли — борьбе за мужчину? Кого она имела в виду? Значит ли это, что «дух вон» выпустила из Али она? Или кто-то с ее подачи? С ее участием? Практического значения все это уже не имело — я просто развлекал себя головоломками, которые подсказала не фантазия литератора, а сама жизнь. С такими зигзагами и поворотами, на которые только она и способна.
Слуцкий, с которым я поделился впечатлениями от своей поездки, не просто слушал меня с суровым вниманием (складка на его переносице стала, мне кажется, еще глубже), но и зажегся сюжетом. Это вряд ли могло бы случиться, если бы в ткани сюжета не было войны, судьбы однорукого следователя, а главное — Сталинграда в совсем неожиданном ракурсе.
Он стал подбивать меня на сценарий — говорил, что такого «мощного детектива — военно-патриотического» (его слова) никто не придумает: «ведь при слове Сталинград у каждого возникают совсем другие ассоциации». Увлекшись, стал фантазировать: а если Грязнов, вернувшись в зону боев с одной рукой, встречает в разгромленном Сталинграде свою бывшую часть? А если его фронтовые друзья помогают ему проводить следственный эксперимент (ведь Борис был почти юристом, эти тонкости знал!), допустим, на военных моторках (за какой срок можно добраться от Сталинграда до острова и обратно)?
В моем блокноте осталось множество его сюжетных подсказок, уже весьма далеких от «первоисточника»: фантазия его разыгралась, а уж он-то хорошо знал, что вымысел бывает подчас правдивее правды. Просто мой рассказ о совсем не обычном «казусе» его разогрел. Как жаль, что ленца, а в еще большей мере текучка, помешали мне сделать хоть что-нибудь, чтобы наш творческий треп имел продолжение. Со светлой печалью вспоминая Бориса, я тешу себя слишком лестной и гордой мыслью о том, что мы чуть-чуть не стали соавторами. И понимаю, что это мираж.
Среди других завсегдатаев подвала на Комсомольском проспекте помню нескольких академиков: того же Мигдала, Виталия Гинзбурга… Стал захаживать Булат — с удовольствием слушал, как поют ребята его песни, потом, не заставляя себя просить, брал гитару Коли или Володи и выдавал «аутентичное» исполнение. Всегда с охотой встречали Юнну Мориц. Не о тех ли подвальных посиделках — ее знаменитые строки: «Когда мы были молодыми и чушь прелестную несли…»? Однажды весь вечер читал стихи Наум Коржавин — врубились в память две его строчки, слишком буквально воспринятые Силуром: они с Юлькой многозначительно посмотрели друг на друга. Строчки были такие: «В эти подлые времена Человеку нужна жена». Приходил незаслуженно ныне забытый прозаик Илья Зверев — мучившая его одышка не мешала Изольду (его настоящее имя) быть яростным спорщиком и редкостным остроумцем. К одной из его книг иллюстрации сделал Дима.
Самым частым гостем — нет, не гостем, а полноправным четвертым в этом творческом коллективе, — был Юра Коваль. тогда еще совсем молодой мальчик, восторженный и многогранно талантливый. Он и лепил, и рисовал, и тесал, читал свои стихи и смешные прозаические миниатюры, а своей гитарой и голосом дополнял день ото дня становившийся все более профессиональным дуэт Володи и Коли. В этой творческой ауре истинный талант развивался быстро и зримо, а его отсутствие неизбежно выталкивало претендента на членство в «подпольном» клубе из среды завсегдатаев: чужаку становилось там неуютно, и он отваливал сам. На дверь ему никто не указывал.
Очень скоро без Юры Коваля представить себе этот подвал было вообще невозможно. То, что уже совсем скоро будет признан его высокий и добрый талант — писательский, художнический, человеческий, — понимали все, в ком была хоть самая малость чутья и самая малость вкуса.
Так оно и вышло. Даже многие годы спустя, уже став повсеместно известным и признанным, Юра сохранил такую же детскую улыбку и легкость в общении, которые так пленяли всех, кто встречался с ним еще в начале его большого и до обидного краткого пути — в литературе и в искусстве.
То, что троица долго не удержится вместе, можно было предвидеть, но верить в это никак не хотелось. И все-таки это случилось, — я чувствовал себя точно так же, как обычно бывает в тех грустных случаях, когда разводятся близкие друзья. «Ты с кем: с мужем или с женой?» — отвечая на такой вопрос, всегда ощущаешь себя предателем по отношению к одному или к другому.
Я слишком любил своих друзей, слишком был к ним привязан — ко всем вместе. Даже написал о них — о всех троих — восторженную статью в журнале «Знание — сила», она им очень тогда помогла в битвах с Союзом художников. Теперь троицы не было: были два — и один.
Общие друзья тоже стали делиться — на сидурских и лемпортовских. Дима остался в подвале, Володя и Коля переехали в другую мастерскую, просторную, современную — в Кунцево. Она долго казалась необжитой, а старый подвал — осиротевшим. Что-то безвозвратно ушло…
Сознание естественности и неизбежности происшедшего ничего, в сущности, не меняло: грусть об ушедшем, с которым сопряжено столько прекрасных минут, не подвластна холодному скальпелю разума.
Володя и Коля тяготели прежде всего к красоте, Дима — к мысли. Его монументы и скульптурные композиции в память о безвинных жертвах стоят теперь и за многие километры от дома — больше всего их в Германии, где Сидура особенно почитают. О нем написаны книги. Его альбомы вышли на нескольких языках. Его имя внесено в энциклопедии. О его творчестве защищаются диссертации. Московский музей его имени, созданный преданной Юлькой и Мишей — мальчиком, которого он усыновил и который с достоинством носит его фамилию, — собирает в своих стенах художников и поэтов, как это было еще при его жизни, когда никакого музея не было и в помине. Посмертно опубликованные, поэзия и проза Сидура дополнили наше представление об этом многогранном и мощном таланте. Ставшая теперь известной часть его переписки с зарубежными друзьями открывает новую грань писателя Вадима Сидура — его чистый, прозрачный слог, его живопись словом, глубину его мыслей. И истинно философское отношение к своей трудной судьбе.
От той далекой и незабываемой поры у меня остались — все с очень теплыми авторскими надписями — несколько графических работ Димы, пейзажи Володи (в том числе коктебельский) и его, бегло сделанные пером, портреты подвальных друзей, керамика Коли: тарелки, затейливые сосуды. И то, что ни в чем вещественном не воплощается: память о нескончаемом празднике разнообразных талантов. Надпись на одной из книг Юнны: «Аркадию Ваксбергу просто, нежно, дарю с радостью и с дружбой древней-древней» напоминает мне как раз об этой поре.
тогда мы были молодыми — и чушь прелестную несли…
Давид Самойлов тоже был посетителем подвала на Комсомольском. И ставшие хрестоматийными его — Сороковые, роковые… — я впервые услышал именно там: в подвале никто и никогда не отказывался ни читать, ни петь. И свое, и чужое. Если мог и умел.
Виделись мы с Дезиком редко, но если уж виделись, то не на ходу: сидели часами и говорили за жизнь. Его искусство рассказчика было под стать искусству слушателя. Он весь обращался в слух, увлекался, расспрашивал о деталях, про которые я ничего не знал. «Эх ты!» — укоризненно вздыхал он, повергая меня в смущение. Чаще всего это происходило у Юры Тимофеева — тот всегда брал меня под защиту: попробовал бы, мол, ты, Дезик, охватить все то, что приходится делать Аркадию. Эти доводы Самойлов решительно отвергал — и правильно делал. «За деталями не охотятся, — говорил он. — Их видят». И тут же добавлял — все с той же назидательной укоризной: «Или не видят». Судьей он был суровым. И все равно гуманным. И никакая кошка ни разу не пробежала между нами.
Из Пярну, где он прочно укрылся от московской суеты, Дезик иногда мне звонил и писал. Чаще всего, чтобы просить во что-то вмешаться. Кого-то защитить. Или, напротив, кому-то воздать по заслугам: это ведь тоже всегда защита, если торжествует попранная справедливость. защита совести и веры в добро. «Тебя усердно читают, — писал он мне. — Народ тебя знает. Должен сказать, что и я начинаю читать „Литературку“ с тебя».
Одного молодого эстонского ученого, которого упекли за «национализм» (то есть за то, что он вслух сказал не то и не так, как было положено), удалось освободить благодаря вмешательству председателя Верховного суда республики Роберта Симеона: я часто встречался с ним в Москве на заседаниях пленума Верхсуда СССР, и он имел основания считать меня человеком, в Москве достаточно влиятельным. Возможно, это сыграло какую-то роль. Я позвонил ему и сказал, что за такого-то гражданина ходатайствует выдающийся русский поэт с безупречной нравственной репутацией. И что для меня этого более чем достаточно. А для вас? Что на Симеона подействовало — не знаю, но приговор был пересмотрен.
В другом случае, наоборот, насмерть сбившая эстонского мальчика пьяная шоферша избежала всякого наказания — местные прокурорские власти боялись эту женщину-лихача, зная о ее недавнем чекистском прошлом, и признали «виновным» самого потерпевшего, тем более, что того, как известно, «уже все равно не вернуть». Самойлов написал мне отчаянное письмо: «Прости, что опять беспокою тебя, как, вероятно, делают многие. Но ты — защитник справедливости. К кому же еще обратиться?<…> Понимают ли эти люди то, что делают? Ведь они еще больше натравливают эстонцев на русских. Нет человека, который бы не знал правду о том происшествии. А им всем, то есть нам всем, кто эту правду знает, морочат голову, врут беззастенчиво, нагло, паскудно. Русская баба-шоферша ходит с гордо поднятой головой и грозится отомстить тем, кто хоть слово скажет против нее. Каждого, кто требует справедливости, называет недобитым фашистом. Намекает на свои особые возможности. И они у нее действительно есть. Помоги — на тебя надежда».
В Эстонию выехал наш редакционный консультант — генерал милиции в отставке Иван Михайлович Минаев, человек честный и компетентный. Его заключение было категоричным: дело прекращено незаконно. После телефонного разговора с заместителем прокурора республики я долго глотал валидол: прокурор держался высокомерно и дерзко. Еще того хлеще: не завершив разговора, бросил трубку.
Со мной давно уже никто не смел разговаривать в подобном тоне. Я до того опешил, что вовремя не нашелся, как ответить вельможному хаму. Не нашлось смелости и для того, чтобы Дезику сообщить, как бесславно провалилась моя попытка вмешаться. Все тянул, набирался духу. Какое-то время спустя пришло от него письмо: «Здесь никто уже не верил в справедливый результат, все махнули рукой и меня уверяли, что ничего делать больше не надо. Бесполезно. Сейчас все повернулось, праздник на улице, приходят, благодарят, обнимают, некоторые плачут и смотрят на меня, как на всесильную личность. А я им объясняю, кто на самом деле укротил обнаглевшую бабу и ее покровителей. <…> Приезжай, здесь тебя ценят и высоко почитают. В нашем благословенном захолустье ты личность почти легендарная».
В Пярну я так и не съездил. С Дезиком после этого мы увиделись в Москве, в Доме Актера, на очередном «Междусобое», так назывались непринужденные, дружеские встречи людей искусства, продолжавшие давние традиции театральных капустников. Самойлов был в отличнейшем настроении, щедро острил и сыпал экспромтами в блистательном дуэте с Зямой Гердтом — очень уж хорошо в Эстонии ему жилось и работалось, и он ничуть не скрывал, что признание, которым он пользуется, греет его душу. Его там обласкали, присвоили почетное звание — в благодарность за переводы эстонских поэтов. Наш общий друг Веня Смехов вспоминает, как искал в незнакомом Пярну дом, где жил Дезик. «Зашли в кафе, спросили, в ответ без всякого уважения: „Мы не знаем русски язык нету никакой коньяк…“ Ясно. Я, уже без надежды: „Простите, а может быть, вы знаете, где улица Тооминга?“ Вдруг перемена, эстонцы светлеют почти до европейского уровня: „А вы к Давид Самойлов русски поэт?“ И радость забурлила. С коньяком и гидом нашли улицу и дом».
Самойлов еще застал начавшееся возрождение национального сознания — точнее, публичное его проявление, поскольку оно — в Эстонии особенно — никуда не исчезало. И, конечно, всем сердцем был он с теми, кто стремился вернуть Эстонии независимость и суверенность.
Когда это случилось, Дезика уже не было в живых. Но дух его, имя его, стихи его — все это было с теми, кто торжествовал победу. А потом наступила расплата. Видимо, неизбежная: за благородство и открытость души, за искреннее соучастие в чужом — не своем — деле надо платить.
В том самом Пярну, в городе, где Дезик прожил не один год, где по правилам чести и доводам разума полагалось создать музей Давида Самойлова, который стал бы достойным памятником ему и гордостью для страны, так искренне им любимой, — в том самом Пярну, где эстонцы светлели «почти до европейского уровня», лишь заслышав его имя, поступили совсем по-разбойничьи. Из дома изгнали его вдову, предложив убираться со всеми манатками, и как можно скорее — во избежание силового решения.
И она убралась. Как убрался бы Дезик, будь он жив. За себя бы он биться не стал. Ни к чьим стопам не припал бы. Не тот человек.
Глава 13.
От Бани до «бани»
Вряд ли кто-то решится назвать сколько-нибудь точную дату и сколько-нибудь точный географический пункт, где и когда стали пробиваться первые ростки коррупции, потянувшиеся к воровскому миру, чтобы сплестись с ним в крепких и дружеских объятьях. Просто сложился для этого надлежащий «морально-политический климат».
Я взял эти слова в кавычки, потому что выражение «морально-политический климат» стало примелькавшимся клише, занудно повторявшимся в официальной советской пропаганде. Пользовались им, естественно, с восторженной интонацией, которая приличествовала очередным победам партии и правительства. Ни один уважавший себя человек не произносил эти слова иначе, как в ироническом смысле. Между тем, иронизировать было не над чем. Климат действительно был морально-политическим. Только это была мораль уголовников, а политика — циников и бандитов.
Рождение советской мафии, из которой выросла и расцвела пышным цветом нынешняя российская мафия, — процесс не только не однозначный, но весьма противоречивый. Он знаменовал собой одряхление режима сталинского типа — режима, державшегося, с одной стороны, на идеологическом ослеплении («революционный романтизм»); с другой — на жесточайшем терроре. Не случайно, сколь бы ни были эти два явления полярно противоположны и, казалось бы, несопоставимы, первые пристрелочные акции нарождавшейся мафии совпали с пробуждением независимого сознания, попыткой подняться с колен и заявить о своем «инакомыслии». Осознанное сопротивление политическим порядкам со стороны самой лучшей, самой благородной и честной части общества шло параллельно неосознанному сопротивлению бесчеловечным и противоестественным экономическим порядкам — их взрывали изнутри невесть откуда взявшиеся подпольные советские бизнесмены.
Любопытно, что на этом этапе истории экономическое «инакомыслие» воспринималась властями как большая угроза режиму — он ответил на него казнями и долголетней гулаговской каторгой. Политическое же «инакомыслие» чаще всего приводило к психушкам, к ссылке и высылке, реже к сравнительно краткосрочному лагерному аду, а то и всего-то к изгнанию из рая — в клоаку проклятого капитализма.
Новой ситуацией начавшегося развала страны воспользовались те, кто повсеместно пришел на смену «старым большевикам», потом «детям революции», потом «несгибаемой сталинской гвардии». Никаких нравственных, идейных и иных тормозов, мешавших им грабить все, что плохо лежит (а плохо лежало и лежит в нашей стране буквально все), для них не существовало. Тотальному мародерству мог помешать разве что страх. Объединившись друг с другом, привлекая в свои рады тех, от кого могла исходить опасность, они тоже освобождались от страха. Безопасность — вот чего они добивались. И по сути — добились. Отдельные исключения лишь подтверждали правило.
Сигнал шел с самого верха. С самого-самого… Конечно, никто никого не призывал воровать и обирать. Нет, это был просто-напросто сигнал успокоения. Обещавший надежность и защищенность — что бы ни произошло.
Врезался в память такой, пустяковый вроде бы, эпизод.
Был конец февраля или первые дни марта 1981 года. В Москве шел двадцать шестой съезд КПСС. По уже заведенной с хрущевских времен традиции Союз писателей пригласил для встречи с узким, избранным литературным кругом несколько делегатов съезда — первых секретарей разных партийных обкомов. Точнее, пригласил не Союз писателей, а его председатель, любимец Брежнева, Георгий Марков. Имя этого дважды героя социалистического труда, автора эпохальных романов, издававшихся миллионами экземпляров, сразу и бесповоротно оказалось забытым на следующий день после того, как он слетел со своего поста в 1986 году, словно его никогда и не было.
Но тогда еще он был!.. Коренной сибиряк, он льнул к своим землякам, — поэтому, естественно, самым почетным гостем был его близкий друг Егор Лигачев, в то время томский «губернатор», а ныне реанимированный реликт, вернувшийся в политику, где игра идет совсем по другом правилам. Он послужил, как известно, прообразом главного героя романа Маркова «Сибирь».
Речь держал другой гость — первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома Александр Протозанов. Рассказ его был достаточно откровенным. Он говорил о том, что никто не хочет работать, что урожай гибнет под дождем, что нет ни сельскохозяйственной техники, ни зернохранилищ, что область (тут уж она точно не была в одиночестве!) тонет в повальном пьянстве… И вот однажды, продолжал Протозанов, раздался звонок из Москвы. Звонил Брежнев — интересовался, какого ждать урожая.
— Нельзя же соврать генеральному секретарю! — с надрывом воскликнул оратор. — Пришлось сказать всю правду. Урожай замечательный, но больше половины погибнет под дождем, да и морозы вот-вот ударят. Ничего, отреагировал товарищ Брежнев, работайте спокойно, мы вам верим. Старайтесь, сделайте все возможное. Ну, а если ничего не получится, вины вашей нет.
И тут вдруг вставил слово молчавший дотоле Егор Лигачев:
— Вы не представляете, товарищи, какое это счастье для всех нас! Как спокойно, как замечательно работается под руководством дорогого Леонида Ильича, какой превосходный морально-политический климат воцарился в партии и в стране с его приходом. Просто крылья выросли за плечами, если сказать по-вашему, по-писательски.
Не знаю, как остальные слушатели, но я, колеся по стране вдоль и поперек, как раз хорошо представлял себе этот климат чувство полной безнаказанности, сознание мощнейшей защищенности аппарата от любых колебаний почвы, — делай что хочешь, только храни верность дорогому Леониду Ильичу. Свергнув замахнувшегося на них Хрущева, аппаратчики посадили в первое кресло страны своего человека и теперь требовали от него уплаты долгов. С большими процентами.
В сущности, это уже и была сложившаяся, организационно построенная, всемогущая мафия, установившая свои законы, по которым она жила. И вовсе не обязательно, чтобы услуги, которые один ее член оказывал другому, непременно оплачивались в одной и той же примитивной форме — в денежных знаках. Существовало множество других форм, в конечном счете приводивших не столько к прямому обогащению, сколько к накоплению силы, укреплению могущества, продвижению по служебной лестнице. Главным же векселем, который получили верные аппаратчики, была должностная и политическая стабильность: никакие катаклизмы, кроме измены герою «Малой земли», не могли их вышибить из обоймы.
В этих условиях каждый член аппарата мог позволить себе все. А каждый жаждавший обогащения, ограждая себя от провала, искал связи с тем, кто мог себе это позволить. То есть, иначе сказать, с аппаратом в лице наиболее высоких его представителей. Так
объективно создавались условия, чтобы срослись политики и уголовники: первые стремительно превращались во вторых, вторые — в первых, и уже нельзя было толком понять, кто есть кто.
Вот еще один эпизод — он тоже относится то ли к восьмидесятому, то ли к восемьдесят первому году.
Друзья попросили меня помочь несправедливо изгнанному с работы сотруднику железнодорожного транспорта. История была довольно банальной, место этот уволенный занимал небольшое, так что конфликтной ситуацией вполне мог бы заняться кто-то из наших внештатных сотрудников, обратившись к руководителю среднего или даже ниже среднего уровня. Но просили очень близкие мне люди — я решил сам одним ударом разрубить узел, обратившись, без соблюдения субординации, сразу к министру.
Не спрашивая о цели визита, помощник министра назначил мне встречу в тот же вечер. Именно вечер — не день! Давно прошли времена, когда бодрствующий Сталин держал до утра всех чиновников в своих кабинетах. А тут вдруг «Иван Григорьевич просит пожаловать, если вам это удобно, в двадцать два тридцать». Удобно не было, а любопытно было. Я согласился.
Министром был тогда И.Г. Павловский — весьма серый служака, про которого шла молва, что он звезд с неба не хватает, но зато «крепкий профессионал». Но пообщаться со служакой мне не привелось. Извинившись от его имени и сославшись на чрезвычайные обстоятельства, помешавшие министру поиметь удовольствие от беседы со мной, его помощник проводил меня к замминистра, вполне компетентному решить мой вопрос. Когда хозяин вышел мне навстречу, предварительно задернув шторкой висевшую за его спиной огромную — во всю стену министерского кабинета — карту железнодорожных путей, первое, что бросилось в глаза, — синяки под глазами и землистого цвета лицо.
— Чем могу служить? — механически спросил он.
Я изложил просьбу, вложив в аргументацию максимум страсти, на которую был способен. Он слушал рассеянно, думая о чем-то своем.
— Разберемся… Поможем… — бесцветным голосом подвел черту под моим монологом.
Оставалось поблагодарить, встать и уйти. Но он не спешил проститься, и я не спешил, ожидая продолжения разговора.
— Вы, наверно, заметили, что я вас плохо слушал, — сделал он неожиданное признание. — Что делать, уже четвертые сутки без сна. — Заместитель министра подошел к карте, отдернул шторку, вооружился указкой. — Вот здесь… — Он ткнул ею в район целинных земель на севере Казахстана. — Вот здесь мокнет зерно, не хватает вагонов, чтобы его вывезти. Вот здесь… — Его указка уперлась в район Северного Кавказа. — Здесь мы нашли с превеликим трудом резерв. Всего-навсего шестьдесят четыре вагона. <Мне кажется, он сказал: «шестьдесят четыре». Но за цифру не поручусь: возможно, их было сто шестьдесят четыре. Или двести…> Надо было перебросить на целину. Операция под контролем. Вы поняли: под контролем! Мы создали боевой штаб. Все пути забиты, график уплотнен до предела. Я круглые сутки на связи, пробивали дорогу этому внеплановому эшелону буквально с боем. Каждый час поступали сводки о его движении. Он уже дошел до Урала. Здесь пробка, пришлось ломать все расписание. Остановились пассажирские поезда, чтобы пропустить наши вагоны. Из ЦК звонят регулярно — министр докладывает, все складывается неплохо, но чего это стоит!.. Наконец перевалили за Урал, там уже все подготовлено, всюду зеленая улица. До прибытия эшелона на место — считанные часы…
— Я вижу, вы устали. — Мне было неловко задерживать его еще дольше своим присутствием. — Простите за мой несвоевременный визит. Зато вас можно поздравить с победой.
Он долго молчал, разглядывая мигающую лампочками огромную карту. Вернулся в кресло.
— Час назад сообщили: никаких вагонов нет. Вообще. Никаких. Ниоткуда они не двигались и никуда не пробивались. Туман. Мираж. Плод богатого воображения. Обман, на который мы клюнули. Полководцы, командовавшие несуществующей армией. Смешно? — Он снова обратил на меня свой потухший взор. — А вашего подопечного, я думаю, восстановят. Это пока еще в нашей власти.
Он просил «не кидаться сразу к пишущей машинке», не предавать гласности ошеломительный тот сюжет: ведь получалось, что министр вешал на уши лапшу дорогому Леониду Ильичу! Да, вешали и ему самому, но кто бы счел это тогда извинительным?
Коллективными усилиями нескольких наших сотрудников мы все же доискались, куда исчезли те шестьдесят четыре (?) вагона. Ведь, казалось бы, зачем морочили голову министру? Разве нельзя было просто сказать: вагонов нет? И вряд ли столь привычная информация повергла бы министра в шок: к «нет» все мы тогда привыкли. Но дело в том, что
были вагоны и
было желание исполнить чрезвычайное распоряжение министра. Однако в самый последний момент, когда состав уже был сформирован, вагоны потребовались местным начальникам, чтобы срочно вывезти на дорогие северные рынки начавшие портиться фрукты.
Этот вожделенный, вечно дефицитный продукт, себестоимость которого в десятки раз меньше его продажной цены — там, где, как о чуде, мечтали о персике и винограде, — давал миллионные барыши. Целинная пшеница принадлежала государству и, стало быть, никому, а кавказские фрукты — прекрасно организованной, пустившей корни во все сферы плодоовощной мафии: от ее прибылей кормились самые разные кланы, подчас не имевшие друг о друге сколько-нибудь конкретного представления.
Так что, когда возник вопрос, кому отдать предпочтение, ответ был предрешен. Не помогли никакие заклинания: «указание политбюро», «контроль генерального секретаря», «спасение урожая»… Столкнулись два несоизмеримых интереса, и этим было сказано все. Фальшивые телеграммы о продвижении эшелона к Уралу и дальше нужны были для того, чтобы выиграть время и довершить простейшую операцию. В конечном счете от нее выиграли могучие силы, в сравнении с которыми всевозможные проверочные комиссии выглядели беспомощно и бледно. От вывезенного с целины хлеба ни одному товарищу лично ничего не светило, а от проданных фруктов кое-что, пройдя через множество фильтров и промежуточных звеньев, могло перепасть. Так что трудно сказать, кто тут выиграл и кто проиграл.
Вагоны нашлись на севере, куда, как гласило авторитетное заключение, они попали по халатности каких-то мелких железнодорожных сошек. Десятка два людей получили пресловутые выговоры, урожай на целине сгнил под дождем, мафия положила в карман несколько очередных миллионов, сентиментальный Леонид Ильич скорее всего смахнул слезу, когда ему доложили, как героически, не щадя своих сил, люди спасали богатый урожай от жестоких козней природы.
Благотворный морально-политический климат опять победил. Крылья за плечами, о которых так образно и проникновенно говорил Егор Кузьмич Лигачев, росли и росли. А написать об этом мне так и не дали. Сюжет пришлось предварительно изложить редакторату — мне посоветовали не тратить зря драгоценного времени, нервов и сил: газетной полосы очерк об этом заведомо увидеть не мог.
Однажды — это был январь семьдесят шестого — я зашел по каким-то делам в отдел писем нашей редакции. Повсюду — на столах, на полу, на полках и подоконниках — лежали горы читательских писем. Сегодня вряд ли уже кто-то поймет тот, ушедший в забвение, чисто советский феномен: поток писем, хлынувший в редакции газет и журналов с начала шестидесятых годов. Хрущевская оттепель открыла дорогу критическим мыслям, но их негде было высказать: никакой реальной политической жизни не существовало. Оттепель разомкнула уста — никому больше не возбранялось жаловаться, если жалобы были без обобщений и не посягали на существующий строй.
Но даже такие жалобы не имели, как правило, ни малейших последствий, не приводили ни к каким практическим результатам. Стандартные отписки бюрократических ведомств, чаще всего с заранее отпечатанным в типографии текстом, стали на долгие годы синонимом «власти народа». Единственной отдушиной казалась печать: из редакций, по крайней мере, не приходили, как правило, казенные, холодно-равнодушные, а то и хамские ответы. Иногда критические письма даже попадали на газетные страницы. Поток читательской почты рос год от года. Наша газета получала обычно около трех тысяч писем в неделю.
Итак, я стоял посреди этого бездонного бумажного моря, пока сотрудницы отдела искали нужный мне ответ какого-то ведомства. Внимание мое привлекло письмо, отпечатанное на бумаге вызывающе яркого вишневого цвета. Только он — цвет бумаги — и заставил меня из любопытства взять в руки это письмо. Оно начиналось прямым обращением ко мне. «Интереса не представляет», — сказала сотрудница, увидев, из какой пачки я его вынул.
Ограждая меня от чрезмерно назойливых читателей, редакция установила защитный заслон, селекционируя усилиями консультантов почту, шедшую на мое имя. Это письмо разделило участь тех, которые так до меня и не добрались. Не напиши автор на бумаге столь необычного цвета, я бы о нем никогда не узнал.
Письмо, между тем, было довольно забавным. Именно забавным — таким оно мне показалось. В Чебоксарах руководство местного стройтреста объявило «секретной зоной» часть волжского пляжа и примыкающий к нему лесок: по документам там значились простенькие душевые («санпропускник») для студенческих стройотрядов (мы уже и не помним, что они плодились по всей стране!), а фактически это была роскошная сауна для начальства, выложенная мрамором и отделанная лучшими сортами дерева. Об этом и сообщал автор письма.
Случай был в меру типичным и к тому же не слишком масштабным, что сулило очерку доступ на газетную полосу. Оформление командировки заняло какой-нибудь час. Вечером я уже выехал в Чебоксары. Выехал в легком плаще и столь же легких ботинках: в Москве стояла необычно теплая для разгара зимы погода — шесть-семь градусов выше нуля. Через два дня в Чебоксарах ударил лютый мороз.
Когда я пробился в запретную зону, чтобы увидеть санпропускник своими глазами, сторожиха вдруг объявила, что забыла ключи. Я остался ждать на ледяном ветру. Вместе со мной — три гигантских пса-волкодава: охрана. Первая же моя попытка сделать шаг в сторону вызвала их ярость. При второй один из псов кинулся мне на плечи и прижал к мерзлой земле. Потом отпустил. Его взгляд означал: намек понял? Прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Надежд не осталось: сторожиха уже не придет, а псы не уйдут.
Псы не ушли, но сторожиха все же пришла. Отмороженные ноги мучительно ныли. Главное: в сауну-санпропускник я попал. Все увидел и записал.
Довериться местным врачам остерегся. С обмороженными ногами пришлось лететь в Москву. Едва я отбыл, банька в запретной зоне взяла и сгорела. Сама собой… Мрамор исчез. Концы ушли в воду.
Обмазанный чем-то и забинтованный, я лежал дома, отходя от морозного шока, и размышлял о странной, неадекватной реакции на приезд журналиста. Ничего такого, что должно было подвигнуть трестовских начальников на столь жестокие меры, я не обнаружил. Значит, было нечто такое, о чем они знали, а я и не подозревал. Тем более, если учесть другой эпизод: за день до моего посещения баньки меня пытался подпоить член Верховного суда Чувашии со странным именем Энгельс. Энгельс Иванович Львов. Заявился ко мне в гостиницу и предложил: пообедаем вместе. Напившись — по провинциальной своей неумелости — сам же простодушно мне рассказал, что получил «от очень больших людей» деньги на водку. Когда я, охмелев, свалюсь на пол (такой у них был разработан сценарий), дежуривший рядом фотограф запечатлеет эту сцену, а снимки отправит в редакцию и в ЦК. Свалился, кстати сказать, не я, а судья, но эта дивная мизансцена фотографии не сподобилась: аппарата со мной не было, а доносить на Энгельса куда бы то ни было я не собирался.
Сначала это признание показалось мне просто бредом, теперь, после собачьей акции на скованном морозом волжском берегу, оно гляделось иначе…
Едва оправившись от болезни, я снова поехал в Чебоксары. Теперь уже с соблюдением всех правил конспирации. Гостиницы решил избежать: меня приютили те, кто мне помогал. Оказалось вот что: невзрачная, хотя и шикарная на провинциальный вкус сауна служила не только местом отдыха для жаждущих расслабиться местных начальников. Здесь, вдали от большой столицы, плелись сети, в которые вовлекались и местные, и московские шишки. Привлечь взятками их не могли: Чебоксары не Сочи, источники обогащения не слишком обширны, до первых людей в государстве отсюда не дотянуться. Но до первых, оказалось, и не обязательно.
Сначала в сети попались свои: партийные секретари, министры автономной республики. Потом те, что повыше. Потом, завернув в Чебоксары по служебным делам, кое-кто из союзных боссов. На чем же они попались? Всего лишь на девочках…
Руководители стройтреста, они же создатели и хозяева запретной зоны, начали с того, что наняли местных спортсменов: за большие (ворованные, естественно) деньги борцы, боксеры и футболисты охраняли сауну от посторонних, завозили продукты и напитки, готовили еду, развлекали музыкой, подавали халат… На спортивных состязаниях все их соперники (за деньги, конечно) проигрывали нанятым чемпионам. В благодарность чемпионы приводили подруг — для приятного отдыха. Иные артачились — их брали силой и фотографировали в непристойных позах. Опасаясь огласки, подруги сдавались. Становились ручными.
Теперь их обязанность состояла в том, чтобы дать усладу приезжим. Создать уют и блаженство, ни в чем никому не отказывая и разнообразя утехи. Все та же скрытая камера хватала в сети высоких гостей: утром им дарили на память снимки, запечатлевшие «афинские ночи». Достаточно было послать снимок в ЦК, и карьере гостя тут же пришел бы конец — ни оправданий, ни объяснений от него никто бы не стал дожидаться. Опыт чувашских банщиков пригодился тем, кто лет двадцать спустя тем же самым манером свалил Минюста страны Ковалева и генпрокурора Скуратова (в защиту данных товарищей ничего не скажу, но от этого прием, использованный против них, не кажется мне менее подлым) — в другую эпоху и при вроде бы ином режиме. Хорошо отработанная модель сохранилась. Только ли в этом?
Из заложников гости с легкостью превращались в соучастников и сообщников: отрезвев от попоек и любовных услад, ознакомившись со снимками, где они красовались во всей своей наготе, вальяжные гости щедрой рукой раздавали кредиты, подбрасывали дефицитные фонды, подписывали лживые протоколы и фиктивные счета, закрывали глаза на очевидное воровство. Мафия набиралась опыта — позже он ей пригодится.
Очерк «Баня» пробивался на полосу с великими муками. Заместитель главного Удальцов сразу понял, какой сенсацией станет его появление на страницах газеты. Зато Чаковский, прочитав очерк в гранках, сказал Удальцову: «Спрячьте эту бомбу в сейф и никому не показывайте. Даже не говорите, что она существует». Два с лишним месяца работы, все тревоги и беды, которые пришлось испытать, обмороженные и с трудом залеченные ноги — все оказалось пустой и ненужной тратой.
Был конец апреля, приближалась первая декада мая — практически нерабочая в советские времена. Я взял краткий отпуск и отправился в Дубулты, в писательский дом творчества — успокоиться и прийти в себя. Меньше чем через неделю меня вызвали телеграммой: «Очерк в номере возвращайтесь немедленно». Так и не знаю, чье благоволение получил Чаковский. Но чье-то, без сомнения, получил: очень уж ему хотелось прогреметь на весь мир.
Именно так: на весь мир! Опубликованный 12 мая 1976 года, очерк сразу же вызвал реакцию ведущих газет многих стран. О нем написали «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Бостон глоб», «Дейли телеграф», «Гардиан», «Монд», «Фигаро», «Кельнишер рундшау», «Зюддойче цайтунг», «Дагенснюхетер», «Темпо», «Паэзесера»… И даже «Унита»… Первое публичное признание коррупции в высших эшелонах власти — таким был лейтмотив всех зарубежных откликов. Двадцать с лишним лет спустя Виктор Лошак, главный редактор «Московских новостей», утверждал в своей газете: «Возможно, историки когда-нибудь напишут, что очередное прозрение советского общества относительно своей номенклатуры началось с очерка „Баня“ в „Литературке“. Опубликованный в мае 76-го Аркадием Ваксбергом, он был подобен взрыву бомбы в болотной тишине».
Казалось бы, речь шла всего-навсего о каком-то провинциальном ЧП — рассказ о нем (так, повторяю, казалось) никак не посягал на основы. Почему же его все восприняли не иначе, как бомбу? Отчего так всполошилось большое начальство? Не только в Чувашии, но и в Москве? Не такими были они все простаками, чтобы не понять, как в сознании любого читателя воспринимается этот «частный случай», какая модель поведения узурпаторов власти вдруг подверглась насмешке и обнажению. К тому же в подпольном бизнесе провинциалов столичные боссы тоже имели свою долю. Вскрылось это несколько лет спустя.
Площадка, где возводилось здание тракторного завода-гиганта, была расположена вдали от Волги — главной транспортной артерии, по которой доставлялись необходимые материалы. По утвержденному проекту предполагалось построить от порта до стройплощадки одноколейную железную дорогу. Составили смету, Москва выделила деньги и фонды. О завершении строительства одноколейки был составлен отчет. Некая приемочная комиссия подписала соответствующий акт, скрепленный множеством подписей.
Но этой железной дороги никто не видел в глаза. Она испарилась. Ушла под землю. И даже там, при глубоких раскопках, ее вряд ли смогли бы найти дотошные археологи. Стройматериалы от порта возили черепашьими темпами на грузовиках, а несколько миллионов рублей, потраченных якобы на строительство несуществующей железной дороги, осели в карманах посетителей сауны.
Железная дорога, пусть даже одноколейная длиной в несколько километров, это все же не перстень с бриллиантом. Ни в сумке, ни в сейфе, ни в подвале не спрячешь. К такой фальсификации неизбежно должны были быть причастны сотни людей. Азбучная истина: тайна, известная хотя бы двоим, уже не тайна. А тут — сотни!.. Решиться на этот обман мог лишь тот, кто был абсолютно уверен в своей безопасности. В том самом благотворном морально-политическом климате, от которого у Егора-Юрия Кузьмича Лигачева крылья росли за спиной.
И ведь действительно — не ошиблись. Ни секретари обкома, ни министры, ни замминистры (о более высоких не говорю) — никто из причастных в той или иной мере к тому банному (только ли банному?) делу нисколечко не пострадал. Еще того больше: один из купальщиков, секретарь обкома партии, после публикации «Бани» в «Литературной газете» первым прислал официальный ответ. Все, дескать, правильно, автора горячо поддерживаем, партия негодует, виновные будут наказаны. И газета, которая больше всего боялась, что влиятельный партийный босс пробьется к Брежневу или Суслову, всплакнет, разжалобит и организует газете разнос, так обрадовалась, что тут же с полным восторгом его обнародовала, показав тем самым, сколь обоснованно ее выступление и сколь велико ее влияние в стране. И дело само собою закрылось: меры приняты, чего же еще?..
Между тем, это была иезуитская тактика партийной мафии: не идти на скандал с прессой, чтобы не привлекать к себе повышенного внимания. Точнее, это была тактика умной части партмафии. Амортизировав ничего не значащим признанием полученный удар, они спасали свои основные кадры.
Главному инженеру (им, видимо, решили пожертвовать, свалив на него всю вину) суд определил четырнадцать лет тюрьмы. Но уже через два года я встретил его в Чебоксарах, вновь оказавшись там по редакционным делам.
— Простите, — опешив, пробормотал я. — Вам вроде бы дали четырнадцать, а прошло только два.
— Вы пользуетесь не той арифметикой, — с достоинством ответил инженер, который, если не ошибаюсь, стал уже заместителем начальника треста.
И приветливо помахал мне рукой.
Далеко не всегда удавалось обвести вокруг пальца поднаторевших в аппаратных интригах чиновников — инстинкт самосохранения побуждал их использовать все доступные им каналы, чтобы предотвратить появление в газете разоблачительного материала. Они знали (или догадывались), что после публикации им вряд ли уже помогут их связи, — во всяком случае надежда на это была не слишком велика. А вот предотвратить — на это шансов было гораздо больше.
После публикации нескольких, особо громких судебных очерков, получивших большой резонанс, а затем и информационных сообщений о том, какие меры приняты в результате этих публикаций, появляться мне «на месте происшествия», а тем более вести журналистское расследование, стало практически невозможно. У каждого местного царька, естественно, была (не могла не быть) рука в Москве, иначе стать царьками они не смогли бы. И когда трончик под ними начинал качаться, они кидались за помощью к своим покровителям, не дожидаясь, пока грянет гром. В редакции раздавался звонок из какого-нибудь староплощадного кабинета, и будущий очерк рубился на корню. На этом этапе ни в какие пререкания с партаппаратом даже среднего уровня ни наш главный, ни его заместители вступать не желали. Раз прокололся — пеняй на себя…
Когда я один раз попробовал взбрыкнуть, Сырокомский сразил меня несокрушимой редакторской логикой:
— У нас что — кризис сюжетов? Найди другой, еще острее, и будь предусмотрительней. Никто не виноват, что тебя перехитрили. На войне, как на войне.
Как-то я приехал в Ростов-на-Дону — поговорить с автором взволновавшего меня читательского письма, где речь шла о необычной и очень запутанной семейной драме. Результатом встречи мог быть только психологический, но никак не судебный очерк. Скорее — очерк нравов, никого не разоблачающий и даже не имевший возможности разоблачить. В вестибюле гостиницы, куда я приехал прямо из аэропорта, по чистой случайности встретилась группа знакомых московских писателей, прибывших на пресловутые «дни литературы» — выездные помпезные обжираловки под видом встреч с читателями вошли тогда в моду и, естественно, пользовались у пишущей братии большой популярностью. Писатели готовились к посадке в автобус, чтобы ехать на очередную пьянку, и ничуть не удивились, увидев меня: они решили, что я тоже — из «делегации».
— Почему мы с вами еще не познакомились? — ласково спросил человек, которого мне представили как секретаря обкома.
— Я не в делегации, — объяснил ему я, — а в командировке. Совпадение чисто случайное.
— Все равно вы наш гость, — хлебосольно приветствовал меня секретарь. — Кого мы имеем честь у себя принимать?
Я назвался. Улыбка тотчас сползла с лица хлебосола — он инстинктивно отвел назад уже протянутую мне руку.
— Что у нас случилось? — упавшим голосом спросил секретарь.
Убеждать его в том, что мой приезд не сулит ни малейшей опасности ни ему, ни его коллегам, ни «чести» города или области, было бессмысленно: он ни за что бы мне не поверил. А выдать глубоко личную, интимную тайну моего корреспондента, известного в городе деятеля культуры, я тоже не мог: это условие содержалось в письме.
— Абсолютно частная история, — пробормотал я.
— Ну, ваш и частные истории мы хорошо знаем, — уже без всякого камуфляжа обнажил панический страх нежданный мой собеседник.
Автобус с гостями уехал, а я, поднявшись в номер, принял с дороги душ, переоделся и спустился вниз, чтобы вызвать такси: у себя дома меня ждал заранее предупрежденный автор письма. Со времени моего приезда прошло не более получаса. В опустевшем уже вестибюле не было никого, кроме двоих мужчин. При моем появлении один из них слишком нарочито уткнулся в газету, другой уставился в окно. Почувствовав неладное и желая себя проверить, я назвал таксисту другой адрес и нашел на заднем сиденье такую точку, с которой можно было вместе с водителем смотреть в шоферское зеркальце. Провинциальный примитив не надоумил моих преследователей принять какие-то меры предосторожности (возможно, они этого и не хотели): «Волга» в открытую следовала за нами.
Я вернулся в гостиницу, поняв, что поехать к тому, ради кого я здесь оказался, уже невозможно: я бы его выдал. Из автомата (мой гостиничный телефон был, конечно, уже на прослушке) ему позвонил, сообщив без каких бы то ни было объяснений, что, хотя я уже и в Ростове, о встрече не может быть речи. Но отреагировать как-то на слежку было все-таки нужно: ничем не спровоцированная, беспардонная выходка по отношению к корреспонденту центральной газеты требовала ответных действий.
В моем распоряжении была лишь одна возможность: из номера, так, чтобы слушали, я позвонил в редакцию, где рабочий день, по счастью, еще не закончился. Открытым текстом объяснил ситуацию. «Подожди у телефона», — сурово сказал мне Сырокомский и пошел советоваться с Чаковским. Совет длился недолго. «Немедленно возвращайся», — ничего не объясняя, жестко распорядился он.
Ни одного рейса в Москву больше не было — пришлось дожидаться утра. До аэропорта меня сопровождала та же машина. Надо ли было тратиться на такси? Могли бы на ней и подбросить… В редакции я узнал, что кто-то «из очень важных» звонил Чаковскому еще до того, как я связался с его замом. Так что мое сообщение из Ростова их обоих не удивило. «В следующий раз будешь умнее», — отвел Сырокомский все аргументы, хотя я и не понял, в чем состояла моя глупость.
Так я оказался в заколдованном кругу: без тщательного расследования ничего написать не мог, а оно, в каком бы городе я ни появился, тут же торпедировалось спасавшими себя прохиндеями. Мне неловко об этом писать, но факт остается фактом: имя мое наводило на всю эту кодлу смертельный страх.
Был найден выход. На разведку отправлялись сначала наши помощники-консультанты, именовавшиеся на редакционном жаргоне разработчиками. Сами они печатались очень редко, с их именами не ассоциировались в «глубинке» никакие разгромные акции, поэтому безумного страха они не наводили. Кроме того, командировке предшествовала тщательная выработка тактики их поведения: они должны были создать иллюзию, что просто проверяют читательский сигнал, который может и не подтвердиться. Мало ли у нас обиженных чем-то людей с рыльцем в пушку? Пишут куда ни попадя, злопыхательствуют и клевещут, отнимая драгоценное время у занятых делом людей…
Вот этот язык был «товарищам» и знаком, и приятен — подобное объяснение неизменно срабатывало именно так, как нам нужно. Все активно включались в разоблачение лживого доноса и, опровергая его, разоблачали себя.
В роли разведчиков, готовивших почву для приезда самого публициста, у нас работали очень квалифицированные, компетентные и отлично сознававшие поставленную перед ними задачу специалисты: бывший крупный чин так называемых «органов» (кажется, полковник) Павел Степанович Ильяшенко, отставной генерал милиции Иван Михайлович Минаев, три отставных полковника юстиции, бывшие военные прокуроры Борис Федорович Плеханов, Илья Эммануилович Каплун и Валентин Дмитриевич Черкесов, журналисты Людмила Ивановна Пугачева и Семен Григорьевич Старец. На их счету десятки отлично раскрученных дел, тысячи собранных документов — ценнейшая основа для завершения «операции» (встречи и беседы будущего автора с героями и антигероями очерка, их близкими, знакомыми, друзьями и врагами, очевидцами, искренними борцами за справедливость, наушниками, сплетниками и прочая, прочая…), без чего никакой очерк появиться, естественно, не мог.
Но и тут, насколько возможно, я старался остаться как можно более незаметным, без нужды не представлялся по имени, главных местных начальников поелику возможно обходил стороной и, не кривя душой, заверял всех встревоженных визитом журналиста, что вопрос с публикацией окончательно еще не решен. Что никакой публикации, возможно, вообще и не будет. Зная магию клишированной советской терминологии, я говорил, что решение принимает вся редколлегия (вдали от Москвы это звучало почти как политбюро!), — такая невинная хитрость производила на моих собеседников желанное мне впечатление, хотя реальное место редколлегии в нашей газете если и было для кого-то секретом, то уж никак не для ее сотрудников.
Случались обидные неудачи.
Однажды я получил огромный пакет убийственных документов из Ашхабада. Заурядное (да, увы — заурядное) дело о тройном убийстве (мужа, свекрови и свекра), за которое была осуждена некая Волохова (надо же: запомнил фамилию!), размотало цепочку омерзительных преступлений, творившихся в мединституте. Кузница врачебных кадров была превращена просто-напросто в бандитский притон, где осовевшие от пьянок, погрязшие в разврате академики и член-коры, профессора и доценты (в переводе на язык юридический — воры, взяточники, насильники, садисты…) при помощи своей челяди и покрывавших все их услады цековских баев измывались над студентами — главным образом женского пола. Астрономические по тем временам суммы взяток тускнел и в сравнении с другими шутками «медицинской» банды. Мало какая абитуриентка могла стать студенткой, не принеся именитому врачевателю и воспитателю врачевателей — вместе с солидным пакетом денег — еще и свою невинность: «винных» просили не беспокоиться…
Деньги и «сладкая ночь» были платой вперед и за каждый сданный экзамен. Строптивых ждало возмездие — одна такая попытка и завершилась убийством.
Во главе этой шайки стоял, насколько помню, сам ректор, членкор Академии наук Байриев. Сделать вид, что он не преступник, было уже поздно, бардак открылся, тайное стало явным, но член-кора подвели под амнистию: за высокие свои заслуги он имел, среди прочих медяшек, еще и орден Ленина. Многократными орденоносцами, естественно, оказались и другие мздоимцы и сластолюбцы: все они после своего разоблачения схлопотали кто выговор, кто даже строгий, утерлись, заели пловом и продолжали резвиться.
Борис Плеханов, притупив бдительность местных милицейских и кагебешных акул, собрал в Ашхабаде множество материалов, которые с непреложностью подтверждали: клуб насильников и садистов состоял не только из профессоров и член-коров, но еще и партийных тузов. Настало время приехать и мне, чтобы разматывать цепочку дальше. Но тут Плеханов допустил непростительную промашку. Желая помочь мне сносно устроить «быт» в ашхабадской жаре, он заказал комфортабельный номер (с кондиционером!) в цековской гостинице, разгласив тем самым имя того, кто прилетает.
Понятно, что «тот, кто прилетает», не прилетел. Накануне меня вызвал Чаковский и буднично сообщил, что «товарищ Зимянин не советует заниматься такой ерундой, которой партия уже дала оценку». Дискуссии по этому поводу не полагалось: товарищ Зимянин был секретарем ЦК. А до него добралась, как я позже узнал, секретарша по идеологии Туркменского ЦК. Вмешательство в столь деликатную ситуацию особы женского пола придавало позиции перепуганных ашхабадцев дополнительный вес: не станет же восточная женщина поощрять коллективный разврат!
Не всегда, однако, из ЦК раздавались лишь окрики, не всегда перед будущим очерком зажигался красный свет. Случалось, как говорится, «совсем наоборот». Обычно, впрочем, поддержка приходила не от самого ЦК в лице каких-то его отделов, а от состоявшего при нем Комитета партийного контроля. Редкостного пройдоху Захара Двойриса удалось вывести на чистую воду лишь с помощью этой организации. Пока она не вмешалась, он упоенно дурачил самых высоких начальников, создавая легенды о своем всемогуществе.
Абсолютно безграмотный (этот писатель — он был еще и «писателем»! — едва ли мог написать без ошибок хотя бы одно слово), никогда и нигде не работавший, беспросветно дремучий и тупой, как подошва, он умудрился втереть очки даже весьма проницательным людям, тыча им в нос фотографии, где сподобился оказаться рядом с Брежневым, Сусловым, Косыгиным или с кем-то еще из той же тусовки. В столь знатное общество он попал потому, что служил костылем для «старейшего члена партии» Федора Петрова, оказавшегося в рядах передового отряда трудящихся еще за два года до того, как сей отряд сформировался (годом создания партии считается 1898-й, Петров состоял в ней с 1896-го). Этот совершенно бесцветный, рептильный «старейший член» приглашался в качестве свадебного генерала на разные показушные действа, где, естественно, всегда находился среди самых знатных гостей. Стоять на ногах он не мог — подставкой для него и работал верный Захар. А поскольку самые знатные непременно снимались в обществе самого старого, то между Брежневым (Сусловым, Косыгиным…) и Петровым всегда оказывался наш хитрюга-костыль…
Эти снимки он совал каждому, от кого ждал услуг или кого шантажировал, — эффект всегда был одним и тем же: Захар получал все, чего хотел. Любые справки, мандаты и полномочия. Даже подписанный начальником всесоюзного ГАИ, уникальный по содержанию документ, дававший его обладателю право переезда железнодорожных путей при закрытом шлагбауме: почему-то именно этот мандат особенно меня позабавил и придал его обладателю несомненный шарм — ведь не каждый додумается до того, чтобы такой пропуск истребовать! Для этого все же нужна фантазия, и притом изощренная.
Каким-то образом Захар сумел насолить Михалкову. Отцу, а не детям. Он-то и позвонил мне, чтобы рассказать о беспримерном мошеннике. Сергей до того был взбешен, что даже перестал заикаться:
— Докажи, что и этот орешек тебе по зубам, — подначивал меня Дядя Степа, боясь, что я откажусь. — Таких ты еще не видел. Как бы Захарушка тебя не слопал, покаты раскусишь его.
Опасен, конечно, был не Захарушка, а те простофили и лизоблюды «с рыльцем в пушку», которые клевали на подсунутых им червяков. Депутаты, по просьбе Захарушки заверявшие своей подписью любую фальшивку в обмен на сумочку из братской Румынии и платочек из братской Анголы. Лауреаты, пробивавшие ему персональную пенсию и почетные грамоты в надежде, что он замолвит словечко перед Брежневым или Косыгиным и тогда им обломится новая побрякушка. Писать имело смысл о них — не о нем, и они-то могли принять превентивные меры. Но на этот раз в союзе со мной оказалась Старая площадь: сотрудник КПК Самоил Алексеевич Вологжанин пресекал любые попытки Захарушки заткнуть публицисту рот. Так появились на свет два очерка — «Роль» и «Режиссер и исполнители», — которые раскрыли цинизм, мелочность и холуйство вершителей наших судеб: они предстали мелкими барахольщиками и перепуганными ничтожествами, которых обвел вокруг пальца и над которыми всласть посмеялся примитивный ловкач.
Вологжанин проявил ко мне повышенное внимание и часто приглашал к себе в кабинет — «для консультаций». На самом деле, мне кажется, он в деликатной форме позволял приобщиться к дарам спецбуфета, в послеобеденные часы доступного всем, кого удостоили чести проникнуть в здание партийного штаба. Оттого и наши с ним встречи всегда назначались ближе к концу рабочего дня. «Загляните на первый этаж», — напоминал он, прощаясь. И я заглядывал — не буду скрывать…
Буфет представлял собой огромный зал с длиннющей стойкой вдоль всей стены. Столики для еды были обычно пустыми, зато пред каждой из десятка буфетчиц в крахмальных белых наколках терпеливо дожидались своего часа от двух до четырех человек. Именно часа: очередной клиент задерживался у стойки минут эдак на двадцать.
— Будьте добры, икорочки черной… Три баночки пока достаточно… И красной еще, если можно… Этой, пожалуй, четыре. И колбаски еще языковой… И чайной, конечно. По полкило. Получилось семьсот? Хорошо, пусть будет так. Язычков копченых штук десять, пожалуйста. Больше не надо, спасибо. И ветчинки, само собой… Разумеется, обезжиренной. И миног штучек восемь. Да, чуть не забыл: осетринки и балычка. Порежьте, пожалуйста, тоже по полкило, больше не надо. Пирожки свежие? Ой, простите, что за глупый вопрос. тогда десять — с мясом и десять — с капустой. Ах, есть еще расстегаи? тогда десяток, не больше. Вот, пожалуй, и все.
— Конфет не надо? — деловито осведомлялась буфетчица.
— Как же, как же, конечно… — лепетал посетитель, одаряя крахмальную наколку угодливо благодарным взглядом. — Спасибо, что напомнили. Трюфелей полкило. И еще «мишек» с грильяжем, этих поменьше.
Хорошо вышколенная буфетчица в разговор не вступала и на благодарные реплики не реагировала. Пощелкав на счетах (калькулятора, помнится, в ту пору у них еще не было), сухо подводила итог
— Девятнадцать тридцать…
— Как вы точно все рассчитали, — шутил посетитель. — Я как раз на двадцать рассчитывал.
Другой — без «здрасьте» и без «пожалуйста» — был лаконичней:
— Мне — как всегда.
Получив свой заказ, он оставил десятку и направился к выходу, но буфетчица сурово его окликнула:
— Вы забыли сдачу — пятнадцать копеек.
Выходить из здания ЦК с огромным тюком — красиво запакованным в плотную бумагу и перевязанным прочной бечевой — не то чтобы запрещалось, но считалось не очень приличным по негласным правилам цековской же этики. Я заметил, что все отоваренные укладывали свои деликатесные тюки в бездонные кожаные портфели — создавалось впечатление, что те набиты деловыми бумагами. Мимо здания ЦК сторонние пешеходы, как правило, не ходили, но запрета специального не было, так что встреча с «чужим» не исключалась. «Чужой» не должен был заподозрить, что вершители судеб озабочены чем-то столь низменным, как дармовые деликатесы к столу.
С Комитетом партийного контроля связан еще один примечательный эпизод, только в нем был задействован не Вологжанин, а его коллега, фамилию которого я непростительно и постыдно забыл.
Этот эпизод имел место после публикации очерка «Характер» — о скромном санитарном враче колбасного цеха Рязанского мясокомбината Екатерине Николаевне Грищенко. Точнее, не о ней, а том, как ее затравили. Как расправились только за то, что она добросовестно исполняла служебный долг, не давая возможности ворам и мошенникам калечить людей. Зловещая картина «колбасного производства», которую она красочно воспроизвела в своем письме, поразила даже меня, привыкшего еще и не к таким откровениям. Было трудно поверить, что в наши дни — не в тайге и не в джунглях, а в огромном городе центральной России — могут спокойно смотреть, как в фарш для колбас пихают болты и гайки, металлические стружки и деревянные опилки, грязную и рваную ткань вместе с мышиным пометом… «Не позволю, — кричала Грищенко. — Запрещаю!» За такую преданность своему долгу, за ревностную защиту здоровья людей санитарному врачу полагалась награда. И она ее получила: приговор за хулиганство (слишком громко «кричала на работе в служебное время»): два года лишения свободы (правда, условно) плюс изгнание со своего поста.
Об этом был очерк, вызвавший читательскую бурю. Сначала — бурю возмущения теми, кто топтал санитарного врача. Потом — бурю восторга, когда газета (не сразу, не сразу!) сообщила о том, что справедливость восторжествовала, что приговор отменен, что дело прекращено, что Екатерина Николаевна вернулась на прежнее место работы.
«Вы вернули мне не работу, а веру! — писала Екатерина Николаевна Грищенко автору очерка „Характер“. — Даже не в справедливость, а в то, что человечность существует, что это не пустой звук. Спасибо именно за человечность, за понимание, сострадание, сочувствие, воплощенное в конкретное дело. Сломить такое сопротивление — это надо уметь… Я знала, что Вы — последняя инстанция, и все же не верила в эту возможность. Какое счастье, что я ошиблась!».
Но всего закулисья этой темной истории не знали ни я, ни она, ни читатели.
Как всегда, местные партийные бонзы забили тревогу: дискредитация, подрыв авторитета!.. И, конечно, еще — клевета, извращение фактов, сговор журналиста с преступником!.. Такой донос за подписью то ли первого, то ли «просто» секретаря обкома пошел в ЦК. И там отрядили инспектора — чтобы проверил.
Ради такого случая газета расщедрилась и выделила машину: на ней мы и поехали в Рязань с представителем КПК, которого на аппаратном жаргоне называли партследователем. В городской гостинице для нас заказали два отдельных номера. Приехали поздно вечером. Я предложил поужинать в ресторане — благо, он еще не закрылся.
— Да нет уж, — возразил инспектор, — у меня желудок капризный. Заходите ко мне — перекусим, чем Бог послал.
Я сначала поверил: желудок, почему бы и нет… К тому же предстояло поесть той самой цековской колбаски! Не местной — с опилками и пометом… Когда я пришел к моему «напарнику», на столе лежала записка: «Никаких ресторанов!». Немой комментарий был еще красноречивей: полномочный представитель ЦК многозначительно приложил палец к губам, а затем этим же пальцем показал на потолок. К подобным жестам мы в Москве давно привыкли, но чтобы увидеть это же в исполнении цекиста?! Такое мне даже бы не приснилось…
Поговорив о погоде и о футболе, мы разошлись. Утром завтракали в обкомовской столовой — стакан сметаны и винегрет. И опять разошлись. Вечером не встретились вообще. Никак не мог взять в толк, для чего я тогда приехал в Рязань? Не для того же, чтобы лежать в своем номере и глядеть в потолок! Да к тому же еще — голодать: в ресторан нельзя, в магазинах пусто…
Наступило еще одно утро. Инспектор поджидал меня в вестибюле гостиницы. Мы пошли вместе к машине. Оголодавший, я возмечтал: опять поедем есть винегрет. Не тут-то было!
— Скажите сейчас громко, — прошептал цекист, когда на очень короткий момент мы оказались без почтительного сопровождения, — что нам не по пути, что вы поработаете в прокуратуре, а вечером встретимся и поговорим. И сразу уезжайте в Москву. Первым же поездом. Понятно?
Понятно не было, но я поступил именно так. «Значит, до вечера!»— приветливо помахал рукой ответственный московский товарищ, садясь в машину, а я немедля отправился на вокзал, тем более, что номер уже был оплачен и дорожная сумка — весь мой багаж — висела на моем плече.
Через несколько дней мы столкнулись с Чаковским у входа в редакцию.
— Вашу благодарность я уже передал, — обрадовал он, не уточнив, кому и за что. — Только не разыгрывайте спектакль, будто ничего не понимаете. И вы, и редакция висели на волоске. Но (он назвал имя и отчество, которые я постыдно забыл) нас спас. Вопрос закрыт.
Какие тайны мадридского двора скрывались за всей этой мутью? Насчет «волоска» он, конечно, преувеличивал, но какая-то опасность, притом явно немалая, несомненно была. Подслушивать тех, кто оказался на самых высоких верхах, начали, как видим, далеко не вчера. Все жили в страхе, за всеми охотились, никакого пиетета
перед товарищами из Центра местные власти отнюдь не имели. Напротив, преуспевали по части интриг. И демагогии. Правдами и неправдами старались подставить подножку. Но чего хотели они от меня? Ведь я был очень маленькой пешкой в их масштабной игре.
Тайна не открылась, а приоткрылась годы спустя. Вернее — часть правды. Но достаточно и ее. Чебоксарская модель в точности повторялась. Аршин везде был одинаков. Ни на что другое выдумки не хватало. Нас — двух «ревизоров» — надо было как минимум скомпрометировать. Для этого в провинциальном городе имелось только одно «злачное» место: гостиничный ресторан. Там, на людях, в пьяной толпе, можно было кого угодно подсунуть, подставить, затеять скандал, ввязать в драку, объявить выпивохой. И что-нибудь доказать после этого вряд ли кому-нибудь удалось бы. Даже такому товарищу, как цековский мой спутник. Он это знал. И возможность такую пресек.
Вторая задача вцепившихся в насиженные места была посложнее: доказать, что я действовал небескорыстно. Не столько даже доказать, сколько набросить тень. Породить сомнения. Для этого нашлись доброхоты, которые были готовы подсунуть мне взятку. Но товарищ, который приехал со мной, знал эти штучки. Встречался с ними не раз. И отбил удар ответным ударом. Какой-то информацией КПК располагал помимо меня. Заготовленные «свидетели» оказались причастными к крупным хищениям на том же мясокомбинате. И за это — не только за грязь! — выводила их Грищенко на чистую воду. Прежде чем обвинять, им пришлось защищаться. Я не успел еще доехать до Москвы, как против них возбудили уголовное дело. В яму, заготовленную для меня, попали они сами.
Вывод для себя я сделал такой: там, у них, на самом верху, тоже есть люди, которым обрыдли партийная круговая порука, жизнь по мафиозным законам, зажим правдивого слова. Надо искать с ними контакт. И действовать сообща. Монолита больше не существовало, он превратился в фантом. Конфронтация с фантомом теряла всякий смысл.
Понять логику высоких товарищей удавалось мне не всегда. Но логика — своя, цековская — у них, конечно, была. И менялась порой столь причудливо, что уследить за ее извивами не каждому было дано. Со всей очевидностью я познал это после одного инцидента.
В читательской почте попалось письмо о том, как в Горьком был убит местный студент. Письма об убийствах в газету шли косяком — это отличалось особо наглядной абсурдностью, которая заставляла задуматься о неразгаданных механизмах человеческих поступков, превращающих жизнь в цепь фатальных случайностей.
Собралась провести вечерок в песнях и трепе компания близких друзей-студентов. Позже ввалилась еще одна группка студентов — столь же теплая и веселая. Слились без проблем — все хорошо знали друг друга. А через двадцать минут один из компании уже лежал мертвый — с ножом в груди: размещаясь, в давке и тесноте, кто-то кого-то задел да сказал еще что-то не то, и развязка наступила немедленно. Вот эта молниеносность роковых перемен, мгновенность перехода от шутки к смерти, поразила меня больше всего: никаких внутренних тормозов, никакого самоконтроля! И полное пренебрежение к человеческой жизни, не стоившей, как оказалось, даже ломаного гроша! И к тому же — отсутствие хотя бы малейшего сожаления о том, что произошло! Очерк так и назывался: «Двадцать минут», ибо стремительность превращения человека в зверя как раз и была в центре того психологического исследования, которое предлагалось читателю.
Фамилия убитого была Краснер (в редакцию обратились его родители), и я, опасаясь, как бы читатель не увидел проблему совсем в другом (чего в
данной истории вовсе и не было), переделал его в Краснова, поскольку суть — и факта, и очерка — состояла вовсе не в том, кого убили: на месте убитого мог оказаться любой другой. Но те, кто убил, ухватились за эту замену, как за спасательный круг. Одна девица, некая О., формально ни в чем не виновная (она лишь науськивала убийцу), спасая приятеля, потребовала привлечь меня к уголовной ответственности за клевету. Московский судья В.И. Петров в возбуждении уголовного дела отказал «за отсутствием к этому оснований». Но О. не сдалась. Она отправила гневное послание в «Правду». «Мы не знаем никакого Краснова! — патетически восклицала она. — Совершенно случайно, из-за своей же глупости, убит негодяй Краснер, нагло задевший мою женскую честь. Пусть всеми любимая и уважаемая „Правда“ проверит, кем доводится Краснер Ваксбергу и почему этот, с позволения сказать, журналист обманул читателей, переделав Краснера на свой лад. Узнайте, пожалуйста, когда и где Краснера крестили? И с чего это вдруг Ваксберг взял на себя роль батюшки? Кто ему дал это право?»
Аналогичное письмо было отправлено ею в ЦК, и оба сошлись в «ЛГ» с руководящей резолюцией: «разобраться». По такому случаю собрали всю редколлегию и весь коллектив редакции. Чаковский сидел и помалкивал. Сырокомский громил. Удальцов предложил объявить строгий выговор. Зал робко и пугливо внимал. Мне дали «последнее слово». Абсурдность ситуации лишила меня красноречия. Я сказал лишь, что мне не понятен этот «пафос из ничего», эта «паника на ровном месте», что очеркист в нашей газете подобен канатоходцу, идущему по проволоке без сетки внизу, и что коллегам полагается в таких случаях страховать своего товарища, а не помогать ему падать.
— Что за бредятина?! — прервал меня Сырокомский. — Какой канат? Какая сетка? Предлагаю строгий с предупреждением.
Не дождавшись ничьих возражений и даже не повернувшись к Чаковскому, он на этом закрыл заседание. Но уйти мне не дал — затащил в свой кабинет. Там он прежде всего кинулся к любимой своей «вертушке». По разговору я понял: на проводе некто Севрук. Заместитель заведующего отделом ЦК. Вровень с министром…
— Редколлегия прошла на высоком уровне, — докладывал Сырокомский. — Все возмущены. Коллектив реагировал правильно. Ваксбергу объявили строгий выговор. Конечно, с предупреждением. Самым последним. Чтобы никому не было повадно. Ставим об этом сообщение в номер. — Вдруг он замолк. Напряженно слушал. — Я правильно понял: ничего не надо? Совсем?! Вообще?!. Ясно. Большое спасибо.
Сырокомский вышел из-за стола и крепко меня обнял.
— Видишь, как хорошо все кончилось. И выговора нет, и в газете ничего не будет. А ты переживал… Севрук сказал: «Не следует перебарщивать. Обсудили — и хватит. При такой крутизне ни один журналист не захочет работать. И все, кого печать критикует, воспрянут духом. Подумаешь: Краснер, Краснов… Не все ли равно?»
Он это внушал мне с такой же искренней страстью, с какой двадцать минут назад внушал совершенно иное. Двадцать минут…
Глава 14.
Нумерованные утки и граф-еврей
Мой софийский знакомец, парижский адвокат Шарль Ледерман, после международного конгресса успел дважды посетить Москву в составе делегации французских юристов, и эти встречи укрепили наши отношения. Укрепили настолько, что он предложил нам с Капкой, когда настало время ей работать в ЮНЕСКО, не тратиться на жилье, а поселиться у него. Это была большая удача, причем не только в финансовом смысле.
Шарль занимал шестиэтажный дом, построенный еще в семнадцатом веке и расположенный в глубине наглухо закрытого старинными воротами двора. Он достался по наследству его жене Раисе, тоже парижскому адвокату, выходцу с Украины, еще помнившей, и довольно неплохо, русский язык. Сохранилось одно ее письмо на мое имя в президиум коллегии адвокатов на Неглинную, с очаровательной ошибкой на конверте, происшедшей, видимо, из-за плохой слышимости по телефону, когда я диктовал адрес: улица Недлинная. Дошло…
На первых пяти этажах жили хозяева: Шарль, Раиса и две их дочери — Клоди и Дани. Там же размещались и два адвокатских бюро. Внутренние помещения были полностью модернизированы и имели набор всех мыслимых удобств, которыми располагала тогда бытовая техника. Зато шестой этаж, отданный во владение нам, сохранил всю прелесть первозданности: удобств в нем не было вообще никаких — принимать душ мы ходили в другой флигелек этого дома, тоже принадлежавший Раисе, а то, что требовало, увы, более частого посещения, располагалось на площадке между этажами и лишь весьма условно могло называться туалетом в европейском смысле этого слова. К нам, на шестой, вела очень крутая, очень витая и притом еще очень широкая деревянная лестница. Лифта не было — подъем пешком, по нескольку раз в день, был, конечно, не слишком большим подарком. Но мы не унывали: Париж стоил и не таких страданий, а сэкономленные деньги, весьма немалые, могли пригодиться. И — пригодились.
У нашего жилья было еще одно преимущество: дом располагался на островке Сен-Луи, в трех минутах ходьбы от другого острова, Сите, который считается центром Парижа. Это был один из самых дорогих кварталов Парижа, таким он остался и по сей день. Здесь живут люди, чей достаток слишком велик, чтобы его афишировать. В том числе и самые знаменитые люди искусства.
Неподалеку от нас, на одной из набережных, обитал Ален Делон, тогда еще не имевший такой всемирно скандальной славы, но все равно очень известный. Мы часто видели его прогуливающимся с огромным догом. Он старательно не замечал других прохожих и ни разу не встретился ни с одним из них глазами. Эта нарочитая надменность выглядела довольно комично и, хотел он того или нет, с непреложностью выдавала его происхождение, точно определявшееся меткой русской пословицей: «Из грязи — в князи».
Соседний дом принадлежал наследникам германского рейхсканцлера Бисмарка, его внучатый племянник продолжал в нем жить, предпочитая уединение на острове в центре Парижа жизни на родине, от которой он оторвался. О его особой любви к островам я узнал через несколько лет, оказавшись на Капри. Всю ночь мешали спать фейерверки и взрывы петард: за высокой стеной, отделявшей мой пансион от соседнего палаццо, шла лихая гульба.
— Кто это ночью так веселился? — спросил я утром у хозяина пансиона.
— Племянник Бисмарка, — был ответ. — Правда, внучатый. Хоть и старик, но скуки не переносит. Париж — Капри, Капри — Париж, то туда, то сюда, всюду свои дворцы и всюду гульба. Почему бы и нет, если есть деньги?
Шарль Ледерман относился к числу самых уважаемых островитян. Он был очень богатым человеком: помимо огромного дома в Париже, признанного памятником архитектуры, о чем свидетельствовала прибитая к дому табличка, он имел еще большую квартиру на фешенебельном средиземноморском курорте Ментона, где тоже оказывал мне гостеприимство. Богатство ничуть не мешало ему быть пламенным коммунистом. Даже не столько пламенным, сколько неистовым. Лишенным потребности хоть в чем-нибудь сомневаться, хотя его кумир Карл Маркс настойчиво предлагал «подвергать все сомнению».
Родившийся в варшавском гетто в 1913 году, он в детском возрасте эмигрировал с родителями в Париж и уже в четырнадцать лет стал воинствующим революционером, борцом за права трудящихся и вообще борцом за и против чего угодно, лишь бы это вредило тому строю, который создал ему и его семье роскошную жизнь. Мне он говорил, что непримиримым антиимпериалистом его сделала казнь в Америке небезызвестных Сакко и Ванцетти. Кажется, эти двое несчастных итальянцев пострадали действительно ни за что, но казнь «ни за что» миллионов людей от рук советских коммунистов на Шарля почему-то не повлияла. Никак. Едва я заводил разговор об этом, он сразу отвергал его одной и той же фразой: «Это уже осуждено». И, не начавшись, разговор обрывался.
Нацизм воспринимался им только под одним углом зрения: Гитлер отвергал коммунизм и истреблял коммунистов. И поэтому (именно поэтому, а не по какой-то другой причине) устроил гонения на евреев: ведь коммунизм, благодаря своей интернациональной сути, дает им равные со всеми права и полную свободу. Взаимного родства различных тоталитарных режимов Шарль не признавал. Он был яростным антифашистом, отвергая не идеологию фашизма, не подавление им человеческой личности, не отрицание всех прав и свобод, а только его противостояние другому медведю в той же берлоге. Когда заходит разговор о коммунистическом фанатизме, исключающем малейшее сомнение в его непорочности, я вспоминаю зашоренный взгляд Ледермана на все, что не укладывалось в его априорные схемы. Другого такого профессионального фанатика мне не встретилось. Особая пикантность состояла именно в том, что таковым был не наш, кондовый, большевик сталинской выпечки, а француз — цивилизованный европеец.
На заре наших, тогда еще идиллических, отношений мы довольно часто гуляли с Шарлем по набережным Сен-Луи: на обход своего любимого острова он выделял сорок минут («работа, работа!») и строго следил по часам, чтобы не выйти из графика. Но и эти сорок минут он посвящал все той же политике. Ничто другое его не интересовало, ни о чем другом он говорить не мог.
Гуляя по кэ де Бурбон мы столкнулись однажды с выходившим из подъезда человеком, лицо которого мне показалось знакомым. Шарль представил нас друг другу, и загадка тут же открылась: это был адвокат Жоэ Нордман, генеральный секретарь той самой МАЮД (Международной ассоциации юристов-демократов), на софийском конгрессе которой мы и познакомились с Шарлем. С самим Нордманом я знакомства тогда не свел, он был слишком важной фигурой — вместе с Приттом руководил конгрессом и общался только с «первыми» лицами.
Сейчас, вспоминая нашу мимолетную встречу на набережной Бурбонов, я вижу перед собой только его глаза — вероятно, серые, со стальным отливом, но показавшиеся мне просто бесцветными, и самодовольную, застывшую улыбку, делавшую лицо похожим на маску. «Я очень люблю советских людей», — сказал он, пожимая мою руку, вместо традиционного «очень приятно». Эта идиотская «формула вежливости» уже мне обрыдла в Болгарии, услышать ее от французского адвоката было тогда в новинку. Как ему объяснить, подумал я, что «советские люди» бывают разными и что вряд ли он, просоветский фанатик, агрессивно клеймящий в судах и на прочих трибунах всех антикоммунистов, любит и миллионы «врагов народа», переполнивших концлагеря.
Многие годы спустя я прочитал в газете «Монд», что Нордман (родившийся в 1910 году, он, кажется, жив до сих пор) впоследствии сожалел о своем фанатизме. Прозрел… Лишь после того, как преступления коммунизма частично признали его же партия и ее хозяева в Москве. Ни в сожаление его, ни в прозрение я не верю. Помню стальные глаза… Помню самодовольную улыбку обладателя истины в последней инстанции… И шикарный дом в самом дорогом квартале Парижа, где жил и работал этот беззаветный и самоотверженный борец за права обездоленных.
Шарль, насколько я помню, не состоял членом ЦК, но во французской компартии был фигурой куда более влиятельной, чем иные «цекисты». Он представлял свою партию сначала в парижском муниципалитете, где был советником (то есть, по-нашенски, депутатом городского совета), а потом в течение семнадцати лет заседал в Сенате, верхней палате парламента. И, что, вероятно, еще важнее, он был адвокатом компартии и руководимых ею профсоюзов, участвуя в десятках громких судебных процессов, так или иначе ее касавшихся, — это делало его фигурой уже общенационального масштаба, потому что он был всегда на виду. Его узнавали на улице незнакомые люди и почтительно ему кланялись — страстная убежденность в своей постоянной правоте вызывала уважение у людей самых разных политических взглядов. Тем более, что у Шарля было за спиной героическое прошлое: плененный немцами в Дюнкерке, он был заключен в лагерь с неизбежно следовавшей за этим газовой камерой, но из плена бежал, добрался до Лиона и стал одним из активных деятелей Сопротивления.
Я часто у него обедал — какое-то время ему было интересно со мной, он вел откровенные политические разговоры, как партиец с партийцем: представить себе, что «не член» получил возможность поехать за границу на достаточно продолжительный срок да еще оказался мужем дипломата из братской социалистической страны, — нет, этого он себе представить не мог. И тем самым наглядно демонстрировал уже приобретший всеобщность большевистский менталитет, не зависящий от национальных традиций и исторического опыта каждой страны. Такой чекистский режим установили бы у себя и французские камарады, если бы осуществился план, которым в 1947 году Сталин поделился с Морисом Торезом: создать Французскую Советскую Социалистическую Республику. Мне не было нужды обманывать Шарля насчет своей непринадлежности к партийному клану — такой вопрос просто не поднимался, поскольку ответ на него был как бы заведомо очевиден. Представляю себе, каким это стало бы для него шоком, если бы правда открылась.
Какое-то подозрение, впрочем, у него возникло после одного эпизода, столь же смешного, сколь и печального. Однажды за ужином, который весьма затянулся, когда подали кофе с коньяком и создалась совсем непринужденная атмосфера, Капка попросила меня спеть для Шарля песни Булата Окуджавы, о которых до той поры он никакого понятия не имел. Мы коротко объяснили ему, что вот появился в России уже лет десять назад популярный бард, или русский шансонье, если воспользоваться более знакомой ему терминологией. И Шарль охотно вызвался послушать. Раиса тихонько переводила ему слова— строчку за строчкой. После первых двух песен Шарль вынес предварительный приговор: «Аполитичен», но «концерт» пожелал продолжить. Где-то посреди «Последнего троллейбуса» насторожился, безошибочно уловив интонацию и скрытый подтекст. И жестко подвел черту: «Хватит!» Приговор стал окончательным. И еще более суровым: «Чужой».
Уже на следующий день воинствующий коммунист поднялся на шестой этаж, позвонил в дверь и, не переступая порога, сказал:
— Вот что я узнал, Аркади (с ударением, естественно, на последнем слоге): у вашего шансонье в Советском Союзе нет выпушенных пластинок, и по радио его не исполняют. Прошу вас больше не петь у меня нелегальных песен. Я не могу превратить свой дом в подполье.
Строго говоря, после такой пощечины из этого дома надо было немедленно съехать. Но — не хотелось, во-первых. И к скандалу я был не расположен — во-вторых. Пришлось все превратить в шутку. И возразить: Булат — член Союза писателей, он широко издается, большими тиражами напечатаны и проза его, и стихи. А исполняют его или нет, это вопрос музыкального вкуса редакторов, не больше того. Дискутировать Шарль не стал, позиции не изменил, мы продолжали встречаться, но общие застолья сразу же прекратились.
Хорошо, что этот конфликт случился до другого события, иначе мне не пришлось бы — в качестве уважаемого московского товарища — принять в нем участие. Как-то Шарль объявил, что приезжают в Париж очень-очень важные гости, близкие друзья («с одним из них вы немного знакомы»), по этому поводу будет устроен ужин, на который он с удовольствием приглашает меня. «Вопрос согласован», — многозначительно добавил Шарль. И я понял, что шею надо мыть особенно тщательно, и рубашку приготовить высшего качества, и галстук — не тот, что на каждый день.
Ужин состоялся в ресторане, расположенном в двух шагах от нашего дома, — только мост перейти, — имя его «Тур д'аржан» («Серебряная башня») уже не одно столетие, и по сей день тоже, является нарицательным: один из самых дорогих, самых престижных, самых фешенебельных ресторанов Парижа. Стекла вместо стен позволяют во время ужина любоваться Сеной, по которой один за другим плывут иллюминированные кораблики, и подсвеченным собором «Нотр-Дам»: зрелище фантастической красоты. Непременным блюдом ресторана является приготовленная в вине и апельсиновом соке утка, имеющая свой порядковый номер, который ведет счет со дня основания ресторана. В подтверждение того, что утка съедена, каждому посетителю выдается сертификат с указанием ее номера и даты чревоугодия.
В «престижном» посещении «Серебряной башни» нуждаются, естественно, не аристократы, а люди с большим кошельком: побывав там, заполучив сертификат и одарив огромными чаевыми повсюду расставленную, услужливую челядь, они чувствуют себя приобщенными к высшему свету, тогда как истинные представители истинно высшего света предпочитают тихие, уютные ресторанчики с изысканным интерьером, кухней для тонких гурманов и без швейцара в ливрее у входа.
Именно «Тур д'аржан», а не интимный ресторан для элиты и не скромный — для пролетариев, выбрали самые высокие товарищи из ЦК французской компартии для дружеского ужина со своими итальянскими коллегами. В Париж прибыли Луиджи Лонго, генеральный секретарь ИКП, и Умберто Террачини, член политбюро, — он-то и оказался тем человеком, с которым я был «немного знаком»: мы вместе участвовали в софийском конгрессе «юристов-демократов» и даже заседали с ним в одной и той же комиссии. Он узнал меня или сделал вид, что узнал, во всяком случае был предельно корректен и любезен. Французского генсека Вальдека Роше, к тому времени еще не сошедшего с ума, в Париже не было, поэтому хозяев представляли второй человек в партии Жак Дюкло, старейший член политбюро Раймон Гюйо, в прошлом видный коминтерновец, и член ЦК Жан Канала, который считался главным партийным казначеем. Стало быть, это он транжирил на наши утки деньги трудящихся, выразителем чьих интересов партия выступала.
Присутствие на высоком ужине Шарля, формально никакого поста в партии не занимавшего, было все же понятно. А вот кого представлял я, — это понять мне не дано. Вряд ли мое участие диктовалось просто стремлением Шарля доставить мне удовольствие. В такой сентиментальности он замечен не был, да и мог бы, если бы захотел, осуществить свое намерение не за партийный счет, средства ему позволяли. Беспартийный московский адвокат (пусть даже принимаемый за партийца) в окружении вождей двух «братских», притом самых сильных, самых влиятельных среди всех других, западных «братских», за общим столом в шикарном парижском ресторане — нарочно не придумаешь!..
Никаких партийных секретов никто мне не выдавал, никаких доверительных разговоров при мне вообще не вели — казалось, просто добрые друзья, которые не знают счета деньгам, мило проводят время в дорогом ресторане. На самом деле они почти незаметно и очень непринужденно старались разговорить московского гостя, принимая его, с подачи Шарля, конечно, за непорочного коммуниста, но с критическим взглядом на политику своей партии. Так называемый «еврокоммунизм», стремившийся преодолеть ортодоксальность догматиков и кондовость кремлевских лидеров, придать компартиям более современный вид, тогда набирал обороты, и взгляд независимо мыслящего советского товарища, скорее всего симпатизировавшего обновленческим тенденциям европейских реформаторов, был им интересен. Видимо, у руководства ФКП и ИКП не было прямых и близких контактов с партийно-советскими низами, а я, мне так кажется, был представлен Шарлем как выразитель их настроений. Во всяком случае, наша застольная беседа подтверждала это мое предположение.
Большое место в беседе заняли устные мемуары. Бойцы вспоминали минувшие дни… Шарль рассказывал итальянским товарищам подробности тогда еще недавнего, а теперь уже всеми напрочь забытого «дела о голубях», где он выступал защитником Жака Дюкло (кстати сказать, на пару с тем же Жоэ Нордманом) и триумфально выиграл процесс. В 1952 году в Париже состоялась грандиозная демонстрация против американского генерала Мэтью Риддуэя, сыгравшего огромную роль при высадке союзников в Нормандии (1944), а потом — и в отражении советско-китайской агрессии в Корее (1951–1952). Его обвиняли в использовании бактериологического оружия — демонстрация проходила под лозунгом «Риддуэй-чума». При задержании Жака Дюкло, манифестировавшего почему-то в своей машине, а не в пешей колонне, на сиденье было обнаружено несколько мертвых голубей. Коммунистического лидера обвинили в шпионаже, посчитав голубей за гонцов, доставивших Дюкло инструкции из Москвы. Инструкции он наверняка получал, но для связи с ним у Кремля были куда более надежные и более оперативные возможности. Придумать эту нелепость могли только и впрямь шутники не слишком большого полета, но как попали в машину мертвые голуби, об этом с достоверностью и сейчас не известно…
Шарль рассказывал о своих адвокатских победах с таким упоением, что другим сотрапезникам все время приходилось его прерывать, чтобы тоже вставить словечко. А главное — включить в разговор и меня. Лонго очень хотел получить подтверждение, что советская интеллигенция сохраняла верность марксизму-ленинизму, пытаясь очистить его от «догматических наслоений» и «патриотического сектантства». По его информации, «молодые силы в партии» стремились «творчески развить коммунистическую теорию». На языке советской пропаганды это презрительно именовалось реформаторством и чем-то похожим на «контру». Но я уходил от этой дискуссии отнюдь не из страха за последствия откровенных бесед на столь высоком коммунистическом уровне: сама игра в верность марксизму-ленинизму, необходимость пользоваться постылой терминологией, естественной и привычной для всех товарищей за этим столом, была невыносимой. Войдя в разговор и увлекшись проблемой, я скорее всего быстро бы выдал себя. Предпочтительней было сказаться некомпетентным и подставить тем самым чего-то им посулившего Шарля, чем разыгрывать роль, которая мне была совершенно чужда.
Но одно я вынес из этого разговора с полной на то очевидностью: итальянские товарищи, при энергичной поддержке Раймона Гюйо (по жене он доводился близким родственником Артуру Лондону, судимому вместе с Рудольфом Сланским и чудом избежавшему казни), с надеждой ожидали развития событий в Чехословакии, Венгрии, Польше, тогда как Дюкло, Канала и мой Ледерман долдонили про то, что это «развяжет руки контрреволюции». Они знали несравнимо больше, чем я, про то, что происходило в «соцлагере». Слова Лонго «мировое коммунистическое движение нуждается в обновлении» означали, в переводе на нормальный язык, приближение его окончательного распада. Если Будапешт (1956) положил начало этому процессу, то Прага (1968) довела его до логического конца.
С Шарлем мы никогда не ссорились — просто мирно и тихо разошлись. Много позже я узнал, что в 1972 году именно в его квартире, за тем же столом, где мы часто вместе обедали, состоялся тайный «исторический завтрак» нового французского генсека Жоржа Марше с Франсуа Миттераном, где коммунисты объединились с социалистами в единый «левый блок» для победы на парламентских выборах: согласно ленинско-сталинской политической терминологии такое братание называлось оппортунизмом, ревизионизмом, чем-то еще, столь же зловещим. И если Шарль не только был согласен с этим братанием, но и стал посредником между двумя лидерами, обеспечил плацдарм для их встречи, значит, возможно, он и не был в душе тем зашоренным ортодоксом, каким выглядел передо мной.
Говорят, узнав — уже после того, как началась «перестройка», — всю правду о подготовленном Сталиным втором Холокосте и о других кремлевско-лубянских тайнах, Ледерман сказал в каком-то из своих выступлений: «Я очень сожалею — в свое время я не сделал того, что обязан был сделать». Это значит, по крайней мере, одно: главное — пусть не все, но главное! — он знал уже тогда. И понимал суть событий — так, как их следовало понимать, — тоже тогда. Что мешало им, зарубежным товарищам, оставаться верными правде, а не партдисциплине и не врать хотя бы самим себе?!
Шарль умер в сентябре 1998 года. После шестьдесят шестого мы с ним не виделись, хотя я бывал в Париже множество раз. Он читал все, что выходило у меня по-французски (об этом мне сообщили общие знакомые — адвокаты), узнал, стало быть, из первых рук, что я на самом деле думаю о преступлениях коммунизма, но никак об этих писаниях не отзывался: ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Сожалел ли о том, что наши дискуссии прекратились, — не по моей вине? Или, напротив, сокрушался, какую змею пригрел некогда на своей груди? Этого я уже никогда не узнаю.
В Париже я хорошо был знаком еще с одним из «бывших», который прозрел гораздо раньше, чем Шарль. Мэтр Андре Блюмель, старейший французский адвокат, работал некогда директором кабинета в правительстве Народного Фронта Леона Блюма и, будучи сначала социалистом, а потом беспартийным, всегда оставался на откровенно просоветских позициях. Они привели его в конце концов на пост исполнительного президента Ассоциации «Франция-СССР», где он близко сотрудничал со своим другом Ильей Эренбургом, который занимал в Москве аналогичный пост — президента Ассоциации «СССР — Франция». Во французском обществе друзей Советского Союза в разные годы состояло множество знаменитых и почитаемых деятелей французской культуры, но под влиянием шокирующих акций «государства трудящихся всего мира» эти почитаемые, заботясь о своем добром имени, то из него выходили, то возвращались снова. После разгрома венгерского восстания из него вышли Сартр, Эдуард Эррио, Франсуа Мориак, после разгрома Пражской весны — Веркор и Арман Салакру. Зато демонстративно вступили другие: Марина Влади, Мишель Пикколи…
У Блюмеля была богатая биография. В годы войны он представлял подпольную социалистическую партию при Лондонском правительстве Шарля де Голля, нелегально вернулся во Францию, участвовал в Сопротивлении, попал в концлагерь, откуда бежал весной 1944 года. После освобождения возглавлял кабинет министра внутренних дел Андриена Тиксье, а потом порвал с политикой и вернулся к адвокатской работе.
Впрочем, нет, с политикой он не порвал. На скандально знаменитом судебном процессе коммунистической газеты «Леттр франсез», выступавшей против «клеветника» Виктора Кравченко, автора книги «Я выбрал свободу», Блюмель был одним из адвокатов коммунистической стороны, хотя и не столь агрессивным, как иные его коллеги, — вроде главного «юриста-демократа» Жоэ Нордмана, совсем уж откровенной «шестерки» Кремля, но все равно очень страстным. И главное — искренним: он не сомневался в том, что страна, победившая нацистов и положившая на алтарь победы столько человеческих жизней, являет собой образец свободы и человечности, а те, которые это опровергают, участвуют в провокациях ЦРУ. Другая трактовка событий была ему тогда не доступна.
В старомодно обставленной и поэтому очень уютной квартире Блюмеля на улице Любек я несколько раз встречался с ним за обедом и ужином, — наши отношения становились все теснее, а беседы соответственно все откровеннее. Он не скрывал, что взгляды его давно уже эволюционировали в очевидную сторону. У него были достаточно тесные связи с теми, кого стали в Москве называть диссидентами, которые неплохо его просвещали, а он, как мог, им помогал — чаще всего не явно, но вполне ощутимо: привозил запрещенные книги, снабжал деньгами, переправлял рукописи и корреспонденцию. Блюмель считал, что в той ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, он должен не покидать свой пост, а остаться, делая все возможное, чтобы поощрять «демократические тенденции» в стране, которую успел полюбить, и противостоять господствующим тенденциям — консервативным и реакционным.
Это не было пустой декларацией. Когда был вынесен смертный приговор по так называемому «самолетному делу» (попытка отчаявшихся «отказников» эмигрировать на захваченном самолете), Блюмель примчался в Москву и использовал все доступные ему рычаги, чтобы спасти осужденных. Убежден, что в счастливом для них исходе дела есть большая заслуга Блюмеля. Этой чрезвычайной акцией его усилия не ограничились. Он старался приглашать во Францию тех, кому были ближе демократические тенденции, а в обратную сторону направлять такие делегации, которые хотели бы «дружить» не по правилам, разработанным на Старой площади, и своим авторитетом оказывать поддержку тем, кто в Союзе гоним. Средство было не очень-то эффективным, но в конце концов каждый должен делать то, что в его силах.
Блюмель прилетал в Москву на похороны Эренбурга, мы встретились с ним на этой печальной церемонии и впервые крепко обнялись: такая эмоциональность была ему обычно не свойственна. Годом позже в Париже он заверил меня, что у него с Эренбургом всегда было полное взаимопонимание и что «мудрый Илья» глубоко страдал от той «фасадной роли», которую сам для себя избрал. Однако же, говорил Блюмель, Эренбург придавал большое значение «нашей с ним работе» и поэтому оставлять добровольно свой пост, как и Блюмель — свой, ни в коем случае не хотел. Он полагал, что на освободившуюся вакансию давно уже готовится «кремлевский ястреб». У ястреба было вполне конкретное имя, — именно он и занял место умершего Эренбурга: известный «правдист» Юрий Жуков. С этим другом французского народа Блюмелю пришлось сотрудничать несколько лет: Андре умер в 1973 году, отпраздновав свое восьмидесятилетие.
Блюмель наивно полагал, что он действительно может влиять в хорошую сторону на развитие советско-французских отношений, что московские власти его вполне искренне уважают и чтут. На самом деле, встречаясь с ним в Москве, я без труда разглядел плотную и жесткую слежку, этого было вполне достаточно, чтобы понять, насколько он заблуждался, блаженно пребывая в мире иллюзий. Просвещать его на этот счет не имело никакого смысла: самому Блюмелю ничего не грозило, те, с кем он встречался, безусловно, и так были все под колпаком, а открывшаяся ему правда могла лишь сковать руки: какие-то добрые дела были все же в пределах его возможностей.
Многие годы спустя я на несколько лет стал вице-президентом Общества «СССР — Франция». Если бы Андре мог это узнать, то наверняка был бы доволен: он считал, что любое, пусть даже самое малое, сближение двух стран в «человеческом измерении» вдет к обоюдной пользе.
Моя последняя встреча с Блюмелем была не похожа на все предыдущие. Мы и не заметили, как наступил вечер, и обед сам собой плавно перешел в ужин. Как будто мы оба чувствовали, что других встреч у нас уже не будет. Он слишком, мне кажется, налегал в тот вечер на виски, его совершенно голый череп покраснел, отливая вишневым блеском от света торшера, возле которого он сидел. Одно признание совсем поразило меня. Блюмель рассказывал, какой информацией снабжали его советские «консультанты», готовя к процессу Кравченко. Была среди них и такая: Бухарин «предательски общался» в Париже, во время последнего своего приезда в 1936 году, с историком Борисом Николаевским. Зачем ему подбросили эту деталь, он не знал. Но зато знал о другом контакте Бухарина, про который консультанты ничего ему не сказали, — о тайной встрече Бухарина с видным меньшевиком Федором Даном: про нее Блюмель знал по своим каналам, от французских социалистов. Не захотели сообщить, или эта встреча действительно осталась им не известной?
Блюмель терялся в догадках, искал для себя ответ на этот, почему-то казавшийся ему важным, вопрос, но, несмотря на всю свою тогдашнюю просоветскость, и вида не подал, что знает больше, чем его информаторы. К процессу Кравченко эта деталь никакого отношения вообще не имела — вероятно, закулисные режиссеры боялись, что процесс выйдет «за рамки», и снабжали какими-то аргументами своих адвокатов. Советские товарищи, вспоминал Блюмель, тесно пасли его во время процесса Кравченко, не оставляя наедине с самим собой и следя за каждым шагом. Подсовывали фальшивки о полной свободе, которая существует в Советском Союзе, и, разумеется, очень аргументированно опровергали клеветнические измышления Кравченко насчет существования лагерей.
— Я начинал процесс, — признавался Блюмель, — в полной убежденности, что Кравченко американский агент и что книжка вообще написана не им. Сомнения появились, а потом укрепились, когда мы допрашивали свидетелей, которых поставляла Москва: они читали заготовленные заранее тексты, но полностью тушевались, когда начинался перекрестный допрос. К вопросам адвокатов другой стороны их могли подготовить только в самых общих чертах, ни на какие экспромты они не были способны и несли полную чушь. Но окончательный поворот в моем сознании произошел после допроса Маргарет Бубер-Нейман.
Маргарет, придется напомнить, была женой казненного в 1937 году в Москве члена политбюро германской компартии Гейнца Неймана и сама провела в ГУЛАГе несколько лет. Подло выданная Сталиным его друзьям-фашистам в 1940 году, она переместилась из советского лагеря в гитлеровский и только благодаря этому спаслась: ужасный и постыдный парадокс! Спаслась — и прибыла после войны в Париж рассказать о том, что есть и чего нет в стране, процветающей под солнцем сталинской конституции. Ее честный, горький и кошмарный рассказ могли оставить без внимания, а тем более его освистать, разве что вконец изолгавшиеся циники. Потом, когда во время хрущевской оттепели правда чуть приоткрылась и о существовании ГУЛАГа было заявлено Кремлем официально, они восклицали: «Но ведь мы ничего не знали!»
Конечно, не знали. Потому что знать не хотели! «Фальшивомонетчики не мы, — писала своей сестре в Москву, прочитав „Ивана Денисовича“, Эльза Триоле, — но мы распространяли фальшивые монеты по неведению. Сами принимали на веру…» Да кто же им мешал сменить «веру» на «ведение»? Прислушаться — если уж не к Виктору Кравченко, то хотя бы к Маргарет Бубер-Нейман, пламенной коммунистке и вдове еще более пламенного, коммунистами же и казненного?
Тот, кто не хочет слышать, хуже глухого… Пословица, кстати, французская — случайно ли это?
Андре Блюмель — из песни слова не выкинешь — тоже способствовал глухоте и слепоте чрезмерно восторженных друзей Кремля. Но он имел мужество прозреть раньше многих других и помочь освободиться от шор тоже многим другим. И делом, а нелицемерными сожалениями искупал свою вину. Наши долгие с ним разговоры, которые становились все более откровенными, имели, мне кажется, для него вполне утилитарную цель: оставить о себе ту память, которую на самом деле он заслужил.
Когда я впервые приехал в Париж, там еще оставались — правда, уже на исходе — зримые следы некогда блистательного русского присутствия: того, что называлось первой эмигрантской волной. Богослужения в кафедральном соборе на улице Дарю собирали множество еще довольно бодреньких старичков, которые любили выпить рюмку-другую в расположенных напротив ресторанчиках, особенно в угловом «Петрограде», где закуской служили малосольные огурчики и расстегаи. Книжный магазин Сияльской — по соседству — собирал не столько любителей раритетов, сколько жаждавших разговоров о литературе — увы, уже отошедшей в прошлое. В Рахманиновской консерватории, на берегу Сены, прилежные ученики — дети и внуки «бывших» — постигали искусство, обучаясь у тех, кто говорил на каком-то уже не существующем пленительном русском языке. В столовке консерватории — ее «кантоне» — столы были покрыты повидавшими виды клеенками, подавальщицей служила добродушная тетенька в не слишком чистом переднике, как две капли воды похожая на своих советских коллег из какого-нибудь привокзального буфета, разве что изгнавших из лексикона слова «товарищ» и «гражданин»: она подавала «битки» — или «с гречкой», или «с пшенкой», ничего другого в репертуаре консерваторской кантоны не было. Да и не надо: вкус все равно был отменным.
Продолжали работать прежние русские кабачки, которые посещали тогда еще не только заезжие иностранцы, клевавшие на экзотические подделки, но и старые русские, и старые же французы, знавшие цену истинному искусству. «Новых русских», по счастью, еще не было и в помине. В «Царевиче» и «Водке» пели Димитриевичи: Соня, Валя, Тереза и Алеша. В «Павийон рюсс» на улице Лористон доживала долгий актерский век все еще божественная и неутомимая Людмила Лопато. В «Карпуше» пел под свою гитару сам престарелый Карпуша, настоящая фамилия которого была Тер-Абрамян. Последние солисты из некогда знаменитого хора Жарова пели в монмартрском ресторанчике «У Никиты из Москвы». А в монпарнасском «Доминике» гостей встречал сам Доминик, сиречь Лев Адольфович Аронсон, знаменитый театральный критик, учредитель престижной премии своего имени: мы сиживали с ним за столиком в его ресторане и, следуя его рекомендациям, заказывали исключительно бефстроганов («такого больше нигде не осталось», утверждал он). Я рассказывал о московских премьерах, он жадно слушал, потом сокращал счет наполовину: «Прошу прошения, но больше никак не могу — процентами с него зарабатывают официанты»…
Русский Париж жил и в тех театральных постановках, которые имели отношение вроде бы только к французскому искусству. В театре «Эберто» шли «Три сестры» в версии Жоржа и Людмилы Питоевых, а поставил спектакль Андре Барсак, чьи русские корни были очевидны даже и в том случае, если бы он не говорил на превосходном русском. За кулисами он познакомил меня сразу со всеми «тремя сестрами» — Одиль Версуа, Мариной Влади и Элен Валье. Барьера не было — все оказались своими… Потом мы не раз виделись с Барсаком в его театре «Ателье», он с тревогой говорил о том, что его дочь Катя вышла замуж за грузинского художника Элгуджу Амашукели — никакого желания породниться с чем-то советским у Барсака не было. К счастью, его тревоги оказались напрасными: Гуджи — под таким именем зятя Барсака знает теперь вся Франция — органично и быстро вошел в художественный мир Парижа, стал создателем изумительных статуэток, декоративных фигур и ювелирных изделий, но больше всего прославился своими драгоценными саблями, которые изготовляются в единственном, естественно, варианте для «бессмертных» — членов Французской Академии. Встречаясь с ним теперь — с ним и с Катей — за дружеским столом, мы вспоминаем былое, сходясь во мнении, что истинно новые русские это совсем не обладатели бандитских капиталов, а те, которые продолжают здесь великие традиции русской культуры, так щедро обогатившей культуру французскую.
Театр «Одеон» предоставил однажды вечер, свободный от спектаклей, Арагону и Триоле для того, что у нас назвали бы творческой встречей. Сказать, что зал был набит битком, значит не сказать ничего: там не было не только свободного места, но и свободного клочка ни в партере, ни на ярусах. Возможно, еще и потому, что вход был свободным: при французских ценах это фактор существенный. Устроившись кое-как в ложе бельэтажа, стоя, за спинами более удачливых, я больше слышал, чем видел. Супруга вслух, в форме свободного диалога, вспоминали о прошлом («Ты помнишь, Эльза?», «Ты помнишь, Луи?»), иногда давая Жану-Луи Барро проиллюстрировать ими сказанное чтением стихов или отрывков из прозы. Вечер был французский, но имена звучали
исключительно русские: Хлебников, Маяковский, Шкловский, Горький, Третьяков, Якобсон, Шостакович, Эйзенштейн, Мейерхольд…
В «Комеди франсез» шла «Свадьба Кречинского» в постановке Николая Акимова — на нее валом валил весь Париж. После спектакля отправляться спать совсем не хотелось — французские друзья повели меня в симпатичный подвальчик на улице Канетт, возле Сен-Жермена. Пел, аккомпанируя себе на гитаре, усатый красавец-брюнет в спортивной рубахе с распахнутым воротом. Я сразу же почувствовал, что все, до отказа заполнившие этот подвальчик, знают если не друг друга, то уж вне сомнения — самого певца, который и был хозяином кабачка. Заслышав русскую речь, он обратился к нам на хорошем русском: «Что вам спеть?» Познакомившись, мы сразу же подружились: не было случая, чтобы, приехав в Париж, я снова не побывал в том кабачке, и певец неизменно встречал меня любимым номером из своего репертуара: «И в разлуке с милою Москвой я живу теперь в стране чужой. Здесь, в Париже, песенки цыган и я пою для милых парижан». В перерыве он чокался со мной, не притронувшись к влаге, рюмкой паленки (венгерской черешневой водки), произнося всегда один и тот же тост «За свободную Россию».
Артиста звали Джури, или Юрий, или — в подлинном варианте — Дьердь Адлер. Венгр из румынской Тимошоары, в годы войны он был мобилизован и отправлен на русский фронт. Ему отчаянно повезло: он провоевал всего две недели и попал в плен. Влюбился в Россию. Выучил русский. После войны был возвращен в «народную» Румынию, оттуда перебрался в столь же «народную» Венгрию, а потом драпанул как можно дальше от всяких народных, обосновавшись в Париже и быстро став любимцем парижской публики.
Джури влюбился в Россию, но отнюдь не в Советский Союз. И поэтому каждый раз, прощаясь со мной, он тревожно спрашивал: «Уверен ли ты, что тебе надо туда возвращаться?» Я был уверен, и он, с сомнением качая головой, завершал нашу встречу всегда одной и той же фразой: «Только бы встретиться снова». Мы встречались снова и снова, это стало уже ритуалом — провести последний вечер в Париже у Джури, слушая его песенки (он пел их никак не меньше, чем на десятке, а может и больше, языков, которыми владел превосходно), и уйти из подвала последним — в три часа ночи. А весной девяносто четвертого, опять приехав в Париж, я застал по знакомому адресу совсем другой ресторан и ни малейших следов того, с чем я сжился и что по святой простоте считал почему-то вечным. Рак горла скрутил моего дорогого Джури за каких-то два месяца. Осталась подаренная им кассета с записью его песенок, и я часто с печалью и нежностью слушаю в его исполнении мою любимую: «Отзвучали песенки цыган, и закрыт любимый ресторан».
В один из дней меня разыскал по телефону незнакомый мне человек, прослышавший о том, что некий юрист, журналист и литератор из Москвы оказался в Париже. Он сослался на французского адвоката, которого я хорошо знал, и это позволило принять его предложение и пожаловать на обед. Меня ждала изысканно обставленная, хотя и не очень большая квартира на улице Колонель Ренар, все стены которой были увешаны фотографиями с дарственными надписями хозяину дома. Вряд ли было там много лиц, которых я бы не мог «опознать». Станиславский, Немирович-Данченко, Москвин, Книппер-Чехова, но еще и Стравинский, Рахманинов, Прокофьев, Дягилев, Лифарь. И — Добужинский, Судейкин, Анненков, Бакст…
Не скрою: имя Леонида Давыдовича Леонидова мне тогда ничего не говорило. Он сам рассказал о себе: импресарио с мировым именем, человек, который летом 1919 года вывез МХАТ из голодной Москвы в Харьков, вскоре занятый Добровольческой Армией, а потом обеспечил так называемой качаловской труппе (то есть группе артистов, возглавлявшейся В.И. Качаловым) триумфальное турне по Европе — вплоть до 1922 года. Жена Леонида Давыдовича сразу покорила меня внушительной красотой потомственной аристократки, в которой русское хлебосольство естественно сочеталось с европейской утонченностью и умением расположить к себе так, чтобы гость сразу же избавился от всякой стеснительности. Это была Юлия Бекефи, в прошлом прима-балерина самых прославленных театральных сцен, искусством которой восхищались лучшие хореографы мира. Артистизм и интеллигентность — вот что отличало этот старый московский дом, непостижимым образом оказавшийся в центре Парижа.
Прежде всего, и это не удивительно, Леонид Давыдович потребовал от меня рассказов о МХАТе. Там был по-прежнему его дом, который он ненадолго оставил, хотя прошло с тех пор сорок пять лет и ни о каком возврате речи быть не могло. Но что я мог ему рассказать — сверх того, что он знал и без меня? День сегодняшний, как я понял, его занимал не очень, он мысленно общался с титанами, чей круг стремительно редел, и сводил разговор к тем именам, которые для него всегда оставались живыми.
Как раз близилось семидесятилетие МХАТа, и я вспомнил те праздничные дни, когда театр был моложе на двадцать лет и когда я не пропустил ни одного юбилейного спектакля. Играли отдельные акты «Врагов», «Вишневого сада», «Анны Карениной», «Любови Яровой». На сцену выходили в классических своих ролях О. Книппер-Чехова, Б. Добронравов, В.Топорков, Ф. Шевченко, К. Еланская, О. Андровская, Б. Петкер, А. Грибов, П. Массальский, Б. Кедров, А. Тарасова, М. Болдуман, М. Прудкин, А. Кторов — неувядаемая старая гвардия МХАТа. Десять лет спустя, на 90-летии Ольги Леонардовны Книппер, которое праздновали в филиале МХАТа и где я был тоже, она сама на сцену не вышла, оставшись в директорской ложе, но зато ее приветствовали первым актом «Трех сестер» Массальский, Грибов, Зуева, Василий Орлов…
Я рассказывал Леонидовым о своих впечатлениях. Дошел и до эпизода, связанного с одним из приветствий. На сцене завели, по чеховской ремарке, волчок, и тогда из ложи вдруг раздалось не тронутое годами контральто Ольги Леонардовны: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…» Леонидов кусал губы, потом, закрыв лицо ладонью, вышел из-за стола. Юлия и я ждали его, не нарушая молчания. Наконец Леонидов вернулся. Разговор продолжался, но прежняя тема себя исчерпала: мой рассказ оказался слишком большой нагрузкой для его нервной системы.
Интерес ко мне, как я понял, был вовсе не платоническим. И тоже был связан с МХАТом. Леонидов нуждался в помощи, на худой конец — просто в совете. Только что в «Новом мире» были опубликованы воспоминания сына Качалова — Вадима Васильевича Шверубовича, где Леонидову крепко досталось. «В Харькове был некто, — писал Шверубович, — кто пышно называл себя импресарио Леонидов. Это был ловкий и предприимчивый делец, театральный жучок, ловко устраивавший гастроли разных знаменитостей». Только две эти фразы, сами по себе, уже вызывали недоверие к автору. «Ловко устраивать гастроли» — это и есть прямая обязанность импресарио, а упоминание своей профессии в любом контексте вообще не может быть ни пышным, ни каким-то иным. Импресарио — такая же профессия, как врач, инженер, летчик, учитель… Мыслимо ли сказать, что кто-то «пышно называл себя» инженером? Или летчиком? Или врачом?
«Театральной жучок»?.. Развязность этой формулы, позаимствованной из лексикона хлестких советских фельетонистов, плохо вязалась с культурой семьи, из которой вышел Вадим Васильевич, да и с ним самим. Я его никогда не встречал, но Олег Ефремов, которому я полностью доверяю, убеждал меня, что В.В. Шверубович — воплощение воспитанности, порядочности и такта. Как же мог он позволить себе так изъясняться, даже если «ловкий делец» чем-то ему насолил?
Леонид Давыдович давно уже пожинал дары обеспеченной старости, абсолютно ни в чем не нуждался, ни от кого не зависел. Жил не в Москве, а в Париже и был бесконечно далек от советских свар. Но в разговоре со мной он едва не плакал. «Если бы меня оскорбили ваши власти, — говорил он, — я не обратил бы на это никакого внимания: официальная ругань меня не задевает. Но как мог это себе позволить человек, чей отец мне стольким обязан? Ведь три года я обеспечивал Качалову и его семье такие условия работы и жизни, о которых можно было только мечтать. Причем — что это были за годы?!»
Никаких подробностей о закулисной стороне тех европейских гастролей я, конечно, не знал и судьей быть не мог. Не могу и сейчас. Но документы видел (их фотокопии остались в моем архиве), и они весьма убедительно говорил и сами за себя.
Видел доверенность, выданную «члену Дирекции Московского Художественного театра Леониду Леонидову» и подписанную лично Станиславским и Немировичем-Данченко, на право заключать от имени театра любые контракты для организации гастролей МХАТа в Европе и Америке. Видел такое же письмо и с теми же полномочиями, предоставленными Леонидову, подписанное В. Качаловым, Н. Литовцевой, О. Книппер-Чеховой, М. Германовой, Н. Массалитиновым, С. Бертенсоном. Что до «жучка», то на стенах леонидовской квартиры висели не только почетные дипломы крупнейших театральных обществ, воздававших должное одному из лучших импресарио мира, но и грамоты о награждении все того же «жучка» орденом Почетного Легиона, орденами Италии, Испании, Англии, Австрии…Так что обиду его вполне было можно понять.
Имя Леонидова встречается в эпистолярном наследии Немировича-Данченко множество раз — разумеется, лишь в самом положительном смысле. И в двадцатые, и в тридцатые годы Немирович только на него и возлагал надежды по реализации своих зарубежных замыслов. Леонидов, а не кто-то другой, организовал грандиозное чествование Станиславского в Берлине в 1928 году. «Леонидов, — писал Немирович С. Бертенсону в 1930 году, — налаживает поездку <театра> по Германии и, может быть, в Лондон. Кажется, выйдет». Что-то сомнительно, чтобы создатели и руководители МХАТа продолжали годы и годы подряд так относиться к «ловкому дельцу» и «жучку».
Причину, по которой интеллигенту и истинно театральному человеку В.В. Шверубовичу понадобился этот дикий пассаж в его мемуарах, понять тоже можно. Советский менталитет и советские страхи никуда не делись. Никакая оттепель существенно повлиять на них не могла. Тем более, что и в сознании, и в подсознании Вадим Васильевич, конечно, всегда держал память о кошмаре, выпавшем на его долю: некоторое время ему пришлось побывать в нацистском плену, что Советами никак не поощрялось.
Со времени смерти Качалова прошло уже двадцать лет, и все равно мысль о том, что он три года был, как ни крути, в эмиграции, сидела занозой в мозгу его сына. Качалову никто никогда это не ставил в вину, но синдром «дезертирства» не мог не поразить Вадима Васильевича, взявшегося вспомнить о том трехлетнем, не санкционированном советским властями, заграничном вояже. Вину следовало списать на какого-нибудь «жучка». До осознания простейшей истины: вины — ни в чем, ничьей, никакой! — не было вообще, должны были пройти еще десятилетия.
Моя попытка убедить Леонидова выкинуть этот инцидент из головы успехом не увенчалась. Довод: здесь, за границей, мемуары Шверубовича вообще никто не прочтет — его не устраивал. «Важно, что я их прочел! — восклицал он. — Вы знаете, что такое доброе имя? Вам знакомы такие понятия, как честь и достоинство, или при большевиках с этим все перестали считаться?»
Лишь Юлия, придавившая своей рукой его дрожавшую руку к столу, вернула Леонидову что-то похожее на спокойствие. Он надписал мне книгу своих мемуаров «Рампа и жизнь» и просил быть в Москве его адвокатом, затеяв против Шверубовича судебный процесс с обвинением в диффамации. Еще того более: он тут же выдал мне поручение на персональном бланке и составил список людей, которые, как ему казалось, согласятся свидетельствовать в его пользу. Среди них были старейшая актриса МХАТа Л.М. Коренева, литературовед А.И. Дейч, театровед Г.К. Крыжицкий. Я сознавал, конечно, всю утопичность этого замысла, но пообещал «навести справки и сообщить о результатах».
Бедный Леонид Давидович не имел, разумеется, представления о том, что судебные дела иностранцев в Советском Союзе вправе были вести только члены так называемой Инюрколлегии, состоявшие на реальной службе совсем в другом ведомстве, и что для советского суда, который гипотетически стал бы рассматривать это дело, объективные доказательства не имели ни малейшей цены: ведь не могло же быть так, чтобы прав оказался презренный эмигрант, а не заслуженный деятель искусств страны победившего социализма. Олег Ефремов, которому я рассказал о встрече с Леонидовым, не вдаваясь в детали, просто посоветовал мне не лезть на рожон. И был, разумеется, прав.
Сообщить об этом Леонидову я не успел. Не дождавшись от меня быстрого ответа, он прислал возмущенное письмо, где не слишком выбирал выражения. «Милостивый государь! Я опрометчиво рассчитывал на Вашу порядочность, предлагая выступить с обличением негодяя Шверубовича. Вы уклонились. Вы не приложили никаких усилий к тому, чтобы порок был наказан, а правда восторжествовала. Теперь я вижу, что в Совдепии все заодно. Надеюсь, в Москве со своими клиентами Вы поступаете не так, как поступили со мной. Если в хлопотах по моему делу Вы понесли какие-либо расходы, я к Вашим услугам».
На мое письмо, где разъяснялась вся ситуация, Леонид Давыдович не ответил. Наша связь оборвалась.
Никаких претензий к нему я не имею: в проклятой Совдепии все нравственные ценности и правовые категории были безжалостно искорежены, и за это приходилось расплачиваться дорогой ценой.
Еще до того, естественно, как наши отношения подошли к столь прискорбному финалу, Леонидов сделал мне подарок: повез в парижский пригород, где жила младшая дочь Шаляпина Дася. Огромный дом стоял где-то в лесу — не то Булонском, не то Венсенском, а может быть, и в каком-то другом. Он был именно непомерно огромен — для его поддержания требовалась большая обслуга, а ее-то и не было, ни большой, ни малой, и поэтому дом пребывал в запустении, а главное — напрочь лишен того, что составляет прелесть любого жилища: уюта. Дасия Федоровна, которой было тогда 46 лет, выглядела чуть старше своего возраста, скорее всего потому, что не слишком заботилась ни о своем лице, ни о фигуре. Ее старшая сестра Ирина, которую я немного знал по Москве, в этом отношении была больше француженкой, чем Дасия. Но та, мне кажется, француженкой быть вообще не хотела. Ни в чем.
Она сразу же предложила выпить — «по-нашему, по-русскому» — и налила водки (себе больше, чем мне), не позаботившись о закуске. Ни малейшей неучтивости в этом не было — так, видимо, пили всегда в этом доме. Ее муж, бессловесный и тишайший граф Шувалов, столь же привычным образом налил еще одну рюмку, тоже не нуждаясь ни в какой закуске. Пока я в несколько приемов осушал свою, супруги Шуваловы повторили сей ритуал еще раза четыре, но никаких признаков опьянения я не заметил. Назвав один раз мужа «мой еврей», Дася явно рассчитывала на просьбу о разъяснении и, получив ее, охотно ответила:
— Когда мне было двенадцать лет, в Германии начались еврейские погромы, дома много с возмущением говорили об этом, и я сказала тогда отцу, что, когда вырасту, выйду замуж непременно за еврея. Оказалось, что эта роль досталась потомственному русскому графу. Так вот и пришлось ему стать моим евреем.
Смеялась над своим рассказом только она сама. Из вежливости — еще и я. Сам Шувалов слышал, видимо, этот рассказ множество раз, поэтому молча и мрачно налил еще одну порцию водки. Леонидов и он тихо переговаривались в дальнем углу захламленной гостиной, не обращая на меня никакого внимания. Пришла красивая, рослая, рано созревшая девочка лет пятнадцати с загадочной улыбкой себе на уме — дочь Даси и «графа-еврея». Ее броская сексапильность выпирала на первый план, заслоняя все остальное: миловидность, спортивность, прелестную отроческую смешливость. По-русски она не знала ни слова. Впрочем, и Дася, свободно владевшая французским, английским, итальянским, испанским, по-русски говорила хуже всего. Довольно странная и печальная участь для любимой дочери величайшего из русских артистов и для его внучки. Если мать еще как-то стеснялась своего косноязычия, то дочь, то есть внучка Шаляпина, русской своей немотой почему-то гордилась. Живя в Париже, она не знала и французского, болтая исключительно на английском. Училась в американской гимназии и полиглотом стать не стремилась. Именно на английском, превратившимся в «эсперанто», общались с ней и родители. Трудно было представить себе, как реагировал бы на это Федор Шаляпин.
Месяц спустя, в Риме, на знаменитой улице Венето, я снова встретился с шаляпинской внучкой — лицом к лицу, оказавшись за соседним столиком в одном из кафе, расположившемся на тротуаре. Скорее всего она гостила у жившей здесь тети и наслаждалась свободой, которую дарит гостям Вечный Город. Я непроизвольно кивнул, получив в ответ отстраненный и равнодушный взгляд. Мы часто встречались глазами, но она смотрела на меня, как на стену. Ее спутником был седеющий поджарый красавчик лет пятидесяти с повадками привычного сластолюбца — ни дать, ни взять голливудский актер, заботливо следящий за своей обольстительной внешностью. Его сахариновая смазливость чем-то задела меня, хотя какое, в сущности, мне было дело до того, как проводят время совершенно мне не знакомые люди?
Девочка и ее спутник тихо болтали, улыбаясь куда-то в пространство и время от времени склоняясь друг к другу в доверительном интиме. Сначала его рука лежала на ее колене поверх юбки, потом оказалась под ней. Ничего необычного в этом не было, но я никак не мог отделаться от мысли, что вижу не просто рано познающего жизнь чужого подростка, а внучку Шаляпина. Словно это каким-то образом превращало меня в ее опекуна…
Дасю я посвятил в подробности одного судебного дела, о котором в общих чертах она уже знала из писем Ирины. Дело это слушалось в городском суде на Каланчевке, еще когда я проходил там студенческую практику. Вел его один из лучших в то время московских судей Кондратов. Скучный — по юридической терминологии — процесс по делу «об установлении факта» в другое, не зажатое, время произвел бы сенсацию, а тогда он прошел совсем незаметно и стал достоянием лишь очень узкого круга.
Только что советская власть круто сменила свое отношение к Шаляпину, превратив его из изгоя в кумира. По случаю десятилетия со дня его смерти были приняты традиционные меры «по увековечиванию памяти» артиста, в том числе учреждены персональные пенсии единственной оставшейся на родине дочери Шаляпина — Ирине и ее матери, первой его жене, Иоле Игнатьевне. И вдруг объявилась женщина, тоже пожелавшая войти в круг шаляпинской семьи, а, стало быть, в перспективе стать обладательницей такой же шаляпинской пенсии: она считала себя внебрачной дочерью Федора Ивановича и добивалась официального признания этого «факта» в судебном порядке.
Юридическая правомерность такого иска весьма сомнительна, еще более сомнительной была возможность его удовлетворения в подконтрольном властям советском суде. Тем не менее истица отважилась на предъявление заведомо провального иска. Особая пикантность состояла в том, что эта истица — Людмила Федоровна Геле — работала секретарем юридической консультации на Пресне и могла получить от юристов самой высокой квалификации надлежащий совет. Мне показалось, что неизбежный исход процесса ей был ясен заранее и она затеяла его не столько ради возможного выигрыша, сколько для того, чтобы просто заявить о себе.
Строго говоря, фактическая ее принадлежность к шаляпинскому потомству вряд ли у кого-нибудь вызывала сомнения. Мать ее, хористка Мариинского театра Вербицкая, оставила дочери как священную реликвию свидетельство о вкладе Шаляпина в так называемый Сиротский суд на сумму в десять тысяч (дореволюционных, конечно) рублей, подлежавших выплате ее дочери Людмиле по достижении ею совершеннолетия. В ту пору это был традиционный способ подтверждения отцовства без официального признания такового. Им пользовались многие состоятельные и совестливые люди, осознававшие свою причастность к появлению внебрачного ребенка на свет. Осуществить свое право Людмила не смогла: ей было не более пяти лет, когда Сиротский суд приказал долго жить, а все его капиталы присвоены большевиками.
В суд истица представила не только документ Сиротского суда и не только свою внешность, слишком очевидно выдававшую ее родство с Шаляпиным, но и свидетельские показания пришедшей в суд дочери известного дореволюционного трагика Мамонта Дальского — Лидии, которая воспроизводила лично слышанные ею слова Шаляпина о том, что Людмила его дочь. Среди других свидетелей — в ту или иную сторону — помню саму Ирину Шаляпину, не пожелавшую, естественно, обзавестись еще одной сестрой, известного артиста МХАТа Николая Боголюбова, заместителя председателя ВТО Зиновия Григорьевича Дальцева. При полной и очевидной бесперспективности процесс был все-таки любопытным — не юридической и даже не фактологической стороной, а скорее психологической.
Людмила Федоровна допустила, по крайней мере, один грубый — именно психологический — промах. Она представила суду как доказательство своей (!) правоты письмо Шаляпина, которым ее снабдил еще в конце тридцатых годов бывший секретарь и друг певца Исай Григорьевич Дворищин, сам тенор-хорист в Мариинке, впоследствии режиссер этого театра, заслуженный артист РСФСР. В письме были (цитирую по памяти, а значит, не текстуально) такие строки: «Исайка, посылаю тебе одно забавное фото. Ты, безусловно, не определишь в этом негритосе никакого сходства со мной. Между тем это мой сын с Антильских островов». Если у Шаляпина, комментировала представленное ею «доказательство» Людмила Федоровна, мог быть сын-негр на затерянных в океане островах, то уж тем более могла быть дочь от хористки своего же театра.
Вот этот довод окончательно вывел из себя невозмутимо ведшего процесс судью.
— Если вы считаете себя дочерью Шаляпина, — вскричал он, — то как вы можете позволить себе так унижать его память?
Практически процесс был на этом закончен, но он еще продолжался, хотя итог уже был предрешен. Людмила Федоровна продолжала долго работать секретарем юридической консультации, и никто ее, иначе как Шаляпиной, не называл. Возможно, хотя бы это служило ей утешением.
На Дасю, так, по крайней мере, мне показалось, мой рассказ никакого впечатления не произвел. Она слушала его, то и дело прикладываясь к бутылке, словно речь шла о какой-то забавной и очень далекой истории, ни малейшего касательства лично к ней не имевшей.
Первое посещение Парижа воистину оставило впечатление нескончаемого праздника. Самым большим пиршеством были театры — тот сезон отличался особым богатством спектаклей и концертов. У Барсака, в «Ателье», я смотрел «Идиота», в театре «Модерн» — «На дне» в постановке Саши Питоева. На Монмартре замечательно инсценировали «Даму с собачкой», в театре «Нувоте», на Больших бульварах, в новой версии шли сатиры Валентина Катаева. Николь Курсель в театре «Жимназ» блистала исполнением главной роли в пьесе ошеломительно модной тогда Франсуазы Саган «Лошадь в обмороке» — после спектакля мы ужинали с ними двумя, и обе не хотели слышать от меня никаких зрительских восторгов, а требовал и рассказа о том, какие поиски идут на московской театральной сцене: они были убеждены, что оттепель все еще продолжается и что «воду, хлынувшую из распахнутых шлюзов», ничто не сможет остановить. Я не возражал — мне самому хотелось в это поверить.
В театре TNP при огромном стечении публики шли концерты Жюльетт Греко и Жоржа Брассенса — впервые на столь солидные подмостки допустили «каких-то там» шансонье. По парку Тюильри под восторженные крики парижан провезли в золоченой карете престарелого Мориса Шевалье: французы давно уже простили классику шансона его сотрудничество с нацистами в годы оккупации. В «Олимпии», сменяя друг друга, пели Жак Брель, Жильбер Беко, Энрико Масиас, стремительно всходившая на небосклон французской эстрады новая звезда — Мирей Матье. Гигантские очереди тянулись к кассам кинотеатров, где начался показ «Доктора Живаго» (я тоже поддался, отстоя в в такой очереди два с половиной часа): песенку Лары напевал и повсюду. Премьера еще одного фильма превратилась в гигантский спектакль, сценой которого стал сам город и все его жители. Фильм Рене Клемана назывался «Горит ли Париж?» и имел совершенно подлинную, документальную, исторически достоверную основу. Он воспроизводил тот судьбоносный военный эпизод, когда по воле безумного фюрера французская столица должна была быть взорвана и подожжена, чтобы не оставить ее в целости и сохранности наступавшим союзникам. Как известно, нацистский комендант Парижа фон Хольтиц отказался исполнить этот варварский приказ — великий город был спасен.
Почти все прототипы героев фильма были еще живы — подлинные участники событий и их исполнители вместе отмечали премьеру торжественной встречей в ресторане на Эйфелевой башне. Премьере предшествовало небывалое шоу, потрясавшее своим грозным размахом. Бывшие офицеры и солдаты бригады генерала Леклерка, освободившей Париж, на танках того времени входили в город и двигались по его проспектам, а в это время пылали — холодным, по счастью, декоративным и все равно приводившим в отчаяние огнем — те самые монументы Парижа, которые Гитлер обрек на уничтожение: Лувр, Нотр-Дам, дворец Инвалидов, Триумфальная Арка, Бурбонский дворец, дворец Правосудия, столичная ратуша, собор Сакре-Кер, памятники архитектуры по обе стороны Сены и мосты через нее… Окрасившие ночное небо отблески зловещих костров, застлавшая город едкая гарь, грохот двух сотен танков — все это превратилось во вселявший ужас спектакль, участниками которого были все, кто вышел на улицы. А в полночь с нижней площадки Эйфелевой башни Ив Монтан пел песни тех, кто не сдался. Песни, помогавшие выжить, звавшие к мужеству и борьбе.
Лил проливной дождь, с Ла-Манша долетал порывистый ветер, но тысячи парижан стояли под открытым небом, обнажив головы, и пели вместе с артистом знаменитый марш партизан, написанный Жозефом Кесселем и Морисом Дрюоном. Тонкие струйки текли по щекам, и никто не мог разобрать, слезы ли это или, может быть, дождь…
Много лет спустя, в начале девяностых, я снова услышал ту же мелодию. На мелодию, впрочем, она была мало похожа: что-то, отдаленно ее напоминавшее, прозвучало из уст моего нового парижского знакомого. Тяжело дыша, он прохрипел несколько тактов, сопровождая свой рассказ о бурном и счастливом июле сорок четвертого, когда был освобожден от нацистов Париж. Рассказчика звали Роже Стефан — за этим псевдонимом скрывался человек, носивший фамилию Ротшильд и имевший самое прямое отношение к знатной семье.
С Роже Стефаном меня познакомил Франсуа Фюре — человек замечательный: один из самых знаменитых и самых уважаемых французских историков и политологов, позже принятый в «бессмертные», но так и не успевший получить свою саблю академика — через несколько дней после избрания он внезапно умер. Фюре опубликовал в еженедельнике «Нувель обсерватер» такую восторженную рецензию на мою книгу о Вышинском, что мне неловко не только ее цитировать, но даже и перечитывать. Потом он разыскал меня по телефону в Москве и попросил принять отправляющегося в Россию своего друга, имя которого мне ничего не говорило. Роже Стефан навестил меня в моей загородной квартире и, ничего не рассказав о себе, предложил участвовать в задуманном им проекте: телевизионной истории русского коммунизма. Из проекта, к сожалению, так ничего и не вышло.
Я принял Стефана за обыкновенного телевизионщика, хотя весь облик его — пожилого французского аристократа, безупречно одетого в самую дорогую «фирму», при ярко-малиновой «бабочке», с сигарой в зубах — должен был бы навести на иные мысли. Тем более, что назавтра с нарочным пришло экстренное приглашение от посла Франции Бертрана Дюфурка прибыть на обед в честь господина Роже Стефана. Официального обеда посла в его резиденции удостаиваются, как правило, первые фигуры из мира политики, науки, культуры. При разных послах в этой резиденции я бывал на обедах в честь бывшего президента Жискар д'Эстена, премьер-министра Балладюра, министра иностранных дел Жюппе, других министров, нобелевских лауреатов, писателей с мировыми именами. И вдруг- какой-то Роже Стефан…
Хотя бы это должно было пробудить интерес: кто же он, этот «какой-то»? Не пробудило — объяснить свое нелюбопытство я не могу. По просьбе Стефана в обеде участвовали Елена Боннер и Олег Волков (его «Погружение во тьму» только что вышло во Франции), который, когда мы встали из-за стола, так отозвался о виновнике торжества: «Чистый человек». Было самое время расспросить чистого человека о нем самом, но тут Елена Георгиевна гневно обрушилась на посла за то, что Запад все еще не признал независимость Хорватии, Дюфурк стал оправдываться — конец обеда был смазан…
Лишь какое-то время спустя, в Париже, я узнал, с кем меня свел Франсуа Фюре. Респектабельный господин с сигарой в зубах, любитель хорошего вина и неторопливого трепа в обществе ему приятных людей, считался одним из самых блистательных французских интеллектуалов второй половины двадцатого века. Восторженный поклонник Эразма и Монтеня, ученик Андре Жида, друг Андре Моруа, автор множества книг — философских эссе, исторических исследований, полемических репортажей, — он имел позади богатую приключениями жизнь.
Еще, в сущности, мальчишкой, в двадцатилетнем возрасте, он имел возможность, спасаясь от немцев, уехать в Америку, но предпочел остаться и сыграл выдающуюся роль в Сопротивлении. Вербовал бойцов, взрывал фашистские эшелоны, спасал арестованных. В сорок четвертом он был тем, кто, не дожидаясь наступающих войск, фактически один, с горсткой друзей, освободил парижскую мэрию и водрузил над ней французский флаг. Его дом был разрушен, и освободитель мэрии с чувством блаженной свободы проводил жаркие июльские ночи на скамейках в Люксембургском саду, был счастлив и не задумывался над будущим. Свое двадцатипятилетие он отмечал в небольшом бистро с Жаном Кокто. Обед был прерван появлением разыскавшего его незнакомого господина. «Куда вы собираетесь отправиться вечером?» — спросил пришедший. «еще об этом не думал», — безмятежно ответил разогретый вином именинник. «Вот вам ключ от вашего апартамента. Вы можете там находиться, сколько вам будет угодно». Это был Шарль Ритц, хозяин отеля, носившего (и носящего) его имя — он передал Роже Стефану ключ от так называемых императорских покоев, только что освобожденных нацистским комендантом Парижа фон Хольтицем.
В небольшой квартире Роже Стефана, на последнем этаже старинного дома, мы встречались потом довольно часто. На террасе, откуда открывался вид на парижские крыши, под спасавшим от солнца зонтом, гигантский Лабрадор клал свою умную голову мне на колени и терпеливо ждал, когда хозяин и гость, закончив свой разговор, обратят внимание и на него. Ждать приходилось долго, потому что Стефан был жаден до содержательных, неторопливых бесед — его интересовала механика Большого Террора, а больше всего загадка загадок: покорность жертв, обрекавших себя на неизбежную и позорную казнь.
— Непостижимо, — сокрушался он, — почему не нашлось ни одного человека, который захотел бы убить Сталина. Ведь это было возможно тысячу раз. Одну пулю ему, другую себе, раз уж все равно смерть неизбежна. Неужели никто, ни один человек, не понял этого и не сделал хотя бы попытки? Непостижимо!
Я тоже задавал себе этот вопрос множество раз, но ответа не имел и не имею. Сталин ждал покушения, об этом свидетельствует несметное число лживых обвинений в подготовке теракта, но почему среди них не нашлось ни одного достоверного? Такому камикадзе сегодня было бы можно поставить памятник, а ставить-то, увы, некому.
Роже Стефан относил этот вопрос к числу «темных», он мечтал написать о нем книгу, рассчитывал на мою помощь. Темной считал и историю французского Сопротивления, что повергло меня в недоумение, а Стефан знал нечто такое, о чем я не имел никакого представления. Если я правильно его понял, среди признанных «резистанов» имелось немало коллаборантов, зато истинные «резистаны» — десятки и сотни — были оттеснены, забыты и (самое странное!) чем-то настолько запуганы, что предпочитали молчать. Никто из них не «качал права»…
Прямой иллюстрацией к этой тайне явился факт, которому я до сих пор не нахожу объяснения. В начале шестидесятых годов Роже Стефан разыскал несколько десятков наиболее активных — подлинных, а не мнимых — участников Сопротивления, о делах которых никто не имел ни малейшего представления, и записал их рассказы на пленку. Материалы были показаны де Голлю: он смотрел их на домашнем экране четыре часа. Не только одобрил журналистскую акцию Роже Стефана, но и возвел его в ранг Командора Почетного Легиона (Офицером тот уже был). После чего все пленки были укрыты в потайном архиве самого автора и до телезрителя, равно как и до читателя, не дошли.
Стефан об этом мне не рассказывал, но отзвуком тайны являются два его признания, услышанные мною за кофе — после того, как мы отобедали на террасе. Глубинный смысл этих признаний дошел до меня лишь после того, как открылось то, о чем рассказано выше.
Первое:
— Среди тех, кто сейчас пожинает лавры героев Сопротивления, много таких, которые выдавали и казнили истинных героев.
И второе:
— Сотрудничавших с оккупантами, а тем более тех, кто им симпатизировал, было много больше, чем тех, кто сопротивлялся. Примерно десять к одному. Но сказать это вслух невозможно. Объявят клеветником и затравят как врага нации.
Подтверждение первому пришло через несколько лет, когда был разоблачен «герой Сопротивления» Морис Папон, дослужившийся до поста начальника французской полиции, а потом и до министра внутренних дел, но оказавшийся высокого уровня коллаборантом, на счету которого десятки загубленных жизней. Второму — почти тогда же: обнажились потайные связи множества уважаемых стариков с нацистскими оккупантами в годы войны, а попытки разоблачения встречались в штыки французскими «патриотами», обвинявшими разоблачителей в «покушении на национальные святыни».
Обрывочный, полный мне не понятных намеков, рассказ Стефана сопровождался его попыткой промычать (прохрипеть!) «Марш партизан». тогда мне это казалось смешным, теперь кажется даже и не печальным — трагичным.
1 декабря 1994 года Роже Стефан пришел к своему другу, журналисту Даниэлю Рондо, — передал пленку и кассеты с теми записями, которые он хранил в тайнике тридцать лет. Совсем буднично, словно речь шла о ничем не примечательном пустяке, он сказал, что его рак вступил в финальную стадию, что спасения нет и что он решил не дожидаться конца. «Это случится завтра, — предупредил он — Дигитал и револьвер. И конец». Просил не дискутировать, а выпить с ним на прощанье бутылку шампанского.
Назавтра его не стало. «Смерть римского патриция», — отозвалась на его уход одна из газет.
Фильм-репортаж Роже Стефана, показанный Даниэлем Рондо, шел три вечера подряд по одному из самых смотрибельных, третьему каналу телевидения. Пресса предварила показ анонсом: «Не пропустить ни под каким предлогом!» И, действительно, его смотрела вся Франция. Но отзвука не было никакого. Будь Роже Стефан жив, его, наверно, объявили бы клеветником, но из уважения к трагической гибели предпочли просто замолчать. Фильм показали? Ну, и прекрасно: каждый день что-то показывают. Не реагировать же на каждый!
«Я обнимаю вас всех!» — написал Стефан в своей предсмертной записке, не указав, кому адресован его прощальный привет. Так что я могу отнести его и к себе. Вспоминая о благороднейшем и мужественном Роже Стефане, я думаю, что своей жизнью он дал наглядный урок: не отступать перед ложью, не бояться хулителей и делать то, что считаешь нужным. Ни единой долькой не отступаться от лица…
Глава 15.
Веселые бараки
В течение года на страницах газеты публиковалось от силы десять моих судебных очерков. Иногда девять и даже восемь. Но, судя по отзвукам, казалось, будто они появляются чуть ли не в каждом номере. И они могли бы появляться чуть ли не в каждом. Сюжетов хватало с избытком, а за каждым стояла тема, острота которой была заведомо очевидна. Подготовка любого очерка требовала огромной и длительной работы, так что на еще большую интенсивность меня не хватало. К тому же тяга к познанию жизни в самых разных ее вариантах, жажда новых впечатлений, заманчивые предложения, которые шли со всех сторон (приехать, встретиться, выступить, принять участие), да плюс к этому семья, вынуждавшая жить не на два даже дома, а на две страны, — все это не давало возможности увеличить объем моей очерковой продукции.
За пределами читательской видимости оставалась другая работа. Авторы писем в редакцию, а их были сотни и тысячи, просили вмешаться в «конфликтные ситуации», возникавшие тогда у советских граждан на каждом шагу. Они стучались в разные двери, надеясь быть услышанными и понятыми, — и не могли достучаться. Хорошо отработанная бюрократическая машина научилась создавать проблемы на ровном месте, а потом — стервозно отбиваться от тех, кто оказался их жертвами. Отчаяние людей, страдавших от несправедливости и пытавшихся вырваться из тисков Системы, — такой была главная тема всех писем, которые шли в газету.
Мы очень старались не поступать «по-советски», то есть не пересылать письма-стоны в казенные инстанции, где штамповались бездушные ответы, а сами письма выбрасывались в корзину. И даже не ограничиваться вежливыми отписками с признанием своей некомпетентности для решения поставленных вопросов. Журналисты газеты и ее внештатные помощники колесили по стране, почти наверняка зная, что эти поездки не приведут к появлению очерков и статей, но зато, быть может, помогут решить на месте то, что без их вмешательства никак не решалось.
Иногда — в меру сил и времени, которым располагал, — в эти, заведомо не сулившие (или почти не сулившие) прямой газетной отдачи, поездки отправлялся и я. Выбор (почему в поле зрения попало это, а не другое письмо) был, конечно, не столько случаен, сколько субъективен: вот в этом, казалось, «что-то есть», а в том «чего-то нет»… Но другого способа селекции я не знал. Каждое утро почта приносила мешки с корреспонденцией, и за каждым письмом стояла судьба. Непременно драматическая: о счастливых судьбах, о нормальной, человеческой жизни никто в редакцию не писал. Да и были ли они вообще — счастливые судьбы, нормальная жизнь?
Одно письмо поразило своей особой абсурдностью. Но именно эта абсурдность и делала его типичным. В том смысле типичным, что отражала маразм сгнивающей на корню, дошедшей до полного отупения власти. На фоне трагедий, о которых повествовали десятки других писем, сюжет письма, которое меня заинтересовало, выглядел почти пародийным. Во всяком случае — едва ли не пустяковым. Но именно это — «много шума из ничего» — и побудило откликнуться: хотелось понять, какая сила заставляет облеченных властью людей садистски ломать другим людям жизнь без малейшей вины с их стороны.
Супружеская пара из Свердловска — оба инженеры, оба сотрудники одного и того же конструкторского бюро — за свою «производственную и общественную деятельность» получили царский подарок: бесплатную туристскую поездку на девять дней в братскую Венгрию. Среди многих прочих талантов у жены был еще и такой: она хорошо пела и даже — в самом начале супружества и до него — подрабатывала время от времени песенками под оркестрик в одном из городских ресторанов. По субботам и воскресеньям… Вот этот талант жестоко ее и подвел.
В Будапеште тоже есть рестораны — их там больше, чем в Свердловске. Даже сейчас… И в некоторых тоже играют оркестры. И тоже поют. В одном из таких у группы был ужин. А в группе — все земляки: многие знали, как славно поет на досуге одна из туристок. Они-то ее и подначили: спой! Покажи братьям-венграм, как поют у нас на Руси. Она и спела: настроение замечательное, ресторан — не чета нашим, музыка — заводная, да и в чем еще выразить радость, если не в песне?.. Из богатого репертуара выбрала два старинных русских романса: «Отвори потихоньку калитку» и «Мой костер в тумане светит». И на бис — всемирно известные «Подмосковные вечера», спеть которые ей помогали не только наши туристы, но и кто-то еще — посетители ресторана.
Успех был такой, что метрдотель, или собственник заведения, или директор — не все ли равно? — пригласил ее снова назавтра: спеть уже не экспромтом, а с предварительной репетицией. И не три песни, а десять. И получить за это небольшой гонорар. Она согласилась, благо этот воскресный вечер по программе считался свободным. Да и льстило, конечно: такое признание ее вокала, притом за границей! Спела с огромным успехом. Получила за это какие-то деньги. Не помню точно, какие, но смогла на них купить брючный костюм. И какие-то вещицы для дочери. Что последовало за этим, догадаться нетрудно.
Как минимум один человек в группе исполнял роль стукача. Вероятней всего, нашлись еще доброхоты. Те, кто проявил свою бдительность не подолгу «общественной» службы, а по зову души. Хотя бы из зависти. К тому же наша певица вообще ничего не скрывала. Человек с не сдвинутыми, нормально устроенными мозгами, она не понимала, чего и зачем ей скрывать? Она же пела! Русские и советские песни. Пела вполне искренне. И хорошо. Заработала деньги честным трудом. Снискала аплодисменты. Она и дома поет — то же и так же… Открыто, публично… Что тут порочного? Стыдного? Непристойного?
Наши власти к этому относились иначе. На партийном лексиконе ее пение в венгерском ресторане называлось «поведением, порочащим звание советского туриста». На языке юридическом — «незаконным приобретением иностранной валюты». Советские туристы, как оказалось, «направляются за границу, чтобы пропагандировать наш образ жизни и передовую мораль, а не для пения в кабаках, где нередко присутствуют и граждане из капиталистических стран, у которых создается таким образом искаженное представление о советских людях». Так объяснял трудовому коллективу секретарь райкома «меры», принятые против певицы. Мало того, что она и муж за здорово живешь стали невыездными. Последствия оказались куда более тяжкими: ее — уволили, его — понизили в должности.
Я приехал, когда следствие по дутому, даже для тогдашних советских условий почти невероятному делу уже приближалось к концу. Строго говоря, такой исключительной акции, как приезд из Москвы спецкора, ситуация не заслуживала. Помочь жертве
тупого партийного ханжества в этом конкретном случае можно было, наверно, и не покидая редакции. Но очень уж мне хотелось поговорить с теми, кто ни за что ни про что сломал две человеческих жизни. У всех на глазах. Сломал, с наслаждением внимая хрусту костей беззащитных людей, — тех самых простых советских тружеников, о счастье которых всегда так пеклись наша партия и наше родимое государство.
«За что вы их погубили?» — хотелось спросить мне местных садистов. Я и спросил — честно и напрямик: за что? Люди заслужили право на радость — вы сами это признали, одарив их путевкой. Они получали удовольствие — ведь за ним и поехали. Они проявили свои способности, сделав приятное тем, кто тоже имеет право на радость. Так за что же, черт побери, вы им так подло мстите?
Вот такие вопросы, не столь, правда, жестко и резко, задавал я в райкоме, горкоме, прокуратуре. На меня смотрели, как на безумца. Или — на самозванца. Парттетя, отвечавшая в райкоме за непорочную чистоту идеологии, вонзив в меня свой волоокий взгляд, так прямо и сказала:
— Неужели это вы пишете те статьи, которые публикует наша советская печать? Или их пишет кто-то другой, а вы себя выдаете за автора? Я имею основания так ставить вопрос, поскольку то, что вы мне сказали, советский журналист произнести не может. Про какую месть вы говорите? Советская женщина, инженер, окончившая советский вуз, член советской туристической группы, на глазах у мужа, тоже советского инженера, влезает на сцену какого-то, извините меня, бардака и поет!.. А муж ей потакает. И это вы называете — получать удовольствие? И доставлять его другим? От стриптизов тоже кто-то, возможно, получает свое удовольствие, так что же, мы должны сквозь пальцы смотреть, если посланные нами за границу советские женщины начнут при всех раздеваться? А дело-то шло и к этому. Мы проверили: у того будапештского бардака очень дурная репутация. Сигнал, кому следует, уже направлен: в этот вертеп советских туристов больше водить не будут.
Я ни разу ее не прервал, лишь загибал пальцы, подсчитывая, сколько раз употребит она заветное словечко «советский»: заводясь, парттетя теряла контроль над собой, наслаждаясь музыкой своей вдохновенной речи. Когда она умолкала, я подбрасывал немножко поленцев в огонь, провоцируя ее на стриптиз: не телесный — идейный.
— Но ведь на отдыхе люди всегда ведут себя более раскованно, чем в привычных рабочих условиях. Отпуск он и есть отпуск.
Если б вы видели, как она сразу взвилась!
— Какой отдых?! Какой отпуск?! О какой раскованности вы говорите?! У меня теперь даже язык не повернется назвать вас советским словом «товарищ»… Поездка за границу, чтобы вы знали, это ответственное и почетное поручение партии. Не раскованность нужна за рубежом советским людям, а большевистская бдительность. Обязанность высоко нести знамя советского патриотизма, всегда помнить, какую важную, какую ответственную миссию им доверили. У советских собственная гордость! Вы помните, кто это сказал? В том-то и дело, что помните плохо. А вот мы помним всегда!
Пока она вещала — этот уральский Геббельс в широкополой юбке, — я мучительно пытался представить ее женой, матерью, домашней хозяйкой. Вообще — вне работы. Наедине, к примеру, с мужчиной. Способна ли она на проявление каких-либо «естественных» женских чувств? На то, чтобы, опять же к примеру, ласкать любимого? Пусть даже еще скромнее: вообще кого-то любить? Хоть раз почувствовать себя в полной мере раскованной? Не связанной, как цепями, пресловутым «советским патриотизмом»?
Вспомнилась Лара. Не пастернаковская — «моя». Та, тоже с Урала, но из глубинки… Лара, которая произнесла навсегда оставшиеся в моей памяти, такие простые и страшные по сути слова: «Мне тоже хочется быть женщиной. Но я не имею на это права». Может быть, месть той, которая считала, что такое право имеет, была не более чем сублимацией недоступного? Тоской по запретному плоду? Но кто же ее заставлял, эту советскую патриотку, сделать тот плод для себя запретным? Партийные догмы и жажда карьеры вынуждали выбирать что-то одно: или служебную лестницу, или раскованность чувств.
Впрочем, в своем, узком, закрытом для всех посторонних кругу особой сдержанностью мало кто из них отличался: о распутстве и пьянках партийных и особенно комсомольских бонз слагали легенды. Очень близкие к истине, кстати сказать. Кто знает — возможно, моя собеседница была еще как горазда на эту сладкую жизнь? Сладкую — по-советски. И топтала за то же других, отвлекая от себя подозрения. Готовила спасательный якорь — на случай, если придется держать ответ перед теми, кто с такой же упоительной страстью пришьет когда-нибудь нечто подобное ей же самой…
В Свердловске меня осмеяли и отчитали: я вернулся в Москву ни с чем. И однако же через несколько дней явилась первая ласточка: уголовное дело против певицы прекратили «за отсутствием состава преступления». Виновница торжества известила меня об этом телеграммой с пометкой «срочная». Съездил, выходит, не зря.
От предложенного мною очерка по результатам поездки в редакции отказались, да я особо и не настаивал: публикация неизбежно должна была сопровождаться такими постыдными оговорками, что лучше уж не соваться! Но история на том не закончилась. Перетрусившие партаппаратчики областного масштаба упредили удар, который к тому же я и не собирался им нанести. А возможно, просто решили проучить слишком уж возомнившего о себе журналиста.
Из ЦК и из «Правды» переслали в «ЛГ» письмо, отправленное сразу в два адреса: «группа сотрудников» — коллеги! — того же КБ просили партийные органы хорошенько проверить, ради чего «известный моралист» такой-то, который «учит всю страну, как надо жить, заявился в Свердловск» и бросился на защиту «разложившейся, утратившей облик советского инженера мещанки».
Хотя это прямо и не утверждалось, но из письма с очевидностью вытекало, что побудительным мотивом могло служить только одно: те самые форинты, которые певица получила в будапештском кабаке и которыми, как видно, поделилась со мной. Невидимая глазу, жалкая сэвовская «валюта» разрасталась в воспаленных мозгах разоблачителей до размеров космических — таких, что на нее было можно купить не только московского журналиста, но и местного прокурора.
В редакции такие штучки не проходили: мои начальники, читая письмо, вместе со мной всласть посмеялись, а в ответах высоким товарищам бред так и назвали бредом. Зато свердловский прокурор, наоборот, труханул и возбудил против певицы новое дело. Поскольку в реальности никакой валюты — не только для подкупа, но и просто для жизни — у нее не было, а зарплата семьи сократилась почти втрое, вещи, привезенные из Венгрии, пришлось продать. Появился отличный повод привлечь вокалистку за спекуляцию. Что и было мастерски сделано: «скупка с целью перепродажи». О чем все та же парттетя спешно сообщила в инстанции: этот сигнал — по замыслу — теперь-то уж должен был стереть меня в порошок. Однако же, как и первый, он был воспринят вполне иронически не только в редакции, но и в столичных верхах: слишком уж комичной гляделась с их высоты эта паучья возня.
Прекращение и второго дела (не в Свердловске — в Москве: вмешалась прокуратура республики) было вершиной того успеха, которого я добился. Восстановить затравленной, на лету подстреленной женщине доброе имя я не сумел. Вернуть на работу — кстати, любимую — не сумел тоже. Больше года ушли «в никуда». Зарубка на сердце осталась.
Финальную точку поставило письмо, которое я получил через двадцать один год — в конце девяносто пятого. Опускаю первую его половину — с восторгами и благодарностями. Сразу перехожу ко второй.
«…Жизнь в России теперь стала совершенно другой, но то прошлое, которое Вам хорошо известно, мы забыть никогда не сможем. Особенно предательство своих же ребят. Мы им не сделали ничего плохого, относились всегда сердечно. Кому могли — помогали.
Взамен получили мордой об стол…
Вот дождались, когда откроются двери, и уехали навсегда, чтобы то старое даже не вспоминать. Дома нам все время внушали, что мы негодяи, преступники. Очень о себе возомнили, зазнались. А здесь мы кто? Уважаемые люди, хорошие специалисты, мастера на все руки.
…Работаем, сколько положено, получаем зарплату, никто не лезет в нашу личную жизнь. Хочу — пою, хочу — танцую. Где и когда, это мое дело, оно никого не касается. Оле <дочери> уже двадцать четыре, она никогда не узнает таких измывательств над человеком.
…Напишите, пожалуйста, только честно: в этой травле виновата только советская власть? Или люди у нас вообще такие, особенно наши, уральские: что самим плохо, это не так важно, лишь бы другим было еще хуже. А если лучше, так чтобы сразу же утопить. Почему это так? Мы сами искали ответа, но не нашли, и решили лучше убраться, пока не поздно…. Шура и Саша. 21 октября 1995 года. Город Мельбурн. Австралия».
Надеюсь, у вас все хорошо, Шура и Саша. И, конечно, у Оли: я помню — ей было три года, и она никак не могла понять, почему ее мама все время плачет.
Почти каждый советский человек, кроме, может быть, высших партаппаратчиков, дипломатов и кагебешников, прежде чем получить доступ в настоящую заграницу — ту, которая загнивала и все никак не может загнить, — должен был пройти через ненастоящую. Сначала она, эта ненастоящая, звалась странами народной демократии, потом ее переименовали в социалистические страны или, не слыша, как двусмысленно это звучит, в страны социалистического лагеря. Их посещение было, с одной стороны, проверкой на вшивость (соблюдал ли все предписания, достойно ли нес звание советского патриота), с другой, служило как бы амортизатором неизбежного шока от попадания в буржуазный ад.
Расчет этот был вполне справедлив. Оказавшись в любой из стран того самого лагеря, советский человек, особенно из глубинки, реально ощущал пропасть, отделявшую «нас» от «них». Он видел страны и города с другой историей, другой культурой, другим стилем жизни и другим характером отношений между людьми. И делал выводы — не в нашу пользу.
Политический строй не оказывал влияния на видимые стороны жизни. Видимые — тому, кто приехал не с Запада, а с Востока. Кроме богатого (по нашим, конечно, критериям) магазинного ассортимента, особенно впечатляли та самая раскованность, о которой я вел никчемный диалог с партийной чиновницей, совсем другое выражение лиц и вкус к жизни — для наших туристов он зримо воплощался в десятках ресторанчиков и кафе, всегда переполненных и разительно не похожих ни интерьером, ни атмосферой на то, что носило те же названия у нас. Так что эйфорию, охватившую чету свердловских инженеров при посещении будапештского кабачка, я хорошо понимаю.
Не помню, в каком именно ресторане разыгралась эта фарсовая, при нормальном подходе к ней, история. Фарсовая, но, увы, очень печальная для тех, кто позволил себе на краткий миг освободиться от внутренней скованности и кандальных цепей, которыми у нас было опутано все. «Нельзя» — это слово сопровождало жизнь несколько поколений наших людей. Мне тоже были всегда по душе эти уютные кабачки, особенно в Буде, иногда занимавшие несколько комнат бывшей чьей-то квартиры, превращенной в уютный салон для совсем не богатых людей: там можно было провести вечер в общении с друзьями под неназойливую музыку цыганского оркестра. Скрипач подходил то к одному столику, то к другому, своим появлением и своей музыкой приглашая откликнуться на нее так, как хочет душа. Иногда из дальнего зальчика вдруг доносился чей-нибудь голос: это посетитель — один или в «хоре» — подпевал скрипачу. Только в стране победившего социализма плебейские мозги узколобых догматиков могли усмотреть криминал в таком естественном поведении человека, никому не мешавшего, никакие устои не подрывавшего.
Модного ныне словечка «менталитет» тогда в ходу еще не было, но огромную разницу этого самого менталитета — всего народа и каждого гражданина в отдельности, — ощутить было не трудно. Опять-таки — между «нами» и «ими», не по своей воле попавшими в общий лагерь.
Принципиальное отличие состояло в чувстве собственного достоинства: «Я — советский человек» и «Я — человек» — эти две формулы отличались друг от друга не только наличием или отсутствием в них одного прилагательного. Они отличались тотально, непримиримо. «Я — человек» означало самодостаточность, лишенную всякой политической и идейной окраски. С добавлением «советский» человеческое достоинство утрачивалось, его место занимала усиленно насаждавшаяся имперско-партийная спесь. Ее носителем принуждали быть каждого, заявившегося из Страны Советов поглазеть на «друзей» и «братьев», — так стоит ли удивляться, что, ставшая уже генетической, ненависть порабощенных к имперско-коммунистической спеси распространялась на каждого, кто доставал из широких штанин свою краснокожую паспортину?
Ненависть чаще всего проявлялась в насмешках. Над советскими смеялись, их сделали героями сотен хлестких анекдотов — это было обидно. Объекты насмешек чаще всего не были виноваты в том, что дома из нормальных людей лепили манекены и муляжи, превращая их в обезличенных «представителей советского образа жизни». Правда, слишком уж легко и безропотно «представители» поддавались лепке, принимая как должное те правила поведения, которые им навязали.
Гигантскую разницу между страной-гегемоном и ее восточноевропейскими вассалами я по-настоящему ощутил в Польше, куда впервые попал в сентябре шестьдесят четвертого года. Остался далеко позади вдохнувший было в поляков надежды октябрь пятьдесят шестого, но, вырванный из тюрьмы и возвращенный на пьедестал как светоч свободы, Владислав Гомулка тогда еще не скурвился окончательно, еще не обнажил свое истинное лицо советского холуя и Лубянского агента, каковым он всегда был. Цензурный хомут сжимался все туже, тайная полиция проникала во все сферы жизни — от этого внутреннее сопротивление становилось лишь интенсивней и глубже, а язвительный польский сарказм — все алее и злее: в нем находил спасение рвавшийся наружу несломленный, вольнолюбивый дух.
У меня тогда не было в Польше никаких личных связей — я вез с собой только два письма от общих московских друзей: одно — к искусствоведу Анджею Флюковскому, другое — к киноведу Юреку Пельтцу, он возглавлял популярный киножурнал, нечто сродни «Советскому экрану». Этих двух писем было достаточно, чтобы я уже через день — не больше — включился в нормальную столичную жизнь и ощутил себя старожилом. Истинным варшавянином. Пропуском в интеллектуальное, яркое общество, объединявшее людей творческого труда, служили, конечно, не письма, а неприятие все той же советской спеси, способность воспринимать отнюдь не безобидные шутки и адекватно на них реагировать.
Мы поразительно легко понимали друг друга. Забыв о том, что и в этом прелестном кругу полно стукачей, я впервые за всю свою жизнь ощутил сладость внутренней, не кастрированной запретами и страхом, свободы. Не надо было ничего камуфлировать, осторожничать, напрягаться, выбирать слова для выражения своих мыслей. Быть собою самим было не только можно, но главное — нужно: только при этом условии тебя принимали в свой круг.
Новые друзья поселили нас с Капкой в закрытом для посторонних, очень дешевом и вполне комфортабельном Офицерском отеле на Мазовецкой улице. То есть в самом центре. Вечером Юрек зашел за нами, чтобы вести на ужин. Зашел не один: лицо его приятеля, скрытое темными очками огромных размеров, даже в таком виде показалось знакомым. Тайна раскрылась уже через минуту: опознавшая «незнакомца» молодая администраторша с восторженным криком «пан Збышек» выскочила из своей дежурки и кинулась ему на шею.
Это был Збигнев Цибульский, кумир не только поляков, уже прославившийся в фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Его популярность в стране можно сравнить разве что с той, какую имел у нас Андрей Миронов, если помножить ее на популярность Александра Абдулова и дополнить Олегом Янковским. Или Михаилом Боярским. И то, наверно, она оказалась бы чуточку большей. Такую же обрел позже лишь Станислав Ольбрыхский, заменивший Вайде незабвенного Збышека, который трагически погиб под колесами поезда три года спустя.
Весь путь, что проделали мы пешком до Аллей Уяздовских, возле площади Трех Крестов, где и сейчас еще помещается знаменитый СПАТИФ — клуб-ресторан Дома актера, — весь он превратился в дорогу славы артиста Цибульского. Каждые десять метров его кто-нибудь останавливал, чтобы приложиться к руке или щеке, взять автограф, сделать снимок на память, задать вопрос. Ни темные очки, закрывавшие половину лица, ни поднятый воротник куртки, ни шляпа, надвинутая на лоб, не избавляли его от немедленной узнаваемости. Короткий путь занял не меньше часа.
СПАТИФ, где я с наслаждением предавался в тот вечер и потом еще много раз традиционной русской еде, почему-то имевшей иной вкус, чем дома, — борщу и котлетам с гречневой кашей, — был создан в общем-то совсем не для чревоугодия. Люди искусства встречались здесь за «выборовой», делились впечатлениями, сообщали дежурные новости, читали вслух новые стихи, но главное — острили, острили, острили… Шутки были спасением от натыканных повсюду ушей спецслужб: их презирали, над ними смеялись, не думая о последствиях. Точнее — не желая о них думать.
— Вам не достанется за то, что вы с нами общаетесь? — без всякой подначки, с не свойственной спатифским аборигенам серьезностью спросил меня известный романист Станислав Дыгат, массивный и хмурый. Массивность не мешала ему быть очень подвижным, а хмурость была не больше, чем маской: за ней скрывался неутомимый остряк.
— Достанется, пан Стас, — небрежно и лихо отвечал я ему чувствуя, как Польша выдавливает из меня понемногу советского раба, уже смирившегося, казалось бы, с неизбежным.
Дыгат рассказывал, как был очарован Ильей Глазуновым, побывавшим в Польше года два или три назад. И не только он был очарован, но и многие «спатифовцы», которые видели в Глазунове так не сопрягавшиеся с «советскостью» раскованность и внутреннюю свободу. Потом добавил:
— И все-таки странный человек. Загадочный. Все время не в фокусе: образ расплывается, размывается. Он-то сам, похоже, свободен, да вот с ним свободным себя почему-то не чувствуешь. Со мной такое происходит впервые.
Я пошел по рукам: менялись столы, менялись дома, куда меня звали, но ни в одном я ни разу не ощущал себя чужаком. Дома были разные, общим в них было одно: дух вольнолюбия. И еще — натуральности, исключавшей имитацию чувств. Нервный и язвительный, сухой и высокий Ежи Анджеевский, автор «Пепла и алмаза» (романа, по которому сделан великий фильм), не походил на медлительного, утомленного, флегматичного Антонина Слонимского, который и был патриархом, и вел себя, как патриарх. Неистощимый на шутки Марек Хласко был резким контрастом саркастичному, злому Мечиславу Яструну. Каждый был отмечен печатью яркой индивидуальности, и однако же все они гляделись как нечто цельное и очень значительное.
Славомир Мрожек самолично повел нас в театр «Вспулчесны» на свои спектакли «Забава» и «Очаровательная ночь», а несравненная Агнешка Осецка, для которой одно лишь имя «Булат» звучало как пароль, — в театр «Атенеум», где с полным аншлагом уже Бог весть сколько раз показывали ее эстрадно-сатирическое шоу «Лишь бы только яблони расцвели». В один из вечеров итальянский журналист, постоянно работавший в Варшаве, зазвал нас в СПАТИФе за свой стол, где он ужинал в обществе двух очаровательных полячек, чьи лица показались знакомыми. Еще бы!.. Это были очень популярные в те годы (и у нас, кстати сказать) кинозвезда Барбара Крафтувна и певица Эва Демарчик. Никакого желания вести пустую, светскую беседу я у них не заметил: больше трех часов мы обсуждали перспективы коммунизма в Восточной и Западной Европе!.. Наши тогдашние политологи могли бы позавидовать компетентным суждениям польских актрис.
В них не было следов холопства — эти слова Пастернака, сказанные совсем по другому поводу и имевшие совсем другой адрес, казались мне вполне подходящими, чтобы определить самым общим образом состояние людей, создававших художественные ценности в этой несвободной, и все-таки свободной, стране. Они были настоящими польскими патриотами, но никогда, никак и ничем не декларировали свой патриотизм: он был для них органичен, он не нуждался в том, чтобы это кому-то доказывать, он растворялся в их творчестве, присутствуя там в каждом слове, в каждом пробеле между словами. Если бы кто-то из них вдруг заявил: «Я — патриот», его освистали и осмеяли бы те, кто имел право и основание так себя называть.
Патриотами, как известно, разрешалось быть только советским товарищам. Поляки (венгры, чехи, румыны…) при наличии тех же чувств объявлялись Москвой и руководством вассальных стран не патриотами, а националистами. И то верно: патриотизм поверженных враждебен патриотизму повергнувших. Оккупант не признает за оккупированным право на любовь к своей земле, к своей истории, к своей культуре. Он видит в этой любви угрозу себе самому. Все мои собеседники (многих из них я имел дерзость считать друзьями) лучше ли, хуже ли говорили по-русски, восхищались русской культурой, высоко ценили своих московских и ленинградских приятелей: писателей, музыкантов, артистов, художников. Но допускали при этом лишь одну форму общения с ними: как равных с равными. И никак иначе. Панибратства, снисхождения, покровительства, указующего перста они не выносили. Наверно, поэтому мне было так легко с ними, а им — со мной: у нас не было никаких расхождений.
Один вечер я провел со Збигневом Ленгреном — остроумнейшим польским карикатуристом, тончайшим сатириком, высмеивавшим тупость, надутость, чванство, но больше всего и злее всего — конформизм.
— Почему мои русские коллеги, — удивлялся он, — так плакатно, так примитивно иллюстрируют кремлевские лозунги? Ведь даже грубый и плоский социальный заказ, — кажется, так называют у вас услужливость художника, — можно исполнить не столь топорно. Неужели они не понимают, что, нарисовав капиталиста с огромным пузом, отвислыми щеками и кривым носом, они не вызывают к нему у зрителя ни малейшего отвращения? Скорее, наоборот.
Как мне было ему объяснить, что советских партаппаратчиков истинный результат пропаганды никогда не интересовал? Важно было вызвать одобрение у заказчика. А что подумает зритель — разве это имело хоть какое-нибудь значение? Много позже классический принцип агитпроповского наплевизма блестяще сформулировал в одном из своих устных экспромтов зам главного «ЛГ» Артур Сергеевич Тертерян. Тираж газеты выходил (и выходит) по средам (тогда он составлял несколько миллионов), а во вторник несколько сигнальных экземпляров рассылали в «инстанции»: партийно-лубянским боссам. «Мне важно, — лукаво ухмыляясь, сказал мне Тер, — что скажут о газете во вторник. А что скажут в среду, это важно другим». Вот на таком принципе — «что скажут во вторник?» — строилась вся советская пропаганда. Главное — откликнуться, отчитаться, отметиться, а каков будет реальный эффект, это никого не интересовало.
Я назвал Польшу несвободной и все же свободной. Это не парадокс. Такою она и была. И другие страны «соцлагеря» — тоже такими. Иногда — более, иногда — менее, но такими. Все познается в сравнении — это общеизвестно. Для вольнолюбивых поляков социалистическая Польша была тюрьмой, мне она казалась царством свободы. Какой-то молчаливый договор между властями и творцами существовал, иначе национальная культура стран-сателлитов просто могла бы погибнуть.
Ежи Анджеевский, Мечислав Яструн, Виктор Ворошильский, еще несколько их товарищей, потрясенных расправой советских танков с венгерскими повстанцами, бросили свои партбилеты, но из страны их никто не изгнал, в тюрьму не заточил, куска хлеба не лишил. Им не давали печататься, отлучили от радио и телевидения, но они делали фильмы, писали и ставили пьесы, свободно ездили за границу и возвращались домой. Их подвергали гонениям, но все же совсем не сравнимым с теми, которые выпали на долю их советских коллег, позволявших себе — по существовавшей тогда шкале прегрешений — куда менее опасные шалости.
Нечто похожее было и в еще более мне близкой Болгарии: кинодраматурга Христо Ганева, историка искусств Гочо Гочева, сатириков Радоя Ралина и Марко Ганчева исключили из партии за отказ осудить Солженицына, но все они имели работу, им давали заказы, Христо делал документальные и рекламные фильмы, никто не лишил их заграничных паспортов, им даже меняли по льготному курсу левы на доллары, чтобы не слишком жались во время своих поездок. Они остались членами Союза писателей и пользовались его благами. Дискриминация, которую они испытали, не имеет, конечно, никаких оправданий. Она причинила им много страданий. Самое подлое: им не дали полностью проявить себя. И все равно это не шло ни в какое сравнение с тем, что досталось их коллегам в советской России: психушки, Лефортово, ссылка, лагерь, изгнание из страны — подобная участь их не постигла. И постигнуть, наверное, не могла.
Виктор Ворошильский, замечательный поэт, блестящий переводчик, влюбленный в русскую поэзию, прежде всего в стихи своих советских ровесников и друзей, которым он дал жизнь на польском языке, подтвердил это, когда мы с ним виделись в Варшаве в последний раз:
— Главное, я всегда писал то, что хотел. Никогда и ничего по заказу. Наверху хорошо это знали и не мешали. Все остальное значения не имеет.
Слишком он рано ушел, дорогой Виктор. И уже не сможет увидеть, как Польша, избежав правого крена и решительно отвергнув коммунизм любого разлива, вернулась в свободную семью европейских демократий. Он об этом мечтал. Он был настоящим польским патриотом, это ничуть не мешало ему нежно любить Россию и всегда быть верным своей любви. Поэтому он так презирал «патриотов-профессионалов», будь то русских, будь то своих.
Как-то я напомнил ему стихи Вероники Тушновой, которую он, учась в Москве, в Литинституте, хорошо знал: «О сердце, склонное к порывам, пусть будет мужеством твоим в поступках быть красноречивым, а в обожании немым». И финал: «Прости меня, моя Россия, что о любви не говорю». Он долго молчал. Сосредоточенно думал. Потом подвел черту.
— Прощения должны просить как раз те, которые говорят. Вопят о любви — и точат ножи. Как услышишь, что кто-нибудь заявляет. «Я — патриот», — сразу беги без оглядки: это подлец и громила.
Ворошильский всегда был четок в суждениях и бескомпромиссно честен. На ветер слов не бросал.
Разговоров с Антонином Слонимским было несколько, один из них оставил в памяти особенно яркий след. Потому, возможно, что человека, которому он был посвящен, мы оба весьма почитали. Слонимский признался, что в свое время был другом Александра Вертинского и что полюбил его «с первого взгляда». Когда Вертинского арестовали в Бессарабии (еще в начале двадцатых годов), усмотрев в его стремлении быть поближе к границам родной страны какую-то шпионскую цель (все спецслужбы мира, видимо, в равной степени подвержены мании подозрительности), ничего конкретного вменить ему румынские власти не смогли и просто выслали в Польшу. Здесь его и приютил Антонин Слонимский, еще совсем молодой, но уже хорошо известный польский поэт и прозаик, к тому времени автор «Сонетов» и «Черной весны». Приютил не в бытовом, житейском, а в моральном, писательском смысле: приветил, одарил дружбой, ввел в элитарный круг.
Он увлеченно рассказывал мне о Вертинском, которого считал художником очень высокого уровня, одним из немногих, кто не нуждается в переводе, чтобы быть понятым. И еще Слонимский ценил в нем глубочайшую любовь к России, искренне и органично сочетавшуюся со столь же глубочайшим уважением к другим странам и народам. Мы долго развивали с ним этот сюжет, потому что его очень увлек мой рассказ о Вертинском, с которым судьба свела меня лишь однажды, на очень короткое время и совершенно неожиданным образом.
В ВУОАПе (Всесоюзном управлении по охране авторских прав — ныне РАО, Российское авторское общество), где я собирал материал для свой диссертации, меня попросили однажды о небольшом одолжении. Надо было пойти в суд и перенести на другой день назначенное к слушанию дело, поскольку все сотрудники юридического отдела (их было трое), как назло, заболели. Конечно, я охотно взялся за это легчайшее поручение, тем более, что ответчиком по делу был не кто-нибудь, а Вертинский! Правда, почувствовавший в тот день недомогание начальник отдела Борис Наумович Городецкий предупредил, что с самим Вертинским встреча скорее всего не состоится — «по судам он не ходит», — но это меня не остановило. Приобщиться хоть каким-нибудь образом к делу легендарной знаменитости уже было большой удачей.
Вертинский, однако, пришел! Ему были чужды зазнайство и спесь, а суд он, сын адвоката, уважал, что называется, генетически: уклониться от явки при отсутствии к этому оснований он позволить себе не мог. Тем более, когда речь шла о его чести: бывший аккомпаниатор по фамилии, если не ошибаюсь, Гин обвинил Вертинского в присвоении авторства… «Присвоение» состояло в том, что Вертинский «считал себя» единоличным автором музыки шести (или восьми?) песенок (в том числе, мне запомнилось, знаменитой «Минуточки»), тогда как их аранжировщик Гин претендовал «как минимум» на соавторство. В исковом заявлении он весьма развязно приписывал Вертинскому незнание даже нотной азбуки и уже по одному этому отрицал за ним право «именовать себя композитором». Позиция же ВУОАПа, стоявшего на стороне Вертинского, состояла в том, что автором музыки в «мелодических произведениях» всегда является создатель мелодии, а все остальное относится к числу «технических работ».
К делу были привлечены многочисленные эксперты — все до одного авторитеты высшего ранга, притом работавшие в разных музыкальных жанрах. Припоминаю заключения Глиэра, Шапорина, Дунаевского, Соловьева-Седого, но было их больше — числом до восьми-десяти. Никакого расхождения во мнениях у экспертов не оказалось: с большими или меньшими оговорками, а то и вовсе без оговорок, каждый из них порознь признавал авторство лишь затем, кто сочинил мелодию, и все они вместе очень темпераментно отстаивали в своих заключениях именно этот тезис.
Принять участие в спорах по существу у меня возможности не было — моя скромная задача состояла лишь в том, чтобы отложить дело. Возникли, однако, проблемы.
Оказалось, что дело откладывалось уже не раз, и это раздражало истца: возмущаясь очередным ходатайством «представителя гражданина Вертинского», он обозвал артиста «эксплуататором чужого труда», который «набрался такой привычки в своих заграницах». Судья почему-то Гина не оборвал, и мне пришлось напомнить, что «эксплуататор чужого труда, товарищ Вертинский» является «не буржуем, а лауреатом Сталинской премии» (он только что получил ее за участие в фильме «Заговор обреченных»), так что истцу не мешало бы воздержаться от эскапад насчет заграницы. На советскую демагогию советской же и ответил…
Слушание дела, естественно, отложили, моя миссия этим завершилась, и я вышел из суда на улицу с ощущением человека, успешно исполнившего свой долг. Но благодарности не дождался: Вертинский подверг меня оглушительному разгрому.
— С чего это, юный друг, вы решили столь торжественно объявить мой номер? Ведь вы адвокат, а не конферансье. И у нас был не концерт, а судебный процесс. В нем участвуют истцы и ответчики, прокуроры и адвокаты, эксперты и судьи, а лауреаты, по-моему, никаким кодексом не предусмотрены. Или в советском законе появился еще и такой участник процесса?
Сын адвоката, человек с не подвергшимся деформации правосознанием, Вертинский поставил меня на место и преподал хороший урок! А для того, чтобы смягчить мою горечь, тут же пригласил на имеющий быть через день или два свой концерте Доме актера. И там меня ждал еще один подарок.
Мое место оказалось прямо на сцене — зал был переполнен, — и Вертинский, завершив выступление (там я впервые услышал обычно не исполнявшуюся им в общедоступных запах песенку «Он не знал, что даже розы от мороза пахнут псиной, он любил, он был мужчиной, бедный пикколо-бамбино»), отозвал меня и в благодарность за «сотрудничество» (его слова) вручил изящно переплетенную тетрадочку своих стихов. Эту тетрадочку — вместо того, чтобы снять с нее копию — я много лет спустя отдал Алексею Яковлевичу Каплеру, который собирался писать сценарий фильма о Вертинском. Тетрадочка пропала. После смерти Каплера я попросил Юлию Друнину, его жену, эту тетрадочку разыскать, но получил ответ, что поиск успехом не увенчался.
В тетрадочке были и два стихотворения Вертинского о Сталине, которые в последнее время стали объектом политических спекуляций. «Чуть седой, как серебряный тополь» (в оригинале стихотворение это было озаглавлено «Он») и «Небеса осыпаны алмазами…» («Салют») написаны не в эмиграции, как с вполне однозначным подтекстом утверждал профессиональный сталинист Феликс Чуев, а вскоре после возвращения, в 1943 году. Странная встреча родиной вернувшегося с самыми чистыми намерениями изгнанника глубоко задела Вертинского.
Его концерты шли без всяких афиш. Ни одного отклика в печати на них не было. Отчаявшись, они написал те самые два — сверхпатриотических, по советским меркам, — стихотворения, но их тоже никто не хотел печатать. Вертинский отправил стихи Поскребышеву, сталинскому секретарю, вместе с письмом, где спрашивал, может ли он (и сможет ли когда-нибудь) чувствовать себя
своим на вновь обретенной родине? Чем он, великий труженик и преданный сын, ей не угодил? Ответ, естественно, не пришел.
Так что оба эти стихотворения (Солоухин в своих, посмертно изданных, воспоминаниях приводит стихотворение «Он» с очень большими отклонениями от известного мне оригинала) — драматическая и горькая страница биографии артиста, ни в каком преклонении перед Сталиным не замеченного. Иначе известные пастернаковские стихи, где есть строки «…за древней каменной стеной живет не человек — деянье…», пришлось бы тоже трактовать в чуевском духе.
Политиканско-спекулятивная интерпретация «сталинских» стихов Вертинского глубоко оскорбительна для памяти этого в высшей степени благородного, порядочного и честного художника. И напрасно при публикации его творческого наследия составители — несомненно, из самых добрых побуждений — стесняются включать их в сборники. В самом полном из них — «Дорогой длинною» — стихотворения «Он» нет вообще, а «Салют» оборван на том месте, после которого начинаются вроде бы постыдные строки:
И не стынут печи раскаленные,
И работа тяжкая кипит.
А над нами Имя озаренное,
Как звезда высокая горит.
Это Имя Маршала бессонного
День и ночь отчизну сторожит.
Только потому, что стихи эти так и не стали песней, Чуев их не знал и истолковать на свой манер не успел.
Я рад, что рассказ о Польше и об Антонине Слонимском неожиданным образом извлек из моей памяти эту вставную новеллу о счастливей встрече с Александром Николаевичем Вертинским.
Иногда я позволял себе смотаться инкогнито куда-нибудь в глушь — отойти душой, забыть о делах. Ничего не писать — только гулять и думать: человеку необходимо время от времени отрешиться от повседневности, остаться наедине с собою и приобщиться к чему-то более важному, чем постылая злоба дня. Но отрешиться и отрываться почти никогда не удавалось. Инкогнито было призрачным, о приезде каким-то образом узнавали — и тотчас начинались визиты: кто шел за помощью, кто с рассказом о какой-нибудь гнусности. Больше всего бесила людей торжествующая неуязвимость тех, кто обладал властью или был связан с ней.
Как-то я откликнулся на приглашение погостить у знакомых в прелестном, живописнейшем Каневе — историческом городке на берегу Днепра. Было сделано все, чтобы я мог уединиться и, ни с кем не общаясь, отдохнуть душой и телом. Не тут-то было! Уже на третий день явилась прознавшая о моем приезде делегация из двух человек. И я опять, забыв об отдыхе и о запланированной, первоочередной работе, очертя голову бросился в авантюру.
Эта грязная история чем-то напоминала один из эпизодов моей чебоксарской «Бани» — судя по читательской почте, такого рода забавы были тогда распространены повсеместно. Суть забавы можно изложить очень коротко: пионервожатая из летнего приднепровского лагеря продавала — в буквальном смысле этого слова — своих пионерок местному начальству и местной же милиции для всем известных утех. Милиция держала ее под своей «крышей», хотя такого термина тогда в ходу еще не было. Никто из девочек не поднял шума, не обратился за помощью: одних задаривали конфетами и сладкими пирогами (не найди я эту деталь в следственном деле, ни за что бы в нее не поверил), других шантажировали уличавшими их фотоснимками, где те были явлены в чем мать родила, — эти снимки предусмотрительно делала челядь во время оргий начальства, — третьим попросту угрожали. Откровенно и грубо. И дело сходило с рук.
И вдруг — не сошло! В одной из юных наложниц, которую привезли заместителю начальника то ли районного, то ли областного управления внутренних дел, тот узнал дочь своего товарища — они вместе учились в строительном институте. Перетрусивший местный туз поднял вселенский шухер. Добрался сразу до Киева и кричал, что дойдет до Москвы. Всюду писал, что пионерку ему просто пытались «подсунуть», чтобы, сделав заложником, потом шантажировать. Сломить этим проверенным способом его несокрушимую честность, его непримиримость к преступникам и заставить закрыть глаза на проделки других.
Когда делегация явилась ко мне, дело уже было в раскрутке, девчонки «кололись», местная прокурорская власть под прицелом обкома и по его указанию делала все, чтобы, если уж не прикрыть дело полностью, то оставить в нем один, от силы два не слишком значительных эпизода и спустить по возможности на тормозах.
Один из пришедших ко мне был отцом пострадавшей, другой директором школы, где училась она и несколько других пионерок: самая старшая только что перешла в девятый. Особая пикантность ситуации состояла в том, что и вожатая была из той же школы: сначала в ней училась, потом стала преподавать физкультуру, а на ответственный пост в летний лагерь была назначена комсомольским райкомом, где директор школы до недавнего времени сам работал секретарем. Он совершенно запутался: кого ему следует защищать? кого обвинять?
Пока двое пришельцев сбивчиво и нервозно излагали свою беду, она на моих глазах превращалась в трагикомедию, а потом в совсем уже пошлый, омерзительный фарс. Явившись чуть ли не в обнимку, повязанные общим несчастьем, оба моих посетителя вскоре передрались. У меня на глазах. И, к сожалению, не фигурально: папа расквасил директору нос.
Ни пузатые сластолюбцы (я видел четырех из этой команды, все, как на подбор, с избытком жирка), ни их мнимые жертвы (мне показалось, что большую часть «пострадавших» можно было считать таковыми лишь в юридическом смысле) особого интереса не представляли. Но с пионервожатой поговорить захотелось, и эту встречу мне устроили без труда. Никто ее под стражу не брал и брать не собирался, хотя состав преступления по нескольким статьям уголовного кодекса был в ее действиях вполне очевиден.
В моем блокноте есть такая торопливая запись для памяти — о нашей первой с ней встрече.
«Вожатую зовут Зоя. Двадцать шесть лет. Сероглазая шатенка. Стрижка под мальчика. Стройная, спортивная, скуластая. Нос пуговкой, но симпатичный. Губы поджаты. Голос низкий, с хрипотцой — чувствуется тренерское прошлое: накомандовалась, как видно, всласть. Взгляд угрюмый, исподлобья. Если бы не эта угрюмость, можно было бы назвать миловидной. Но лишь при богатом воображении. Полное отсутствие обаяния. Ничего женственного. При мне не курила, но вижу ее почему-то с плохой сигаретой в зубах. Ни на один вопрос не отвечает сразу: думает долго, иногда слишком долго. Слушая меня, подпирает голову левой рукой и смотрит куда-то в сторону. И наоборот: начиная говорить, пытливо заглядывает в мои глаза. Пронзает. Я выдерживаю ее взгляд, и от этого она сразу сникает. Потом все начинается снова: опять напористо пронзает взглядом, словно пытается нечто внушить, и опять тушуется. К концу долгого и бесплодного разговора — слезы. И мне сразу становится ее жаль».
Самое замечательное: она ничего, в сущности, не отрицала. Убеждала меня: вовсе «
не это» имела в виду, девочки сами «хотели развлечений». Совершенно невинных. В интересном — взрослом — обществе. Они относились к ней, как к старшей подруге. Учительницу, не правда ли, положено звать по имени-отчеству: Зоя Алексеевна. А они все ее звали — Зоя.
— Это вам о чем-нибудь говорит? — допытывалась вожатая.
Мне не говорило ни о чем, и она смолкала. Потом, подумав, задавала очередной вопрос.
— А то, что они мне все про себя рассказывали. Все — понимаете? — все! Ничего не скрывали. Всем делились.
— Послушайте, Зоя, чем таким «всем» могли с вами делиться тринадцатилетние девочки? Чего они от вас не скрывали?
Я ее, кажется, здорово позабавил.
— Вам что, не понятно?! — Она залилась хриплым смехом. — Девочки хорошо проводили время, — вполне искренне вещала она, — развлекались, слушали музыку, угощались. Ни одна мне не говорила, что осталась обиженной. Если чего не хотела — пожалуйста, никто не неволил. По-вашему, лучше, если бы они достались нашим мальчишкам? Хулиганчикам нашим… Вы видели наших хулиганчиков? Посмотрите, а потом скажите: что лучше? Ведь все равно наши девочки кому-то достались бы… Или у вас другое мнение?
Такого откровения перед московским журналистом я, по правде сказать, не ожидал. Привык к тому, что юлят, оправдываются, пытаются вызвать жалость, добиваются снисхождения. Или все отрицают, пусть даже вопреки фактам. Но так вот — впрямую, не защищаясь, а наступая?! Притом — с упоительной убежденностью, что была не сводницей, не торговкой живым товаром, не бандершей, растлевавшей своих учениц, а героиней, спасавшей их от печальной доли…
Нет, такого я не ожидал. Но один из шефов местного наробраза, показавшийся мне, в отличие от многих других тамошних начальников, человеком думающим и благородным, остудил меня неожиданной репликой:
— Не исключаю, что Зоя права.
На моем лице отразились, как видно, не один, а десять вопросительных знаков. В
содружестве с восклицательными. Он развел руками:
— Хотите, скажу по секрету?.. Мне иногда кажется, что вокруг нас — сплошной публичный дом. И я не знаю, как с этим бороться.
Уж наверно не так, подумалось мне, как «боролась» все та же Зоя! Вступать в полемику и на этот раз не имело ни малейшего смысла. Благородный «шкраб» мало чем отличался от неблагородных, разве что речь была чуть покультурней.
Все надежды на две недели безмятежного отдыха рухнули, но размотать это дело даже наполовину тоже не удалось. Жесткий график вынуждал, все бросив, умчаться совсем в другую сторону и совсем в другой мир.
Прошло уже шесть лет с тех пор, как я был последний раз в Чехословакии. Не шесть лет — целая эпоха. В них уместились и счастливые месяцы «Пражской весны», и Прага, растоптанная и униженная советскими танками, и самосожжение студента Яна Паллаха, и пресловутая «нормализация» под водительством ставшего всеми презираемым коллаборантом бывшего политического зэка Густава Гусака. На этот раз я был гостем кинофестиваля в Карловых Варах — отказаться от приглашения сил не нашлось, хотя какое-то время чувства боролись во мне с трезвым расчетом. Я панически боялся новой встречи с давно полюбившейся мне страной, понимая, что приезжаю в поверженную Чехословакию как — хочешь не хочешь — оккупант, а недруг. Не повесишь же на себя табличку: «Я — с вами», не будешь каждому объяснять, что ты всей душой, безраздельно, с чехами, а не с теми, кто их подавил и унизил.
Присутствие Смоктуновского облегчало душу: уж он-то никогда не позволил бы себе оказаться в какой бы то ни было непристойной роли. Как-то за кружкой пива Кеша признался, что перед ним была такая же альтернатива и он тоже решил, что чехи должны знать: друзья остаются с ними не только в радости, но и в беде.
— Неужели они глупее нас? — риторически вопрошал он, убеждая скорее себя самого. — Неужели не отличат, кто есть кто? Не считай их всех простаками.
Я так не считал, но в том-то и дело, что нас различать и даже ставить перед собой такие вопросы было попросту некому: «принимавшая сторона» состояла сплошь из коллаборантов, из тех, кто прошел через все жернова и фильтры и был признан лояльным. Не к интересам своей страны, разумеется, а к рептильному режиму и к тем, кому он служил. Для этой публики мы все были «представителями (опять представителями!) великой советской страны» и, значит, коли уж нас сюда допустили в такое сложное время, — идеологически чистыми.
Свидетельством тому было величайшее доверие, оказанное «советским товарищам» плюс товарищам только из двух стран-оккупантов (Болгарии и ГДР). Посланцы из двух других (Польши и Венгрии), чьи войска тоже вломились в чужую страну, этой чести не удостоились: даже самые проверенные, раз они прибыли из сомнительных стран («веселых бараков социализма» — такое прозвище заслужили в «лагере» Варшава и Будапешт), оставались под подозрением, в их лояльность агрессору никто не верил, своими их никто не считал.
Честь состояла вот в чем. Нас пригласили в советское консульство на беспримерный просмотр. По паспортам и заранее выданным пропускам, после очень раннего завтрака, мы вошли в священное здание, охранявшееся полицией и маячившими поблизости искусствоведами в штатском. Спустились в темный подвал, оказавшийся кинозалом. На чистейшем русском языке человек, который представил себя, не назвавшись, чешским кинокритиком (еще один в штатском), объяснил: просмотр имеет целью наглядно показать дорогим коллегам, какая идеологическая диверсия предшествовала пражской весне, до какого уровня морального и эстетического падения дошли здешние агенты влияния, продавшие свой талант заокеанским хозяевам.
— Нарочно не придумаешь, — прошептал мне Смоктуновский в самое ухо и очень многозначительно обвел глазами зальчик, где мы сидели.
Едва подсвеченное тусклой лампочкой, скрытой за бархатной драпировкой, это подвальное помещение человек на двадцать, жавшихся друг к другу, чтобы всем уместиться, скорее напоминало каземат или камеру пыток. Жужжавший вентилятор не столько разгонял духоту, сколько нагнетал атмосферу тревоги и страха. «Кинокритик» вещал про врагов, засевших повсюду, и мне снова привиделся Геббельс: оратор был невероятно, неправдоподобно близок к оригиналу.
Потом пошли фильмы — те, что отравляли сознание и готовили почву. Явлением был не каждый из них в отдельности, а все они вместе. Мощный пласт честного искусства, заряженного очистительным критическим пафосом и неистребимой жаждой свободы. Мы смотрели Клосса и Немеца, Хитилову, Менцеля, Кахиню, кого-то еще. Прочно врезались в память даже фильмы не первого ряда: «Карета до Вены», «Ухо», «Это горькое торжество». Их объединяло одно: ненависть ко всему, что подавляет личность, и глубочайшее убеждение в том, что век душителей и палачей уже подходит к концу.
Просмотр длился с двумя короткими перерывами почти десять часов. Наверх никого не выпускали — даже вместо обеда принесли бутерброды. Измотанные усталостью и духотой, подавленные увиденным, мы, наконец, вышли на воздух. Безмятежность июльских Карловых Вар показалась раем. Но теперь мы знали, какие реалии этот рай до сих пор скрывает.
Большие мастера, которые тоже вышли на свет из этого мрачного бункера, — Сергей Герасимов, Тамара Макарова, Станислав Ростоцкий, — хорошо понимали и уровень того, что мы посмотрели, и творческие искания чешских коллег, которым наступили на горло. Советские танки прошлись не только по правде, но и по живым душам. Обсуждать это, не фальшивя друг перед другом, было нельзя. Оставалось уклониться от всякого разговора и поболтать о хорошей погоде…
Чувствительный Кеша умчался вперед, боясь, что кто-нибудь с ним все же заговорит. Врать он не умел, открыться — не имел желания. Мы шли к своему шикарному отелю «Пупп» (он же — в ту пору — «Москва») вместе с божественным Рамазом Чхиквадзе и его прелестной женой Наташей — уж с ними-то можно было и не лукавить.
— Тяжело, — коротко подытожил Рамаз.
— Очень, — подтвердил я.
Комментарии отпали сами собой.
Вернувшись в Москву, я долго в редакции не усидел и снова помчался на Украину. Никто меня не звал, никакого задания не было. Просто мне захотелось довести до какого-то конца то «сексуальное» дело, в которое был вовлечен совершенно случайно. Или хотя бы узнать на месте, как оно теперь развивается.
Оно не развивалось никак. Пока я ездил по заграницам, пионерки успели поменять свои показания. Вожатая, с которой сняли подписку о невыезде и вообще освободили от какой-либо меры пресечения, скрылась в неизвестном направлении. Делегация из двух персон — отца и директора, — спонтанно прервавшая мой покой и явившаяся ко мне без всякого вызова, сугубо по личной потребности, раскололась на две половины — каждая из них порознь сообщила, что просто «погорячилась». А поднявший шухер подполковник милиции лучезарно мне заявил, что, разволновавшись, «поддался на провокацию»: никто никого ему не подсовывал и вообще он теперь перешел на другую работу, устроившись в какой-то производственный комбинат.
Все мои попытки вернуться к истокам, восстановить то, что я видел своими глазами и слышал своими ушами, оказались напрасными. Дело хотели спустить на тормозах — и благополучно спустили. А Зоя отправилась с глаз долой в другие края — скорее всего, торговать все тем же живым товаром. Думаю, этот бизнес она неплохо усвоила, к тому же он явно пришелся ей по душе. Сегодня Зое всего пятьдесят с небольшим, возможностей для такого бизнеса стало гораздо больше и стыдиться его не приходится: объявления разных «зой» с предложением услужливых барышень на любой выбор и вкус печатают респектабельные газеты.
Так вот ладненько все обошлось. Умение глушить любые дела, выходить сухим из воды появилось, как видим, не в наши дни, а намного раньше. тогда, четверть века назад, лишь отрабатывался механизм сплошной безнаказанности, который начал слаженно и четко работать, когда власть аппаратчиков плавно переродилась во власть бандитов. Но корни остались там. Ноги растут оттуда.
Глава 16.
Тот самый май…
Полицейские стояли молча, в несколько рядов, наглухо запертые в плотные черные мундиры. Каски надвинуты так низко, что почти не видно глаз, ремни под подбородками туго затянуты. И дубинки — в руках. Живая черная стена перегородила мосты через Сену, отрезая левый берег от правого, а позади, впритык друг к другу, припарковались похожие на катафалки полицейские автобусы с зарешеченными окошками. Площадь Сен-Мишель, обычно заполненная во все часы суток туристами и потоком машин, была совершенно пустой. Она разделяла «воюющие стороны». У моста терпеливо ждали своего часа полицейские. А на почтительном расстоянии от них, не рискуя приблизиться, шумела возбужденная толпа. Тысячеголосый крик: «Освободите наших товарищей!» летел через Сену, но товарищи вряд ли могли его услышать: ведь в камерах, где они находились, достаточно толстые стены.
Вот таким я увидел Париж вдень приезда. Было 11 мая 1968 года. Капка получила стажировку в представительстве своей страны при ЮНЕСКО. После долгой официальной переписки и вмешательства влиятельных друзей ее отца сопровождать молодую женщину — в качестве частного лица — снова, как и два года назад, разрешили и советскому мужу. Так судьбе было угодно сделать меня очевидцем не имеющего, вероятно, аналогов в европейской истории двадцатого века «парижского мая».
Накануне Париж пережил драматичную ночь. О ней кричали и гигантские заголовки газет, и фотоснимки, не нуждавшиеся ни в каких комментариях, и вот эта толпа, единая в своей ярости. Зримые следы той ночи я увидел часом раньше, поднявшись по бульвару Сен-Мишель к Люксембургскому саду. Развороченная мостовая; обожженные и перевернутые каркасы машин; наспех прикрытые фанерными листами — вместо разбитых стекол — витрины магазинов и кафе. И не смытые еще дождями, не стертые пожарными пятна крови на стенах домов, на рекламных щитах, на тротуарах. Это память о прошедшей ночи. О событиях, которые войдут в историю под именем битвы на улице Гей-Люссак.
Первую о них информацию дал нам хозяин дешевенькой «меблирашки», гордо именовавшейся отелем «Олинда» и расположенной в сердце Парижа, на улице Сен-Луи-ан-л'иль. («Меблирашки» этой давно не существует, но дом сохранился.) Прожив двумя годами раньше несколько месяцев в доме Ледермана на этом острове, мы так к нему прикипели, что решили не изменять «своему» району. На скромную стипендию, которую получила жена, нам надо было прожить вдвоем, и мы предпочли конуру на романтическом острове более просторному помещению вдали от бурной парижской жизни. Расчет оказался точным: все последующие события разворачивались рядом, так что счастливая возможность стать их очевидцем досталась мне без труда.
— Вы вовремя приехали, — сказал, вручая ключ, хозяин отеля. — По-моему, Франция просто взбесилась. Вы знаете, из-за чего все началось? Мальчишек перестали пускать к девчонкам, и по этому случаю они начали кидаться камнями.
Таким было первое авторитетное мнение мелкого буржуа, который пытался ввести меня в «курс дела». Потом ту же притчу я слышал множество раз. В основе лежал действительный факт: еще год назад университетское начальство распорядилось ограничить допуск «лиц мужского пола» в женское студенческое общежитие в Нантере, чтобы частые вечеринки не мешали подготовке к экзаменам. Распоряжение не слишком разумное: в отдаленном от Парижа пригородном «кампусе» по вечерам было некуда деться. К тому же университетские моралисты наложили запрет лишь на посещение мужчинами женщин, разрешив почему-то передвижение в обратную сторону. Эту анекдотичную половую сегрегацию студенческий совет назвал оскорбительной и циничной. Собравшиеся на митинг студенты пошли еще дальше: решение ректората они объявили попранием свободы личности и покушением на элементарные права человека.
Началась эпоха митингов и дискуссий, воззваний и протестов. Масла в огонь подлило решение министерства образования изменить порядок сдачи экзаменов. Студенты отказались посещать лекции, потом объявили, что не признают экзаменационных программ. Комичный повод, положивший начало волнениям, был быстро забыт, требования обрели масштабный характер и политическую окраску. Волнения перекинулись в Сорбонну. Она бурлила, ее нормальная жизнь была полностью парализована, аудитории превратились в дискуссионные клубы. Днем 3 мая ректор Рош вызвал в Сорбонну полицию. Студенты были изгнаны из своей «альма матер». Местом спонтанных митингов стали близлежащие улицы и площади. Тех, кто пытался пробиться к Сорбонне, встречали цепи вооруженных полицейских. Молодежь выкрикивала лозунги, отнюдь не ласкавшие полицейское ухо. Требования студентов, к которым присоединились их товарищи из других институтов и даже из других городов, становились все решительней, их митинги — все многолюдней.
10 мая нервы комиссара полиции не выдержали. Стремясь разогнать толпу, его подчиненные пустили в ход дубинки. Несколько минут спустя в ответ полетело «оружие пролетарита» — массивные кубики гранитной брусчатки, которой были вымощены парижские улицы. В ту ночь камни выковыривали ножами, палками, а то и просто руками. Назавтра появились уже топорики, кирки и отбойные молотки. В защиту тех, кого схватили еще во время первой стычки с полицией, как раз и кричали студенты, которые собрались субботним вечером 11 мая на площади Сен-Мишель. Схваченных было четверо, раненых — 367: эту цифру называли газеты. Было вполне очевидно: грядущая ночь будет не менее бурной, чем предыдущая.
Взобравшись на скамейку, чтобы лучше видеть поверх моря голов, я ждал, когда начнется новая потасовка. Но не дождался. Стремясь разобраться в потоке информации и ошеломительных впечатлений первого парижского дня, позвонил Франсису, знакомому парижскому адвокату, прося о встрече. Наш ужин в квартале Маре затянулся до часа ночи: полусветская беседа быстро перешла в ожесточенный спор.
Не знаю, какая нелегкая занесла молодого адвоката из респектабельной буржуазной семьи в ряды французской компартии. Впрочем, чему удивляться: левизна французских интеллектуалов давно уже стала привычной. Конечно, Франсис был полностью на стороне бунтовавших студентов.
— Люмпенов практически больше нет, — разъяснял мне Франсис, — наша буржуазия испугалась Октябрьской революции и обеспечила им условия для выживания. Теперь люмпенами становятся обладатели университетских дипломов. Гуманитариям негде работать, и они восстают. Классовая борьба неизбежна.
— Послушай, — пытался я вернуть его на почву реальности, — но ведь современному обществу действительно нужно больше инженеров и квалифицированных рабочих, чем знатоков скандинавской литературы. Каждый должен с этим считаться, если хочет обеспечить себе сносную жизнь.
Ему показалось, что я его разыгрываю. От «товарища из Москвы» он, видимо, ждал совсем других слов.
— Нет, дорогой мой, лозунг коммунистов — от каждого по способностям. Это ваши сталинисты его извратили, а мы вернем словам их истинный смысл. Мы построим справедливое общество, где каждому найдется дело по душе. Рабочие поддержат студентов, и с этой силой не справится уже никто. Буржуев мы не будем гноить в лагерях, как это делали у вас, — мы отнимем у них власть, а потом перевоспитаем.
Стоило ли так мучительно добиваться Парижа, чтобы выслушивать здесь ту же самую советскую муть, только вывернутую наизнанку?! Франсис был явно с теми, кто в эти же майские дни переживал эйфорию «пражской весны» и кого стали называть «коммунистами с человеческим лицом». Они и во мне пробудили тогда надежду на перемены, — и вот нежданно-негаданно в старомодно уютном парижском ресторане сквозь «человеческое лицо» явственно проступил все тот же плохо загримированный фанатизм. Но я был гостем и, значит, скандалить не смел.
— Можно ведь, в конце концов, ограничить набор студентов действительной потребностью страны в специалистах по данной профессии. Как-то регулировать процесс обучения.
— Конкурс?.. — насмешливо протянул Франсис. — «Нумерус кляузус» («Ограниченное число»)? Свобода для избранных? Но это же извращение ленинизма.
Я безуспешно пытался растолковать ему смысл горькой шутки: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Дошла не ирония, а только буквальный смысл.
— Конечно, лучше быть богатым и здоровым. За это мы и воюем. Разве ты против? Мы будем добиваться и всеобщей обеспеченности, и подлинной, а не мнимой свободы. Для всех.
— Бутылками с бензином? Камнями?
— Если надо, то и камнями!
Он говорил что-то еще, но я уже отключился: стало скучно и зябко. Доносились обрывки слов: Права трудящихся… Пролетарская солидарность… Народный фронт… Страна санкюлотов… Революционные традиции Франции… Но я уже сник, спорить ни о чем не хотелось.
Два дня спустя отзвуки того ночного разговора донеслись до меня во время стотысячной демонстрации, которая началась на площади Республики и двинулась к площади Данфер-Рошро. Она длилась шесть часов кряду, в ней участвовали рабочие и студенты. Я сумел взобраться на выступ решетки Люксембургского сада и стоял там, пока хватило сил. Заводящая себя криками толпа двигалась мимо меня. Имя одного из троих, кто шел впереди, — студента Даниэля Кон-Бендита, — уже мне было известно: оно не сходило с газетных страниц. Симпатичный рыжий парень с кокетливыми усиками, в куртке нараспашку, возглавлял колонну, а вослед демонстранты в окровавленных масках, изображавших изувеченные лица, несли чучело полицейского. Кто-то рядом со мной вслух опознавал идущих в колонне: Миттеран… Пьер Кот… Вальдек Роше… Имена были знакомые, но ни на кого из них мой взгляд так и не наткнулся.
Записал несколько лозунгов: «Сегодня — студенты, завтра — безработные», «За новое общество, за подлинное равенство! Свободу — труду!», «Рабочие, студенты, объединяйтесь! Мы победим!» Пахнуло чем-то знакомым — по «историко-революционным» книгам и фильмам. Никогда не думал, что увижу это воочию. И уж тем паче не мог предвидеть, что рядом с красными понесут еще и черные флаги: анархистскими символами размахивали самые молодые. Из плакатов можно было понять, что их несут лицеисты. «Революцию — на улицу!» — вопила миловидная старшеклассница, взобравшись на плечи своего сверстника. Он гладил ее колени под юбкой. Жизнь продолжалась во всех ее проявлениях.
Началась всеобщая забастовка. Какие-то автобусы и — с большими интервалами — поезда метро еще ходили, но Капке пришлось добираться до ЮНЕСКО пешком. Вскоре это стало привычным. Забастовали пилоты и наземные службы. Еще несколько дней — и мы вообще не смогли бы попасть в Париж.
Стараюсь не покидать Левый берег — жизнь кипит здесь днем и ночью. Арестованных студентов освободили, но напряжение вовсе не спало — об этом свидетельствуют хотя бы сотни листовок, которые раздают буквально на каждом шагу. Стены зданий заляпаны надписями масляной краской — белой и красной. Один настенный призыв поразил своей серьезностью, столь необычной для «литературы» этого жанра: «Тем, кто не имеет своего мнения, мы советуем читать газеты всех направлений». Как не похожа эта трезвая толерантность на то, что творится вокруг! Назавтра надпись была замазана и вдобавок еще перечеркнута черным крестом.
Эвакуация полицейских отрядов из Сорбонны произошла столь же неожиданно, сколь и ее оккупация. Черные мундиры, преграждавшие доступ к университету, вдруг исчезли. Вход свободен. Студенческий комитет заявил, что берет Сорбонну в свои руки и объявляет ее революционным штабом. Про такие «штабы» мне раньше приходилось только читать, теперь представилась возможность увидеть своими глазами.
Положение «частного лица» позволяло чувствовать себя свободным в свободной стране — я даже не доложил консульству о своем прибытии. Но советский «менталитет» все равно давал знать о себе. Мучила мысль: дано ли мне право посещать все, что захочется? Не без страха вошел я в университетский двор, заполненный немыслимо деловитыми молодыми людьми. Портреты Маркса, Ленина, Троцкого, Че Гевары соседствовали друг с другом. Еще одного господина, висевшего на равных с бородатыми «вождями», я никак не мог опознать.
— Простите, мсье, — остановил я мчавшегося по двору низкорослого человечка и показал на незнакомый портрет, — а вот это что за товарищ?
Рядом с коротышкой даже я выглядел каланчой, что не помешало ему откуда-то снизу метнуть на меня полный презрения взгляд. Еще не дождавшись ответа, я устыдился своей темноты.
— Бакунин, — гордо отрезал он и помчался дальше.
После бессонных ночей, проведенных в непрерывных дискуссиях, студенты долго отсыпались на скамьях университетских аудиторий, превратив их в бивуаки. Жаркие споры разгорались по вечерам, когда Сорбонна митинговала. В один из вечеров мы туда и отправились. Взвинченная, возбужденная атмосфера ощущалась уже на дальних подступах к ней. Юноши — почему-то все, как один, в свитерах с засученными рукавами — раздавали листовки, аккуратно отпечатанные на ротапринте. Они делали это с такой ловкостью, что едва ли какой прохожий мог улизнуть, не узнав про свой «главный гражданский долг: немедленно и решительно избавиться от власти капиталистической олигархии». Тысячи повсюду валявшихся белых, красных, зеленых, желтых листков, придавленных каблуками и шинами медленно ползущих машин, с наглядностью говорили о том, как обладатели этих листовок собирались свой долг выполнять.
Худенькая девушка в помятых брючках с сумкой через плечо молча протянула мне еще одну листовку.
— У меня уже есть, — попытался я уклониться.
— Это другая, — возразила она, мельком взглянув на квадратик, белевший в моей руке.
В «другой» было написано: «Товарищи, Франция переживает исторические дни. Борьба с режимом личной власти, за демократию и справедливость вступила в новую фазу. <…> Борьба будет трудной, она требует решительности, мужества, глубокого понимания законов общественного развития, единения всех прогрессивных сил, выдержки и хладнокровия. <…> Не дайте спровоцировать себя на необдуманные авантюристические действия, которые могут поставить под угрозу все наши социальные завоевания…» Язык листовки и четкость известных формулировок говорили о том, что вполне разумная, вполне расчетливая, не подверженная эмоциям политическая сила пытается — пока еще безуспешно — взять стихию под свой контроль.
Добраться до Сорбонны было не так-то просто. Сотни людей толпились перед афишами высотой подчас в два этажа, наклеенными чуть ли не на каждую стенку, — вопреки грозным предупреждениям: «В соответствии с законом от 29 июля 1881 года клеить афиши здесь воспрещается». В мае 1968-го этот закон явно действовать перестал. Во всяком случае, на запреты никто не обращал никакого внимания. Афиши кричали, спорили, ругались, призывали и умоляли. Любой мог тут же выразить письменно свое отношение к прочитанному.
Я не раз видел, как из толпы, сгрудившейся перед какой-нибудь афишей, отделялся человек и поперек задевшего его чем-то пассажа коротко и хлестко делал фломастером свое авторитетное замечание. Проходило еще несколько минут, и другой человек — в присутствии первого — размашисто зачеркивал его замечание и поверху писал свое. Оба спорщика оставались еще некоторое время в толпе, потом молча расходились. Появлялись другие, афиша обрастала все новыми и новыми восклицаниями, упреками, недоумениями, остротами, потом ее заклеивали более свежей афишей, и все начиналось сначала.
Одна особенно меня привлекла — возможно, потому, что, не делая различия между своими читателями, обращалась ко мне: «И ты можешь стать членом Парижской Коммуны!» Для этого, было в ней сказано, надо прийти в Сорбонну (как раз туда мы и шли) и принять участие в непрерывной дискуссии, которая поможет каждому сделать свой выбор. Афишу прилепили к ноге Дантона — памятник революционеру почти полностью утонул в море настенной литературы: от подножия до затылка он был заляпан листовками и испещрен карандашными восклицаниями.
Мы пришли как раз вовремя. Еще несколько минут, и в аудиториях Сорбонны не осталось бы ни одного свободного пятачка. В вестибюле центрального входа тонкой змейкой вилась очередь к столу, покрытому красной клеенкой. Там четко и деловито трудилось несколько студентов. Один резал на ровные куски караваи хлеба, другой мазал их повидлом, несколько человек работали на раздаче. Очередь за сосисками была меньше: там брали какую-то символическую плату.
«Каждый гражданин, — хрипло надрывалась в микрофон девушка с синяками под воспаленными глазами, — может бесплатно получить хлеб с повидлом и стакан воды. Товарищи, студенческий комитет Сорбонны обеспечивает каждому гражданину…»
Я не был голоден, но неодолимая сила заставила меня встать в очередь за студенческим бутербродом, чтобы ощутить и себя членом Коммуны. С ним я вошел в аудиторию, носящую имя своего создателя Ришелье.
Вошел… Трудно найти более неподходящее слово! Жену тотчас оттерли, отбросили в другую сторону, а толпа, стиснув меня со всех сторон, подхватила, понесла, раскачивая по узким и кривым галереям, втиснула на лестничку, показавшуюся мышеловкой, откуда нет пути ни вперед, ни назад, и вдруг втолкнула в полукружие затемненного зала, пахнувшего спертым прокуренным зноем. По дороге, пока меня несли, я успел прочитать очередной плакат: «Долой отцов!» и рядом — страстное опровержение: «Товарищи, это провокация, мы боремся не со старшим поколением, а с реакцией». И чуть ниже — еще одно: «Отцы тоже с вами!».
Мраморное изваяние Ришелье стояло в глубине сцены, покорно держа на своих коленях двух рослых парней; третий взгромоздился кардиналу на шею и, по-домашнему свесив оттуда ноги, облокотился о его шевелюру. В этом амикошонстве не заключалось ни малейшей политики: просто не осталось ни одного свободного места — даже на полу, где в самых неестественных позах полусидели-полулежали тысяч и людей. Преобладала молодежь, но хватало и седовласых. Мне снова повезло: я отыскал крохотный клочочек ступеньки, откуда, время от времени меняя позу, чтобы отошли затекшие ноги, можно было все видеть и слышать.
Зал почему-то был полутемен. Сцена тоже освещалась неярко, что само по себе подчеркивало деловитую обыденность, а отнюдь не торжественность всего, что тут происходило. За столом президиума, лишенные всякой чинности, сидели пять или шесть человек. Примостившаяся сбоку девушка что-то писала. Трибуны не было. Оратор говорил с того места, которое ему казалось более удобным, держа в руках микрофончик. Никто не призывал к тишине, которая и без того была поразительной. Ее нарушал лишь глухой шум, порой доносившийся из коридоров: сотни опоздавших никак не хотели поверить, что аудитория уже переполнена сверх всякой меры.
— Предлагаю четко сформулировать требования, — неслось со сцены, — которые Комитет действия должен предъявить ректорату и министерству образования. Отмена экзаменов — безусловно, но еще важнее содержание учебных программ. Пора покончить с отрывом преподавания от жизни и от практических потребностей нашей будущей профессии.
Речь окончена. Нет ни аплодисментов, ни возгласов неодобрения. Вероятно, аудитории понятно, о чем говорил оратор. Мне — нет. Точнее, понятно — на уровне лозунгов. Но мы-то знаем им цену. Знаем, что за ними скрывается, чем становятся они в реальности, кому и для чего служат. Но кого интересует печальный опыт других? Не случайно же здесь, во Франции, родился бессмертный афоризм: «Единственный урок истории состоит в том, что из нее не извлекают никаких уроков».
На сцене уже новый оратор. Он в джинсах и кедах. Рукава его клетчатой рубашки высоко закатаны, ворот распахнут. Очки мешают ему — он их снимает.
— Выступавший до меня товарищ, — говорит он басом, столь не идущим к его долговязой фигуре, — сильно сузил вопрос. Дело не только в экзаменах и программах. Надо добиваться нашего участия в управлении всей жизнью университета. Хватит подавлять молодежь, ради которой университеты только и существуют. Администрацию — под наш контроль.
— Принято, — соглашается председатель, пошептавшись со своими соседями. — Следующий…
Откуда-то сверху, ловко перепрыгивая через головы и ноги, устремляется к эстраде малюсенькая девчушка с короткой челкой медного цвета. Вот она споткнулась, ее подхватывают сразу несколько рук и, передавая от одного другому, доставляют на сцену.
— Товарищи! — восклицает она, театрально заломив руки. — Как можем мы обсуждать свои дурацкие вопросы, забывая о нуждах наших братьев-рабочих? Студенты должны помочь рабочим в их справедливой борьбе за повышение заработной платы, за сокращение рабочей недели. Долой безработицу трудящихся! Долой бездельников, которые загребают огромные дивиденды!..
Ее голос сорвался. Аплодисменты заглушили последние слова. Из зала кто-то пробасил: «Ну, и что вы предлагаете?»
— Надо действовать! — отозвалась девушка, уже раскачиваясь на вытянутых руках, которые помогали ей проделать обратный путь.
— Как конкретно? — не унимался тот же голос, стремясь вернуть юную «Пассионарию» на почву реальности.
— Товарищи! — взвизгнула она, тряся медной челкой. — Среди нас находится провокатор. Товарищи! Будьте бдительны!
Запахло потасовкой, но тут раздался спасительный смех. Обстановка разрядилась. Я и не заметил, как за столом президиума произошли перемены. Место председателя занял элегантный юноша в безукоризненно сшитом костюме, из кармана пиджака торчал цветной треугольничек, и «бабочка» вместо галстука была точно такого же цвета.
— Друзья! — спокойно сказал он, одним этим словом меняя атмосферу в готовом взорваться зале. — Поменьше страстей, побольше разума! Прислушаемся к мудрым словам безвестного философа: «Истинному революционеру нужны горячее сердце, холодная голова и чистые руки». В данный момент нам прежде всего нужна холодная голова.
Я чуть не упал со своей ступеньки… Он в самом деле не знал имени «безвестного философа» или просто прикинулся? Кто он, этот председатель в богатой одежде, эрудированный настолько, чтобы цитировать «Железного Феликса»? О Боже — «истинный революционер»…
Мне снова удается овладеть своей ступенькой. Мой сосед и его подруга помогают мне. Я могу, наконец, разглядеть неряшливо одетую особу не сразу очевидного пола, которая — совсем рядом со мной — кричит, сложив рупором ладошки:
— Товарищи, то, над чем мы ломаем головы, уже продумано и обсуждено множество раз. Коммунистическая партия Франции давно предложила народу научно обоснованную, реальную программу социальных преобразований, учитывающую интересы всех трудящихся, в том числе и студенчества…
В разных концах зала раздаются аплодисменты. Они тонут в свисте, в стуке каблуков, в криках, которые невозможно разобрать. Слышу отдельные слова, обрывки фраз: «Догматики… Ревизионисты… Предали движение… Убирайтесь вон… Московские лакеи… Коммунисты — авангард нации… Коммунисты — это буржуи…» Потом все сливается в сплошном гуле.
Председателю приносят записку, и он, мельком взглянув на нее, встает. Рев мгновенно стихает.
— Друзья! — с каким-то особым значением произносит он. — Выразить свою солидарность с нами пришли… — Началась такая овация, что я расслышал лишь конец фразы. — …лауреат Нобелевской премии Жак Моно и академик Жан Ростан.
Пришедших было четверо или пятеро. Парень, оседлавший Ришелье, позабыв о том, что ноги его не имеют опоры, тоже захотел проявить свой энтузиазм и свалился. Из пришедших я узнал лишь одного: биолога, философа и писателя Ростана, сына знаменитого поэта и драматурга. Он первым и получил слово. Навстречу ему устремилась лавина аплодисментов. Академик покачнулся, кто-то подхватил его под руку.
— Я с вами, друзья мои, — раздался его надтреснутый голос. Он медленно обвел руками амфитеатр, словно собираясь всех обнять. — Я поддерживаю ваше движение.
Какое движение? Что точно стоит за этим словом? Если Ростан «с ними», значит, он против кого-то. Против кого? И против чего? Подумать над этим не удалось. Овация сотрясла зал. Все повскакали со своих мест, что-то кричали, отбивали ладоши, топали от восторга, наступая на ноги друг другу и не обращая на это никакого внимания.
Мой сосед и его девушка, согнувшись, стали протискиваться к выходу. Вслед за ними и я. В голове гудело — от шума, пения, речей, спертого воздуха, табачного дыма. Но выйти отсюда было не легче, чем сюда попасть.
У самой двери, где мы надолго застряли, чья-то невидимая рука вдруг подтолкнула меня, и я пробкой вылетел из зала, очутившись в переполненной галерее. Сотни жаждущих побывать на диспуте терпеливо ждали там своего часа. Усиленный микрофоном, уже окончательно охрипший девичий голос без устали повторял: «Каждый гражданин может получить хлеб с повидлом и стакан воды. Каждый гражданин может получить…»
В вестибюле появился новый плакат (возможно, раньше я его не заметил): «Учителя, вы хотите, чтобы мы тоже состарились?» Моложавый бородач в рабочей спецовке, не вынимая трубки изо рта, царапал на нем свою резолюцию.
Я вышел, наконец, на Сен-Мишель. Лил проливной дождь. Похоже, он начался уже давно. К Сорбонне со всех сторон спешили люди. Их поток не иссякал ни на минуту. Машины с трудом пробивались через толпу, заполнившую не только тротуары, но и мостовую. Был третий час ночи.
Забастовка солидарности со студентами становилась все более всеобщей. Начитавшись про рабочие стачки лишь в советских учебниках и различных сочинениях агитпропа, я впервые столкнулся с ней лицом к лицу. Пронесся слух, что закроются магазины. Улицы заполнили люди с тележками, доверху набитыми сумками, коробками и пакетами. У входа в супермаркет я услышал голос из мегафона — слова были до боли знакомыми, возвращавшими к родимым реалиям. Полноте ощущения мешал разве что французский язык: «Сахара в продаже больше нет. Каждый покупатель может приобрести не более одного килограмма макарон». В центре магазина толпа окружила сутулого человека с микрофоном в руке. На его фуражке было написано «Радио Люксембург».
— Почему вы стараетесь, — пытал он сильно накрашенную почтенную даму, — запасаться продуктами? Правительство заявило, что, несмотря на забастовку, доставка продуктов в Париж будет продолжаться.
— Так ведь заявления, мсье, нельзя подать к столу на обед, — разумно ответила дама.
Засмеялись не только в толпе, но и сам репортер. Задать второй вопрос ему не удалось: объявили, что макароны кончаются, и уже мгновенье спустя он остался один.
Огромный хвост тянется к банку. Утренние газеты сообщили, что банки начинают бастовать с завтрашнего дня. (Пластиковые карточки еще не изобретены — без банкнот ничего не купишь.) Больше пятисот франков в одни руки не выдают. Сумма приличная, но смотря по каким потребностям. Девяносто процентов почтовых служащих не вышло на работу. Бастуют телефонистки: позвонить в другой город практически невозможно. Забастовали мусорщики: монбланы валяющихся на улицах пустых ящиков, корзин, мешков, пакетов, эвересты банок, бутылок и склянок быстро становятся привычной деталью парижского пейзажа. Похоже, прославленная европейская столица из эпохи цивилизации начинает возвращаться в средневековье. Вскоре нечистоты начнут выливать прямо на улицы, и газеты возвестят об угрожающем нашествии крыс…
Ареной митингов становятся не только университеты. Над театром «Одеон» взвились, подсвеченные невидимым прожектором, красный и черный флаги. У входа плакат: «„Одеон“ оккупирован студентами». И еще один: «Буржуазным зрителям вход воспрещен». К нам это явно не относится: ведь мы оба из социалистических, сиречь антибуржуазных, стран.
После почти двухчасовой «осады», ближе к полуночи, все же удается пробиться сквозь штурмующую театр толпу. Нахожу «пятачок» на втором ярусе. К полураскрытому занавесу пришпилен плакат. «Бывший Одеон — штаб студенческого комитета». На сцене женщина — вижу сверху только ее макушку. «Мы с вами, нам близко и дорого ваше движение, — хорошо поставленным голосом восклицает она, — но зачем оккупировать Одеон? Он-то чем провинился? Есть другие театры, действительно буржуазные. А Одеон не буржуазный театр». «Кто это говорит?» — спрашиваю у лохматой девицы в очках с толстенными линзами. «Мадлен Рено», — почему-то с неохотой отвечает она. «Мы ставили Ионеско и Беккета», — слышится голос прославленной актрисы, жены Жана-Луи Барро. В подтексте: уж если мы ставили этих товарищей, то какие же мы буржуа? Пытаюсь усвоить, чтобы не впасть в ошибку: у нас и Беккет, и Ионеско — символы буржуазного разложения, загнивания, упадка, презренные модернисты, здесь они знаменуют собой протест, нонконформизм, воинствующую антибуржуазность.
Капка тянет меня за рукав. Ей кажется, что в Сорбонне сейчас интересней. Без большого желания покидаю с трудом отвоеванное место. Спешим к Сорбонне. Посреди университетского двора стоит рояль — на нем барабанит какой-то «лабух»: что это, иллюстрация к модной пьесе Франсуазы Саган «Рояль на траве»? Но там это знак несбывшихся надежд, рухнувших идеалов, тоски по тому, что невозвратимо. Зачем он здесь, во дворе бунтующей Сорбонны? Травы нет — ни в буквальном, ни в переносном смысле, — а рояль есть, и назначение его мне непонятно. Но что вообще понятно во всей этой дьявольской кутерьме?
Другая музыка, еще более громкая, доносится откуда-то из внутренних помещений. Маленький джаз играет весело, увлеченно. Много танцующих. еще больше целующихся парочек. В не слишком укромном, полутемном углу двора, никого не стесняясь, две пары занимаются любовью. По-моему, и на это никто не обращает никакого внимания.
В портретной галерее произошли перемены. Исчезли Бакунин и Че, их места заняли Сталин и Мао. Сталин рядом с Троцким — это даже забавно. Под портретами лозунг: «Да здравствуют идеи Мао Цзе-дуна». У маоистов свой столик, там продают цитатник великого кормчего, значки с его портретом, там суетятся юркие мальчики с кипой листовок в руках. Столик троцкистов неподалеку. Неодолимая сила мешает мне к нему подойти. С ужасом замечаю, что советские страхи во мне не исчезли: от троцкистов — подальше. Записываю в блокнот несколько лозунгов — из тех, что приклеены к стене: «Пусть де Голль или подаст в отставку или умрет», «Де Голль — болван», «Да здравствует Сталин!» — этот последний плакат перечеркнут, поверх написано: «Долой Сталина!».
«Движение» начинает буксовать — речи похожи одна на другую, все слова сказаны, все идеи обнажены, конкретная цель митингующих (ведь критика, даже полностью справедливая, всегда только средство достижения цели, но не сама цель) пока что вполне туманна. Но она, разумеется, есть — у тех, кто за кулисами, а не на авансцене. Кто они, политические драматурги и режиссеры? Или их несколько, много, и цели, стало быть, у каждого свои? тогда это грозит неизбежным столкновением интересов — с непредсказуемыми последствиями: перевозбужденная, наэлектризованная масса готова к взрыву, не хватает лишь детонатора, а его раздобыть проще всего.
Утро следующего дня начинается со звонка Капки — она взволнованно сообщает, что со мной срочно желает побеседовать постоянный советский представитель в ЮНЕСКО Вадим Константинович Собакин. Профессора Собакина я немного знал по Москве, а Капка — еще лучше: он был одним из ее руководителей в аспирантуре. Добираюсь к обеду. Мы встречаем Собакина в юнесковской столовой. Он мил, любезен, приветлив и совсем не похож на «кадровых» дипломатов, а тем паче на партаппаратчиков. Начинает издалека: каковы впечатления? Узнал, что полночи мы проводим в Латинском квартале. Это верно? Разумеется, верно, — где еще должен быть журналист, если ему привелось оказаться свидетелем таких событий?
— Конечно, конечно, — соглашается со мною профессор. — Но вы осознаете, насколько это опасно? — Я не осознаю, и Вадим Константинович берется мне объяснить. — Думаю, никто вас пальцем не тронет. Так вопрос вообще не стоит. Но ведь вы советский гражданин, а буржуазная пропаганда твердит, что студенческие волнения спровоцированы Москвой. Мы-то знаем, что это не так, и они (взмах рукою в пространство) знают тоже. Но… Представьте, что вас обнаружат в самом центре событий. Полиция ищет провокаторов, — почему бы ей случайно, совершенно случайно не наткнуться на вас? А может быть, даже и не случайно, ведь и это не исключено… Что тогда? тогда — все, с вами покончено. Вас вышлют, и Капку тоже… Политический скандал в государственном масштабе! Подумайте, как это будет выглядеть: на сходке заговорщиков обнаружен человек с советским паспортом! Представляете?!. Кто докажет, что вы оказались там не с подстрекательскими целями? Что не давали инструкций? Ни вы потом не отмоетесь, ни посольство, ни министерство иностранных дел. Вам надо посоветоваться в консульстве. Это совершенно необходимо — в интересах вашей же безопасности. Но в любом случае даю дружеский совет вечерами держитесь как можно дальше от Латинского квартала. Вам хочется вечерами гулять? Пожалуйста — по Елисейским полям. Разве это не интересно? Давайте так каждый вечер вы звоните мне домой и сообщаете, где сейчас находитесь. Ради вашей же безопасности. Договорились?
Мы действительно звонили потом Собакину — хоть и не каждый вечер, но почти. Из кафе «Клюни» или «Селект Латен». То есть из самого «пекла». Закрывали трубку рукой, чтобы не доносился уличный рев и взрывы гранат. По карте выбирали место, где бы мы по всей вероятности могли наслаждаться мирным Парижем — как можно дальше от места событий. «Хорошо», — удовлетворенно говорил Вадим Константинович и желал нам спокойной ночи.
До Елисейских полей мы все же добрались. Правда, не ночью — субботним днем. Там шла своя, привычная жизнь. Ничто не напоминало о волнениях Левого берега. Даже всеобщая забастовка не оставила ни малейших следов. Чистота была идеальной — похоже, ассенизаторы этого квартала к забастовке не присоединились.
Нежданно возле пассажа Лидо я столкнулся лицом к лицу с Робертом Рождественским. Он ездил на Каннский кинофестиваль — членом жюри. Отзвуки парижского мая докатились и до Лазурного берега: фестиваль, едва открывшись, сорвался по почину Люка Годара, Клода Лелюша, Алена Рене и их товарищей. Советская делегация (помнится, в ней были еще Александр Зархи, Татьяна
Самойлова и Анастасия Вертинская) с трудом добралась до Парижа, а вылететь в Москву не могла — самолеты уже не летали. Их все-таки вывезли: автобусом до Брюсселя, а оттуда уже самолетом в Москву.
— Троцкисты преуспели, — заикаясь, сказал Роберт, — а наши все прошляпили. Ситуация вышла из-под контроля.
Мне хотелось спросить его, кто они, эти «наши», но один вопрос мог потянуть за собой другой, там недалеко и до спора, а ночи в Сорбонне интерес к дискуссиям притупили.
Роберт успел побывать в посольстве, и теперь из его слов я извлек немало полезного: позицию Москвы. Точнее, ее отсутствие. Французские коммунисты («наши», которые все «прошляпили») не знали, как поступить, кого поддержать, кого отвергнуть, использовать ли «революционную ситуацию» или сделать вид, что таковой не существует? Власть валялась под ногами, но нагнуться не захотелось, и Москва не хотела, чтобы они захотели, и, стало быть, им не позволила. Растерянность была очевидной — «потеря темпа» (если воспользоваться шахматной терминологией) исключала для них возможность возглавил движение и направить его в желанное русло.
— Хочешь, встретимся на баррикадах? — спросил я Роберта, защищаясь шуткой от возможной реакции.
— Ты что, спятил?! — выделяя каждый слог, спросил он. — Это же строго запрещено.
Мне кажется, что, пусть и не на баррикадах, но в бурлящем Латинском квартале он все-таки побывал. Возможно, не раз. Мы там, однако, не встретились и — потом, в Москве — никогда об этом не говорили.
В разговорный обиход — в мой, во всяком случае, впервые — прочно вошло словечко «автостоп». Другого способа передвигаться по городу вскоре не стало, особенно после того, как забастовали даже такси. Стоило только зажечься на перекрестке желтому огоньку светофора, как десятки людей кидались к еще не успевшим затормозить машинам, выкрикивая названия улиц и площадей. Были рассчитаны каждое движение, каждое слово: ведь через каких-нибудь 30–40 секунд вся эта армада с ревом устремится к следующему светофору, где ее поджидает новая толпа страждущих.
Не помню случая, чтобы хоть одна попутная машина отказалась принять кого-либо «на борт». Правда, порой на пути к цели приходилось менять по четыре, а то и по пять машин. Зато случалось, что водитель делал изрядный крюк, чтобы доставить меня точно по адресу. В первый раз за добрую эту услугу я протянул водителю пять франков (не нынешних, а полновесных!). Отклонив мою руку, он направил зеркальце под нужным углом и уставился на меня.
— Месье, вы откуда?
— Из Болгарии, — соврал я, решив, что в случае чего язык меня не подведет.
— Это где? — нахмурился он.
— Далеко…
— Оно и видно, — с укоризной сказал водитель.
Путешествия автостопом, конечно, сохраняли силы, но не давали слишком большого выигрыша во времени. Машина стала единственным средством передвижения, и никто не держал ее в гараже. Пробки, от которых Париж страдал только в часы «пик», теперь возникали в любое время суток. В какой-то газете я увидел фото находчивого господина, успевшего съесть в бистро бифштекс, пока его плененная «симка» терпеливо дожидалась своего освобождения посреди бульвара Капуцинов.
Застрявших в Париже иностранных туристов бесплатно катали по Сене на прогулочных корабликах. По вечерам им почти некуда было податься. Забастовали театры. Начали Гранд-Опера и Опера-комик. Потом — остальные. Закрылись даже кабаре на Монмартре. Актеры и техперсонал захватил «Фоли-Бержер». Его владелица, мадам Дерваль, сделала заявление: «Обычно нас захватывали только туристы со всего света». Но некоторые мюзик-холлы все же работали. Жюльетт Греко давала концерты в пользу бастующих. Попасть не удалось: изголодавшиеся по парижским развлечениям иностранцы раскупили все билеты. Профсоюз актеров одобрил оккупацию Одеона студентами, назвав ее символическим отрицанием буржуазной культуры и буржуазного театрального искусства. А вот Ален Делон (он играл тогда в театре «Жимназ») примкнуть к стачке отказался: понуждение к ней, заявил он, это посягательство на свободу творчества: «Кому нужна стачка артистов? Ведь спектакли не есть нечто жизненно необходимое, их отмена не ведет ни к каким результатам».
Поздним вечером снова прохожу мимо Одеона. Над зданием черный флаг. Изнутри доносится гул — дискуссия продолжается. У входа — новый плакат «Прежде всего не соглашайся с самим собой!» Знают ли те, кто его повесил, что это парафраз любимого афоризма товарища Маркса: «Подвергай все сомнению»?
Тот рыжий парень, что возглавлял стотысячное шествие после первой битвы студентов с полицией, гражданин ФРГ и студент университета в Нантере Даниэль Кон-Бевдит, был объявлен главным смутьяном и виновником всех последующих событий. Воспользовавшись его поездкой в Западный Берлин (хотел разжечь пожар «мировой революции»?), французские власти запретили ему обратный въезд. Какая-то газета обозвала его «немецким евреем». На демонстрацию протеста вышло тридцать тысяч человек — по оценке полиции, вдвое больше — по оценке самих демонстрантов. В течение всего пути, особенно перед зданиями Палат депутатов и Сената, они скандировали: «Мы все — немецкие евреи».
Оторвавшись от первоисточника, фраза стала крылатой и многомерной. В одной из пьес Ануя, поставленной много позже в Москве, кто-то из персонажей произносит ее — без всяких, разумеется, пояснений, — иносказательно и иронично. Не зная ее происхождение, можно ли было понять, почему вдруг французы выдают себя за немецких евреев? И можно ли было себе представить, что тридцать лет спустя рыжий бунтарь Кон-Бендит окажется уже вице-мэром города Франкфурта, депутатом Европарламента и на новых выборах 1999 года возглавит кандидатский список всех европейских «зеленых»?
После демонстрации бульвар Сен-Мишель превратился в арену жестоких схваток. Не имея, видимо, приказа разгонять студенческую толпу, цепи полицейских, вооруженных дубинками и гранатами со слезоточивым газом, снабженные щитами для защиты от камней, молча наблюдали за тем, как возводятся баррикады. Строительным материалом служили паркированные неподалеку машины, не убранная вовремя мебель из ближайших бистро, развороченная брусчатка мостовой, старая сантехника, упаковочные ящики, корзины для мусора — все, что попало под руку.
Я наблюдал за этой красочной мизансценой с террасы кафе «Селект Латен», чувствуя себя зрителем на импровизированном спектакле. Внезапно из рядов полицейских в сторону баррикады, перегородившей бульвар ближе к Сорбонне, полетел какой-то предмет, и очень скоро я почувствовал — сначала несильную — резь в глазах. Кафе опустело мгновенно, многие убегали не расплатившись — их никто не задерживал.
Была уже полная тьма, фонари не горели. Бульвар освещался только светом витрин и окон — по какой-то необъяснимой причине эта «подсветка» лишь подчеркивала темноту. Внезапно неподалеку вспыхнуло яркое пламя — подожгли перевернутую машину. Намеренно или случайно, это послужило сигналом для обеих сторон. В полицейских полетели камни, гулко ударяясь о металлические шиты. Запомнились четверо современных гаврошей, уморительно стрелявших в полицейских из ладно сработанных рогаток. Полицейские, выставив шиты вперед, стали приближаться к баррикаде. Почему они не сделали этого раньше? Теперь на их пути было препятствие, преодоление которого требовало усилий, а возможно, и жертв.
Стоустый рев восторга огласил бульвар — это рухнули огромная рекламная тумба и фонарный столб возле нее. Баррикада укрепляла свои позиции, полицейские приближались, готовые, как видно, вступить в рукопашный бой. Слезоточивый газ разъедал глаза.
В тот вечер я еще не знал, что единственным, да и то весьма относительным, средством спасения является обильно смоченный носовой платеж. Пришлось ретироваться. Добравшись до острова Сиге, мы позвонили Собакину.
— Ни в коем случае не ходите в Латинский квартал, — взмолился он. — По радио передали, что у Сорбонны идут бои.
— Что вы, что вы!.. Мы на Больших бульварах.
— Вот и правильно. Приятной прогулки.
Из всех наших парижских знакомых только к Доминику де Ру можно было прийти в любое время и без предупреждений. К нему мы и решили отправиться. Этот блестящий эссеист, писатель, издатель, редактор дарил нас дружбой, знакомя с множеством интересных людей. На этот раз он был один. Мы позволили себе оторвать его от работы на полчаса, но он, похоже, был рад такому вторжению. Скепсис его был созвучен моим впечатлениям.
— Чего они добьются? — рассуждал он. — Только того, что личная власть укрепится. — Термин «личная власть» вошел в обиход, став привычным эвфемизмом диктаторских притязаний де Голля. — Генерал ни за что толпе не уступит, беспорядка не потерпит, это не в его нравах, на силу он ответит силой. Многие боятся коммунистов, но французские товарищи растеряны, о революции они умеют только рассуждать, делать ее им боязно и неинтересно, а Брежнев озабочен Прагой, ему не до наших проблем. К тому же лучшего союзника, чем де Голль, он не найдет и в обиду его не даст. Зачем ему коммунисты у власти в Париже? Одна морока. Анализ поразил своей парадоксальностью и дал понять, сколь плохо я осведомлен о расстановке политических сил.
— Есть же какая-то причина для этих волнений, — сказал я, — иначе они не обрели бы такой масштаб.
— Есть, но не только во Франции. Почему одновременно восстает Чехословакия, идут молодежные бунты в Белграде, неспокойно в Польше, где перевертыш Гомулка ищет защиту в антисемитизме, в Англии появились «сердитые молодые люди», молодежь бунтует в Мексике, Японии, Швеции, в европейских столицах полно маоистов и геваристов? Вое это явления одного порядка, глобальные, а вовсе не классовые, как утверждает марксистская догма. Мир хочет перемен, но еще не знает, каких.
Два дня спустя мы были в гостях у его матери — в роскошном апартаменте на бульваре Сен-Жермен. Пришли и его братья, ставшие потом моими друзьями: адвокат Ксавье и студент, впоследствии журналист, Эммануэль. В респектабельном доме потомственных французских маркизов ничто не напоминало о бурных событиях, происходивших совсем поблизости. Серебряная посуда, безупречно корректный лакей, светская беседа, которую умело направляла хозяйка дома, побуждая разговориться гостей «оттуда» — первых, которых ей довелось увидеть. Вдруг младший из маркизов, Эммануэль, взглянул на часы и поднялся, не дождавшись десерта.
— Мне пора на баррикады, — сказал он.
Мать опустила глаза, старшие братья ухмыльнулись, какое-то время висела напряженная тишина, пока хозяйка не вернулась к прерванной беседе.
Полтора часа спустя мы были тоже «на баррикадах». Найти Эммануэля в толпе, разумеется, не удалось. Впоследствии я не раз напоминал маркизу о том эпизоде — он старательно уклонялся от темы. Память о «парижском мае», мне кажется, чем-то его смущала. Смущает и до сих пор. Только ли его одного?
Солнечным, хотя и не по-весеннему холодным днем нашел я эту розовую афишку. Точнее, она сама нашла меня. Ветер, налетевший с Сены, поднял в воздух водоворот бумажек, которыми был замусорен весь Левый берег. Одна из них и угодила мне в руки. Оказалось, это не листовка, а приглашение посетить выставку художника Франсуа Карлея, открывшуюся несколько дней назад. Имя художника ничего мне не говорило, но на выставку я все же решил пойти: ее название — «Звучащая живопись» — возбуждало любопытство.
Возле дома с номером, обозначенном в розовой афишке, я тщетно искал стрелку, которая вела бы к выставке. Кругом не было ни души: дом был явно присутственный, хотя и без вывески, и, как большинство таких домов, он скорее всего бастовал. Из подъезда выскочил довольно молодой еще, но изрядно облысевший человек с солидным брюшком и непропорционально короткими руками.
— Прошу вас! — засуетился от. — Прошу, прошу… Проходите, мне очень приятно… — С мужественной прямотой он поспешил заверить, что это не просто формула вежливости. — Вы мой первый посетитель. Первый!
Мы прошли в какое-то помещение, напоминавшее захламленный, но просторный амбар, где на почтительном расстоянии друг от друга были развешаны полотна, один взгляд на которые позволял усомниться в успехе затеянной выставки. Впрочем, к картинам полагалась еще и музыка. Карлей хлопнул в ладоши — из приоткрывшейся занавески выглянула всклокоченная рыжая голова господина лет тридцати.
— Композитор, — представил его Карлей. — Жан-Марк, достаньте бордо, ведь это же наш первый посетитель.
Мы уселись в кресла с обломанными ножками, сиденье подо мной качнулось и поплыло, я чуть было не разлил свой бокал. Заиграла музыка — «электронно-синтетическая», уведомил композитор. Спрашивать, что это такое, не имело смысла. Слушать ее Карлей не дал — его распирало. Сообщил, что сам он немец, но «в этой стране» лучше подписывать картины французским псевдонимом, тем паче, что там, где у него ателье, на острове Сен-Луи (надо же, он еще и сосед!), «господствует французская спесь».
— Провалилась выставка! Мы готовили ее десять лет. Ни одна галерея не захотела связываться с нашим оригинальным искусством. Я взял все в свои руки: помещение, проспекты, афиши… Ухлопали уйму денег, устроили вернисаж, пригласили прессу, коллег… Никто не пришел. Проклятая забастовка! В другое время пришли бы, выпили, поели бы задарма. Потом кто-нибудь тиснул бы статейку-другую. А сейчас никому нет дела до искусства. Вместо выставок слоняются по баррикадам. Тоже, знаете, живописно: костры, вдохновенные лица…
Музыка смолкла, осмотр закончился, и в бутылке уже не осталось ни капли.
— Если бы вы знали, — вздохнул Карлей, когда мы вышли во двор, — как они мне противны! Борцы за идеи, ревнители справедливости… Да какие это борцы?! Марионетки в умелых руках. Пахнет очень большой политикой, а где большая политика, там и большие деньги. — Заметно потеплело, и он подставил солнцу усталое, бледное лицо. — В такой день сидеть бы на террасе, пить кофе, читать какой-нибудь глупый роман про страстную любовь или загадочное убийство. Ей-Богу, в этом больше смысла, чем в их баррикадном безумии. Вы согласны?
Недели две спустя, в одну из самых драматичных ночей, когда город содрогался от разрыва слезоточивых гранат, холостых выстрелов, воинственных криков и треска гигантских костров, защищавших баррикады анархистов, я шел по улице Регратье на нашем маленьком островке. Фонари не горели, и в темноте я едва ж наткнулся на парочку, остановившуюся, чтобы поцеловаться, в двух шагах от меня. Когда они обнявшись поравнялись с освещенным окном, мелькнуло знакомое лицо, и я не сразу сообразил, что это Карлей. Он счастливо улыбался и что-то шептал своей даме, которая показалась мне прелестной и юной. Они дошли до угла и, схватившись за руки, вприпрыжку, как дети, побежали к мосту — навстречу крикам и взрывам.
Уезжая на целых три месяца из Москвы, я получил разрешение на отпуск в коллегии адвокатов, где все еще тогда состоял. Председатель коллегии Василий Александрович Самсонов попросил меня «не терять в Париже времени даром», а собрать материал о знаменитых русских адвокатах-эмигрантах, чтобы сделать потом доклад в коллегии — «аккуратный, без перегибов и перехлестов». Словом, такой, чтобы не перехвалить…
Не зная толком, чего мне надо искать, я рассказал про это задание Софье Юльевне Прегель — поэту, редактору, издателю, которая в годы войны создала в Америке знаменитый журнал «Новоселье», приютивший под своей обложкой бежавших из оккупированной Европы русских писателей. Мы сидели в столовке Рахманиновской консерватории — за столом, покрытым видавшей виды клеенкой, и ели «битки с гречкой», а потом еще и кисель: совсем нарпитовская еда, зато из свежих продуктов. Вся атмосфера возвращала меня в ту Москву, про которую я знал только из книг.
— Каких адвокатов вам нужно? — деловито спросила Софья Юльевна
— Маклакова, пожалуй. И, наверное, Грузенберга…
— Вы получите их обоих, — возвестила Софья Юльевна таким тоном, словно только и ждала этих имен.
Уже к вечеру того же дня она подъехала к нашей «ночлежке» на ослепительно шикарной машине, за рулем которой сидел непроницаемо молчаливый шофер. Это было так странно: эмигрантский литератор первой волны, обреченный, казалось, на гордую нищету, — и огромная представительская машина, шофер в ливрее, и все это в бунтующем Париже, вопящем про проклятых буржуев. Откуда мне было тогда знать, что брат Софьи Юльевны — Борис Юльевич Прегель — бизнесмен и в то же время крупный ученый-атомщик, президент нью-йоркской Академии наук и ректор французского университета в Нью-Йорке?
Его-то машина и повезла нас в Нейи к племяннице Софьи Юльевны — дочери Бориса Юльевича, который первым браком был женат на дочери выдающегося дореволюционного адвоката Оскара Осиповича Грузенберга. Второй супругой Бориса Юльевича Прегеля была, кстати сказать, дочь лидера эсеров Николая Дмитриевича Авксентьева. Мир мал и тесен — эта истина давно уже стала банальностью. Теперь она получала еще одно подтверждение.
Буквально перед самым отъездом из Москвы по какому-то случаю я рассматривал альбом репродукций Валентина Серова и наткнулся на его двойной портрет Грузенберга с женой Розой Гавриловной (довольно язвительный, между прочим, долг и заказан самим адвокатом). В примечаниях было сказано: «Местонахождение портрета неизвестно». Что должен был ощутить «московский товарищ», поднявшийся на второй этаж богатого особняка на улице Виндзор номер один, вблизи Булонского леса, и столкнувшийся лицом к лицу не с репродукцией, а с пропавшим оригиналом?! Елена Борисовна и ее муж Поль Кривитски (родом из Польши) оказались милейшими людьми, рассказ о судьбе которых увел бы нас далеко в сторону. К сожалению, уже через два года я потерял их из виду и с тех пор ничего о них не знаю.
Супруги Кривитски не случайно жили в таком комфорте. Поль работал в процветающей фирме, имевшей очень тесные торговые связи с Советским Союзом и странами так называемой «народной демократии». Там эту фирму привечали с величайшей любезностью, не в пример куда более богатым и мощным. Вряд ли для кого-нибудь была загадкой причина такого успеха. В реальности эта якобы частная фирма принадлежала французской компартии и служила простейшим, притом квазилегальным способом перекачки советских денег на ее нужды. Модель была поистине идеальной и беспрепятственно использовалась многие годы: Москва получала из Франции то, что было ей нужно, платя за это не проклятым капиталистам, а своей пятой колонне.
Впоследствии я познакомился с еще одним бизнесменом из той же команды. Фамилия его была Жэнден — если ее лишить французского произношения, она обретет свое родовое звучание: Гиндин. Через его посредство братской французской помогала братская болгарская. Никто не оставался в накладе, так что кличка, которой бунтующие студенты награждали французских товарищей («буржуи»), с тех пор уже не казалась мне слишком далекой от истины. Бежавший от большевиков Оскар Осипович Грузенберг, чьим именем названа улица в Иерусалиме, вряд ли мог предположить, сколь неожиданным образом его нисходящие будут связаны с теми же большевиками.
Мне хотелось, раз уж выдался такой случай, поговорить с Еленой Борисовной о ее знаменитом деде (одном из защитников Бейлиса, адвокате, чьей юридической помощью пользовались Чехов и Горький), но Поль был склонен обсуждать все то же: чем завершатся начавшиеся волнения и как это отразится на отношениях с Советским Союзом. «Затишье перед бурей» — так определил он молчание властей и пассивность компартии. Он был убежден, что в конфронтацию вот-вот вступят более мощные силы.
Беседа была исключительно интересной, прием, оказанный нам, исключительно теплым, а я постыдно ловил себя лишь на одной мысли: не пропустим ли мы чего-нибудь важного, опоздав к началу боев? Кажется, не пропустили.
Было за полночь, когда Софья Юльевна довезла нас до парижской мэрии, оттуда кружным путем, обойдя полицейские цепи, мы пешком добрались до площади Сен-Мишель. Очередная битва только-только еще началась, первые слезоточивые гранаты были брошены почти через час.
Глава 17.
… Которому имени нет
Софье Юльевне я обязан еще одним знакомством: помогая мне в поисках материала об одном из корифеев старой русской адвокатуры, политическом деятеле и дипломате Василии Алексеевиче Маклакове, она свела меня с автором книги о нем. Этим автором был Георгий Викторович Адамович.
В то время на родине он был известен лишь в очень узких кругах, но зато как известен! Какие-то отзвуки славы «первого критика» эмиграции до Москвы все же дошли. Статьи Георгия Адамовича, печатавшиеся главным образом в парижской русскоязычной прессе, его устные высказывания нередко служили приговором писателю — восторженным, благожелательным, холодным, уничтожительным…
Меньше были известны его стихи, которым, перефразируя Цветаеву, в чьей жизни Адамович сыграл драматичную роль, «как драгоценным винам, настанет свой черед». И черед, как теперь мы знаем, настал. тогда все это казалось почти несбыточным, но тяга к Адамовичу была велика в самых разных литературных кругах. Имя его обладало неповторимой аурой и помогало людям с таким же настроем души и с таким же отношением к эстетическим ценностям найти друг друга.
Он ждал меня в любимом своем кафе, которого больше не существует «Мариньян» на Елисейских полях, неподалеку от дома без лифта на улице Фредерика Бастиа, где под самой крышей, на шестом этаже, — в двух комнатках, предназначенных некогда для горничных, — он жил. На месте бывшего кафе, рядом с агентством Аэрофлота, теперь дорогая, но ничем не примечательная пиццерия: каждый раз, проходя мимо, я заглядываю в окно, пытаясь отыскать место, где был стол, за которым мы обыкновенно сидели.
Адамович выглядел много моложе своих семидесяти шести лет. Гладко зачесанные русые волосы без всяких признаков седины, зеленовато-серые глаза с голубой каемкой — таким он запомнился мне с первой встречи. У него была поразительная манера не смотреть собеседнику в глаза — куда-то в сторону, в одну точку, чуть прищурившись, не мигая, что не мешало ощущать полнейший контакт с ним и его заинтересованное внимание. О студенческом бунте Адамович отзывался снисходительно-иронически, с умудренностью человека, который видел еще не такое. «Баррикады и около», «ночные спектакли Сорбонны» — эти два его выражения запомнились мне, я их записал в ют же день.
— Смотрите, смотрите, — советовал он, — набирайтесь впечатлений. Но только не увлекайтесь. От увлечения до влюбленности один шаг. Революции захватывают, завлекают, потом начинаешь скучать без их дешевой романтики. В Петербурге (он ни разу не сказал: Петроград) — в семнадцатом и позже — было тоже много веселого, от чего хотелось не смеяться, а плакать.
Через два года, все в том же «Мариньяне», он спросил меня:
— Ну, рассказывайте, как вам Париж без революций? Уныл и скучен? Или все же избавились от своих восторгов? — Я хотел возразить, но он остановил меня жестом. — Не спорьте, не спорьте, я видел, как вы были увлечены. У вас горели глаза, когда вы рассказывали про битву с полицией.
Как он сумел увидеть горящие глаза, ни разу в них не заглянув? Неужели точно подметал то, что я сам про себя не знал? Впрочем, думаю, та увлеченность, о которой говорил Адамович, на самом деле была всего лишь естественным любопытством. Ощущением личной причастности к событиям историческим. Историческими они и были — с каким знаком, вопрос другой. Я воспринимал их как журналистскую экзотику, как материал для рассказов, у Адамовича были совсем иные ассоциации и иной на них взгляд.
К счастью, мы говорили не только о бунте, тем более, что встреч наших было много, и Адамович ни разу никуда не спешил: ясное дело, ему был интересен не я как я, сам по себе, а как литератор «оттуда», — он с жадностью ловил каждое слово, которое несло хоть какую-то информацию, и сначала предпочитал слушать, а не говорить. Монолог в диалог превратился не сразу. Помню, меня сразило одно его утверждение, расходившееся с тем стереотипом, который у нас сложился.
— У вас представляют Горького как личность сильную, волевую. А на самом деле он тряпка. Человек исключительно слабый, им можно было вертеть во все стороны. Его людоедская формула «Если враг не сдается, — его уничтожают» ни в какой мере не выражала его взгляды, она была ему навязана, внушена и затем использовалась как лозунг для оправдания террора.
— Вы защищаете Горького? — нарочито спрямляя проблему, спросил я, лишь для того, чтобы получить уточнение: мне не хотелось оказаться впоследствии слишком вольным интерпретатором его мыслей.
— Я его жалею, — поняв меня, ответил Адамович. — Ручаюсь вам, Пушкин с его чувствами добрыми или заключительные страницы толстовского «Воскресения», где Нехлюдов читает Евангелие о всепрощении, ему были гораздо ближе, чем эти злобные проклятия в угоду Сталину. Но, согласившись на роль раба, человек уже не может выражать свои истинные чувства. Раб он и есть раб. И это очень прискорбно.
Я напомнил о том, как много Горький сделал, заступаясь перед Лениным за гонимых и спасая их от чекистско-большевистского террора. И как он страдал от своей неудачи: не сумел спасти Гумилева.
— Заступался, — подтвердил Адамович. — И даже порою успешно. На него тогда многие возлагали надежды. А за Гумилева он не бился, это легенда, им самим сочиненная. Или кем-то из его окружения. Не бился, потому что боялся: двадцать первый год — не девятнадцатый, многое уже поменялось, власть над людьми была полностью у «чеки» (так он сказал), а не у Кремля. Чека его ненавидела, и он это знал. В ее дела ему было лучше всего не соваться. И в Кремль — тоже: в августе двадцать первого его слово уже вообще ничего не значило. Если бы значило, — никуда бы он не уехал. До эмиграции оставалось только два месяца, ему было не до Гумилева.
Горького Адамович ценил, но апологетом его, разумеется, не был. И, чтобы я это с достоверностью понял, дважды мне сообщил, что «Клим Самгин» (ударение делал на первом слоге) — далеко не «Война и мир».
— Вот это, — спросил язвительно, — вы могли бы без риска высказать в Москве? Вы уверены, что смогли бы?.. Ну, а то, например, что Маяковский не самый великий поэт даже вашей советской эпохи?
Моя усмешка была ответом — другого он и не требовал. Он не заказывал себе ничего, кроме минеральной воды «Витель», а меня чуть ли не принуждал съесть пирожное — их развозили по столикам на специальной тележке. Расплачиваясь, пододвигал монетки официанту длиннющим ногтем мизинца на правой руке, как лопаточкой фишки — в казино. От любовно отполированного его ногтя было трудно оторвать взгляд. Адамович прослыл отчаянным игроком, это знали все, кто с ним общался, и руки у него были характерные — типичные руки рулеточника, чуть дрожащие, при спокойно-невозмутимом выражении лица.
— Ешьте, не скромничайте, — слегка грассируя, убеждал он тонким, но не режущим слух голосом. В нос, совсем по-французски. Это удивительно шло ему, казалось не приобретенным во Франции, а привезенным из России. — Где вы в Москве найдете такие гато (gateau — по-французски пирожное)? Вот я приеду в Москву, вы угостите меня икрой, и я не откажусь, обещаю вам. Буду есть ее ложками.
Шутка была грустной: он знал, что никогда в Москву не приедет.
— Не дадут визы?
— Да если бы и дали!.. Странно ехать на пепелище, где даже нет родных могил. С какой стати?
Это было в шестьдесят восьмом, а два года спустя, когда мы встретились снова, он вернулся к той же теме. Повторил про икру ложками и тут же добавил:
— Мы виделись тут с Вознесенским, он меня уверял, что Адамовича будут издавать в России и даже изучать в университетах. Мне тоже, поверьте, так кажется, но ведь я до этого не доживу.
Почти тридцать лет спустя я прочитал в одном из эссе Евтушенко, будто «Георгию Викторовичу и присниться не могло, что когда-нибудь все его статьи, даже крошечные, будут бережно собраны в той самой России, когда-то вытолкнувшей его в эмиграцию». Свидетельствую с полной категоричностью: Адамовичу это не только снилось — он непреложно был убежден в этом, ибо, как всякий творческий человек большого масштаба, знал свое место в литературе и понимал, что точно так же это знают другие. Не политики и политиканы, не завистники и конкуренты, а люди с определенным уровнем культуры, вкуса и объективности. И еще он знал, что большевистская вакханалия разрушительства, отторжения и «социально-классового» культа плебейства не вечна. Адамович любил Россию и верил в Россию больше, чем ее «патриоты». И вообще — совершенно иначе. Он знал, что вернется. Но, увы, не телесно, а только духовно.
Георгий Викторович не поехал и в Варшаву, где жила его сестра Татьяна. («Потому что это полусовдепия?», — спросил я. «Полу, но не совсем», — возразил он.) Когда-то очень недолго (впрочем, почти три года — не так уж недолго) в Татьяну был влюблен Гумилев, посвятивший ей первое издание своего сборника «Колчан». Адамович, похоже, мечтал, чтобы эта влюбленность завершилась браком. Но она так не завершилась, хотя сын Татьяны, Орест, был скорее всего и сыном Гумилева. Связь и с Ахматовой, и с Татьяной (впоследствии она стала видным польским балетмейстером Высоцкой — по мужу) оборвалась практически одновременно… Вое это, мне кажется, каким-то образом (возможно и неосознанно) влияло на отношение Адамовича к Анне Андреевне. Воспоминания о том драматичном романе не могла не держать в голове и Ахматова, — это, наверно, как-то влияло и на ее отношение к Адамовичу. Возможно, я и ошибаюсь: любовь, ревность, обиды, неутоленные желания, обманутые надежды — все это дело тонкое, судить о нем со стороны можно только предположительно.
— Я был близок к Гумилеву, — рассказывал Адамович, — но не любил его как поэта. Стихи его холодны, а поэзии быть холодной противопоказано. Он был выдумщик — и в стихах, и в жизни. Сестре моей он сделал предложение в более чем странной форме. Не испросив даже ее согласия на замужество, сказал ей: «В первую брачную ночь вы войдете в спальню нагая, а я — через другую дверь во фраке и с хлыстом». Мы долго гадали, что бы это могло значить? Я сам слышал, как он говорил: «Я пойду в поход на Индию, если мне позволит император».
— Он просто шугал, — вставил я.
— Ручаюсь вам, говорил совершенно серьезно. А вот гибель его мне совсем не понятна. Кому он мешал, этот блестяще талантливый фантазер? Чем мог навредить большевикам, которым ревностно служил? Чего они так на него ополчились?
— Не потому ли, что — с нами, а не наш?
— Возможно… — кивнул Адамович и потом долго молчал, отведя в сторону взгляд и уставившись в одну точку.
Очень охотно, с подробностями, говорил об Ахматовой.
Осознавая, что такое «эккерманство» может нарушить естественность беседы, я попросил, однако же, разрешения записывать за ним эту часть его рассказа. Вопреки моему ожиданию, Адамович охотно согласился: ему явно хотелось, чтобы и устные его мемуары сохранились в какой-то форме. Вот эта запись — такая, какая была сделана мною в кафе «Мариньян» 31 мая 1968 года.
«Ахматова позвонила мне сама из Лондона перед своим приездом в Париж и попросила о встрече. Я мечтал об этом и был счастлив, что наши желания совпали. Мы просидели часов шесть в ее номере в отеле „Наполеон“. Меня больше всего поразило, что я увидел красивую, величественную старуху, а сорок лет назад, когда мы в последний раз виделись в Петрограде, это была тонкая, худая, смешливая женщина. Я сказал ей, что недаром ее сравнивают с Екатериной Великой. Она приняла это с полной серьезностью. „Я была лучше, чем Екатерина…“ Почему была? — возразил я. — Вы — есть… — Она никак не отреагировала.
В молодости она отличалась — не застенчивостью, нет, но — молчаливостью. Даже, когда в „Цехе поэтов“ обсуждали стихи, Ахматова предпочитала молчать и внимать Гумилеву, изредка вспыхивая коротким смешком. А теперь стала говорлива. („Вы это с осуждением?“ — прервал я его. „Нет, просто отмечаю“.) Стала очень уверенной в суждениях, властной, непререкаемой. („Не оттого ли, — спросил я, — что чувствовала себя наследницей великой литературы?“) Возможно. Но ведь и Блок это чувствовал, однако я хорошо помню его неуверенность, он все время сомневался в точности своих суждений. И в масштабе своего таланта.
Все дело в характере. Ахматова вела себя, как царица. Не вдовствующая, а правящая… Года за два до этого я виделся в Париже с Паустовским, он мне признался, что в присутствии Ахматовой робеет, как школьник. И ничего не может с этим поделать. Я в полной мере оценил его впечатление, лишь встретившись с Ахматовой сам.
Кроме меня, она не захотела никого здесь видеть. Особенно свою французскую переводчицу. Объяснила мне так: „Та сочинила вздор, будто я была влюблена в Блока“. И ведь верно — это чистый вздор. Переводчица при мне ей позвонила — Ахматова сказала: „Я занята, и вообще у меня в Париже на вас нет времени. В Москве? Я там редко бываю. В Ленинграде? Когда приедете, позвоните, но ручаться, что мы увидимся, я не могу“. Так беспощадно могла отнестись к своей переводчице только Ахматова. Другие бы не решились. Я оценил то исключение, которое она сделала для меня. Тем более, что она дважды сочла необходимым сказать: „Я знала, что вы всегда не любили Гумилева“.
Она не стеснялась в оценке некоторых своих современниц. Несколько раз повторила: „Ненавижу Инбер и Шагинян“. Об Инбер говорила даже не с ненавистью, а скорее с презрением. Не могла ей простить ее гнусность. То, что та помешала Цветаевой получить место в елабужской столовой. То есть просто сунула ее в петлю. Хотя о самой Цветаевой говорила довольно сухо. (Я напомнил, что Цветаевой Ахматова посвятила несколько совсем не „сухих“ стихотворений.) Может быть, может быть… Но говорила сухо.
Про наши отношения с Цветаевой создано много легенд, мало похожих на истину. Мы практически почти не встречались, разве что на общих собраниях и вечерах, и это огорчительно. Впрочем, об этом есть мои стихи. („Они хорошо известны“, — подтвердил я. Он был тронут. Помолчал.) Цветаева — значительный поэт, а прозаик просто превосходный. Но я не все мог принять, не все…
(Впоследствии в печати появились сообщения, что Адамович полностью пересмотрел свое прежнее отношение к Цветаевой, отказался от того, что писал раньше о ее стихах. За воспроизведение его новых, устно высказанных оценок несут ответственность те мемуаристы, которые это утверждают. Я привожу точную запись, сделанную мною непосредственно в ходе беседы с Георгием Викторовичем Адамовичем.)
Получил недавно одно письмо из России — мне пишут, что я не понял ее стихи. Здесь тоже меня упрекали ее поклонники, причем еще очень давно: не понял, не понял! Почему же не понял? Что в них есть такого, что мне не под силу понять? У Цветаевой был дух противоречия — и в жизни, и в творчестве. Она постоянно носила маску — опять же: и в жизни, и в стихах, создавала впечатление, будто ее испепеляет какой-то внутренний огонь. Ее потенциал, мне казалось, был меньше поэтических амбиций, и поэтому она должна была все время искусственно поддерживать гаснущий пламень. Отсюда надрыв, судорога в ее стихах. У нее много откровенно слабых стихов, гораздо больше, чем может себе позволить крупный поэт. Поверьте, я относился к ней с полным уважением, с пониманием значительности ее дарования. И жалел ее, особенно после истории с Эфроном, — она тогда очень страдала, нуждалась в сочувствии и ждала его.
Сейчас, когда есть возможность прочитать и осмыслить ее творчество с дистанции времени, я вижу, что ее потенциал гораздо больше, чем мне тогда казалось и чем он проявился в ее стихах И все равно: в литературе должен остаться поэт, а не миф о поэте. Опасность мифотворчества существует, истоки ее мне понятны. Очень, очень большое значение имеет трагическая судьба. Она неизбежно оказывает влияние на восприятие и самих стихов. Тот, кто искренне полагает, будто оценивает стихи Цветаевой сами по себе, в отрыве от ее судьбы, заблуждается. Он держит эту судьбу в своем подсознании…
Ужасная судьба, одна из самых горьких в истории русской литературы. Возможно, не только русской… Но ведь стихи нельзя оценивать по этому признаку. Вы хоть режьте меня, но о стихах я могу сказать лишь то, что думаю, а не то, что хотят услышать про автора, который по-человечески вызывает симпатию, жалость и сострадание.
(Я подумал, что не выносивший его Набоков исходил, возможно, из тех же критериев, выводя Адамовича в „Даре“ под именем Христофора Мортуса. Но, конечно, и вида не подал…)
Так вот — про Ахматову. Она охотно говорила о своем отношении к писателям — прошлым и нынешним. Сказала, что от чтения Достоевского становится больной. Если бы призналась, что не любит Баратынского, я счел бы, что она потеряла слух. (Мне до сих пор не понятно, в какой связи он упомянул Баратынского. Жалею, что не спросил.) А если бы… Если бы сказала, что не любит „Анну Каренину“ (это в ответ на мой рассказ о встрече с Ахматовой, когда она высказала свое отношение к толстовскому роману), я просто ее убил бы… Бунин перед смертью ничего, кроме „Анны Карениной“, не признавал. В последний, кажется, раз, когда я его видел, он наизусть читал сцену встречи Анны и Вронского на платформе.
Было заметно: если Ахматова с чем-то не согласна, или что-то ее раздражает, или предмет разговора не интересует ее, то молчит. Полемики избегала Бродского считала лучшим поэтом. Боюсь судить, возможно… Лучший — превосходная степень… Таких оценок я избегаю: поэзия все же не спорт… Я читал Бродского, Кушнера, Соснору. Это очень значительно, очень, в этом нет никакого сомнения… И все из Петербурга. Как странно, не правда ли? Нарождается мощная поэзия. Дадут ли ей развернуться? Ахматова сказала „Вот мне же не давали. И что из этого вышло?“ Я подтвердил: „Вышло неплохо“. „Благодарю вас“, — надменно произнесла Ахматова
Я высоко ценю Евтушенко и Вознесенского, признался ей в этом. Ахматова не оспаривала их талант, но сказала, что рядом с Бродским таких поэтов как бы и нет. Вообще? Почти… „Эстрада не поэзия, — сказала она. — Это другой жанр“. Я возразил, кажется, более резко, чем следовало. Она опять промолчала. Зато, когда я называл другие имена, она не молчала. Очень талантлива Алигер. (Я снова прервал его: „Мне говорили, что об Алигер она отзывалась с иронией и за глаза называла ее Алигерицей“.) Ну, за глаза друг друга называют по-всякому. Я считаю Алигер очень талантливой и сказал об этом. Сказал еще, что прекрасны стихи Новеллы Матвеевой. Никакой иронии у Ахматовой я не заметил. Она не восторгалась этими поэтами, но согласно кивала. Восторгалась она только Бродским.
(Я назвал еще одно имя: Юнна Мориц. Адамович о ней ничего не слышал. Несколько стихов я по памяти ему прочитал.)
Вот вам, пожалуйста, тот же случай, что и с Цветаевой. Вы прочитали хорошие стихи. Это не мой поэт, но я же в состоянии понять, сколь значительно дарование.
Вернемся к Ахматовой. Конечно, ее заслуга огромна — в том, что осталась в России, со своим народом. Кажется, это ее слова из поэмы. („Из Реквиема“, — подсказал я.) Да, да… Но зачем этот вызов, эта гордость? А те, кто не остался, — так уж ли они не правы? И объективно, и субъективно? В чем их вина? Перед кем? Дело даже не в том, что многие, не уехав, просто погибли бы в тридцатые годы. Но и выжив, они не сказали бы многого. Голос русской мысли — философской, научной, художественной — просто не был бы услышан. Нет, не таю он вообще не прозвучал бы.
Я это ей сказал, но не резко, очень мягко и деликатно. В том смысле, что каждый на своем месте сделал то, что мог. Когда мы уже прощались, она, видимо, вспомнила эти мои слова…
По-моему, она их все время держала в голове и ждала повода, чтобы ответить. Без подробностей, но так, чтобы сразить… Когда мы прощались, она мне сказала: „Все, что может человек испытать, все выпало на мою долю“. И мои возражения как-то сразу потеряли смысл. Я почувствовал, что вообще не вправе с ней спорить. И что наши эмигрантские драмы не могут сравниться с той, которую пережила Ахматова. И еще многие другие.
Потом я возил ее по знакомым ей — памятным и дорогим — парижским местам, она смотрела из окна машины, узнавала. Но выйти, походить по улицам, которые когда-то были ею исхожены вдоль и поперек, не захотела. Ужинали мы в „Куполи“, это был ее выбор. От „Ротонды“ отказалась.
Спасибо, что вы это все записали. Конечно, я и сам кое-что написал об этом. Какие-то обрывки уже напечатал в Нью-Йорке. И, возможно, еще напишу. Но в устном рассказе обычно скажется больше, чем в том, который доверишь бумаге».
В общей сложности мы встречались с Адамовичем семь раз: три в шестьдесят восьмом и четыре в семидесятом. От встречи к встрече он становился все более контактным и расположенным, проявляя очевидное стремление высказаться как можно полнее. Оказалось, он следил за нашей литературой, переживал ее взлеты и падения отнюдь не как сторонний наблюдатель, но был крайне субъективен в оценках и этого не скрывал. Пастернака считал чрезмерно сложным, «застывшим в своем развитии» поэтом, а прозу его — безвкусной и неоригинальной. Увидев, что при этих словах я чуть не вздрогнул, — усмехнулся:
— Вам придется привыкнуть к тому, что скорее всего мы будем расходиться по многим позициям.
Впрямую Маяковского с Пастернаком не сравнивал, но говорил о нем с куда большим воодушевлением.
— Вот уже сорок лет мне не дает покоя одна мысль: понял ли Маяковский перед смертью, в чем состояла его главная трагедия? Я бы определил ее так: самоубийство огромного таланта, который он сам, без всякого принуждения, разменял на медные пятаки.
(Рядом с записью о Маяковском у меня в блокноте — не могу вспомнить, в какой связи — записано: «Адамович о Петре Первом — гениальный деспот. Об Иване Грозном — слабый, несчастный, вспыльчивый человек».)
Не очень склонный к открытому проявлению чувств, Адамович с исключительной теплотой отзывался о Паустовском. Говорил, что его проза стала ему еще ближе после того, как сам писатель покорил его своим обаянием. Паустовский, по словам Адамовича, чувствовал вину перед Буниным за то, что не ответил на его восторженный отзыв о первой часто «Повести о жизни» («Об одном из ее фрагментов», — уточнил я. Согласился: «Возможно»), отправленный через Союз писателей. Якобы Фадеев — так Адамовичу объяснял Паустовский — не разрешил отвечать. И, приехав в Париж, первым делом попросил
отвезти его на кладбище Сен-Женевьев де Буа, где возложил на бунинскую могилу огромный букет роз.
Об Эренбурге говорил сдержанно и сурово.
— В сталинские времена мы с ним часто встречались в Париже, и он всегда отворачивался, чтобы не поздороваться. А вскоре после смерти Сталина мы одновременно оказались в Лондоне, я пошел на какое-то собрание, где Эренбург сидел в президиуме, и он, разглядев меня, приветливо замахал со сцены. Едва дождавшись конца, сбежал по ступенькам в зал, чтобы нам не разминуться: «Как давно мы не виделись!». Потом не было случая, чтобы при встрече в Париже не кидался первым пожать руку. И все звал приехать в Москву. И спрашивал неизменно: «Кому передать привет?»
Я коротко напомнил и про «Люди, годы, жизнь», и про письма в защиту Синявского и Даниэля, и про участие в кампании против реабилитации Сталина. О его историческом письме Сталину в феврале 1953 года я тогда еще не знал…
— Да, да, конечно, в последние годы он сделал немало. Совесть заговорила. Грехи искупал… Раскаявшихся у вас оказалось немного. Тем каждый случай дороже. Послушайте, — обратился вдруг ко мне без всякой связи с тем, о чем мы только что говорили, — почему у вас так не любят Евтушенко?
Я попробовал объяснить, что «у нас» тоже не все на одно лицо: одни любят, другие не любят, третьи вообще равнодушны. Он не согласился.
— Нет, вы не правы. В основном его точно не любят. («Как может тот, кого не любят, собирать полные стадионы?» — пробовал возразить я. Адамович оставил эту реплику без ответа.) Чем-то он раздражает. Возможно, своей непохожестью. Но поэт и должен быть ни на кого не похожим. Евтушенко очень талантлив. И главное — искренен. Я могу вам процитировать несколько его замечательных строчек. Конечно, не из политической серии. Я вообще не воспринимаю стихи на злобу дня, кого бы то ни было. Политика и поэзия — две разных державы, и они находятся между собой в постоянной вражде. Как только Евтушенко перестает разоблачать и призывать, он опять становится поэтом. Немножко его шатает — то в одну сторону, то в другую. Слабый человек — хочется ему ездить по заграницам. Ну, и пусть ездит. У вас для этого надо подлаживаться, он хорошо это понял. И сделал свой выбор.
Однажды позвонил мне в семь утра. Только что прилетел из Америки, хочу, говорит, немедленно встретиться. Ради кого другого я бы ни за что в такую рань не поднялся. А тут сразу ответил: хорошо, через сорок минут в «Прокопе» (самое старое во Франции кафе рядом с Сен-Жерменом). Примчался с какой-то очередной возлюбленной, парижской студенткой-слависткой, все время с ней целовался, словно меня рядом не было и словно он не просил немедленной встречи со мной. Мы и кофе заказать не успели, как он стал мне читать новые стихи — я заслушался, а его подруга — та просто смотрела на него восхищенно, раскрыв рот. Я подумал тогда: дали бы мне составить книгу — «Сто стихов Евтушенко»!.. Больше не надо — остальное уже другой уровень. Совсем другой… Потом будет писать еще хуже. Но это не страшно. Сто хороших стихов он уже написал. Сто! Вы знаете, что такое сто хороших стихов? Этого совершенно достаточно, чтобы остаться в литературе. Как бы я хотел собрать их — эти сто стихов. И издать — с моим предисловием. Но этого никогда не будет…
Потом, похоже, ему показалось, что он Евтушенко перехвалил. В письме ко мне от 14 ноября 1968 года Адамович вернулся к тому разговору: «О предмете наших споров <…> Были недавно стихи не то, чтобы „хорошие“ — не то слово! — но такие, которые никому другому не написать». Но и в этих, более осторожных, строках симпатия его к Евтушенко, к его поэзии вполне очевидна.
Адамович следил за нашей литературной жизнью, читал чуть ли не все толстые журналы, был подписчиком «Литературки». О моих публикациях в ней не сказал ни слова, да и публикаций этих в то время было еще немного, и все они — не ахти… Так что я и не спрашивал. Но подарил ему одну маленькую книжицу своих исторических новелл («Подсудимого звали Искусство») — она только что вышла. Подарил лишь потому, что он спросил: «Могу ли я почитать хоть что-нибудь из того, что вы написали?» Я боялся, что по прочтении у него отпадет охота со мной встречаться. Нет, не отпала. Но реакция на книжицу была для меня неожиданной.
— Вы мне открыли один секрет, о котором я как-то не думал. Можно, оказывается, написать о царской полиции и царской юстиции так, чтобы все поняли: имеется в виду не царская, а советская. В эмигрантской литературе это абсолютно исключено. Ругать Россию дореволюционную значит подыгрывать большевикам… Или вот — о Курбе. Его тут никто не любит. Ни как живописца, ни как человека. А у вас он герой, и даже я, прочитав вашу новеллку, проникся к нему симпатией. Но ведь он у вас условность, не более того. Сам Курбе, наверно, советских читателей вообще не интересует. Читают про него, а думают о ком?
— О всех гонимых художниках, — подтвердил я. — Наших, сегодняшних…
— Как странно! В эмиграции вас бы не поняли. Во всяком случае, большинство. И не надо… Вы даже представить себе не можете, какая тут у нас возня и грызня. Лучше ни во что не вникайте. Запутаетесь — и сойдете с ума.
Года за два до нашей с ним первой встречи в Париж приезжал И.С. Зильберштейн — собирал картины русских художников, архивные материалы. Я сказал Адамовичу, какое впечатление произвели в Москве публикации Зильберштейна о «парижских находках».
— Еще бы!.. — воскликнул он. — Вдруг оказалось, что здесь хранятся сокровища, что русская эмиграция это не сборище негодяев, а сгусток духовной культуры. Но прежде, чем обирать десятилетиями проклинаемых изгнанников, надо бы перед ними извиниться. Нет, соучаствовать в новом цинизме, в спекуляции на патриотических чувствах я не могу. Увольте… Ничего я Зильберштейну не дал. Его и так завалили подарками очарованные им наши старушки. С него достаточно…
Пятьдесят писем Бунина и множество других документов из своего архива Адамович продал в Америку — Иельскому университету. Туда же ушло после его смерти все, что еще оставалось. «Там надежнее сохранится», — сказал он мне.
Тем не менее мечты своей — напечататься в России — он не скрывал.
— Здесь меня прочтут от силы двести человек, в России — двести тысяч. Но… — Уязвленная гордость и тут взяла верх — Не очень-то я заинтересован. Есть в Москве один милый человек по фамилии Бабореко. Состоит со мной в переписке. По его рекомендации «Литературное наследство», которым вроде бы руководит все тот же Зильберштейн, заказало мне воспоминания о Бунине. Пришлось брать — не то, чтобы разрешение, но совет — у редакторов здешней русской прессы. Вишняк, Водов — все были единодушны: «Литнаследство» это серьезное издание, печататься в нем не стыдно. Я написал, отправил — ответа нет. Вот уже год. Или даже больше…
Ответа он, кажется, так и не получил. В двухтомном бунинском выпуске «Литнаследства» воспоминания Адамовича не напечатаны. А ему было непросто преодолеть психологический барьер и принять «советский заказ»! Тем горше было красноречивое молчание Москвы.
Сразу после войны Адамович, как и многие другие эмигранты, отдал патриотическую дань военной победе и разделил просоветские иллюзии. Книга его эссе «Другая родина» вызвала бурную реакцию в эмигрантской среде и попортила ему немало крови. От него отвернулся один из самых близких друзей (может быть, самый близкий) — Георгий Иванов. Он даже написал статью, название которой говорит само за себя: «Конец Адамовича». Между «Жоржиками», как их называли когда-то, воздвиглась стена… Впрочем, охлаждение наступило еще до войны — на почве литературной. А потом возникла и политическая: у Георгия Иванова были претензии к Адамовичу по случаю его «полевения», у Адамовича — к Иванову по случаю даже не «поправения». Хуже: многие обвиняли его в сотрудничестве с оккупантами. И то, и другое было весьма далеким от истины.
Увлечение «советским патриотизмом» у Адамовича действительно имело место, и ослепление было даже относительно долгам, но он имел мужество признаться в своих заблуждениях. Однако та часть эмиграции, к которой Адамович принадлежал, не забыла его кратковременного «падения» и часто об этом напоминала. Он мог бы сослаться на то, что и Бунин не избежал той же участи, и Бердяев, и Маклаков, но сказал мне другое:
— Нацизм казался еще большим злом, чем большевизм, вот в чем дело. Это и привело нас — меня только однажды — в советское посольство, к послу Богомолову, по его приглашению. Представляете, каково было Василию Алексеевичу <Маклакову>, русскому послу во Франции, отправиться в то же самое здание, откуда его изгнали, и увидеть там изображение Сталина-полководца. Но он пошел… Хотелось верить, что союзничество с западными демократиями и победа над Гитлером приведут к каким-то крупным политическом переменам и в Советском Союзе. Нельзя казнить за иллюзии, они были продиктованы самыми лучшими чувствами. Но абсолютно не соответствует истине — будто Бунин собирался вернуться. Хотел и собирался — это не одно и то же. Вернуться мечтали все, только не в Россию большевиков. Бунин колебался — идти в советское посольство или нет. Победило любопытство — ведь до войны о таком приглашении и подумать было невозможно. А тут — зовут, обхаживают, сулят златые горы, кормят икрой. Мираж, фантастика, нереальность… А вдруг действительно что-то там поменялось? Этот вопрос задавали многие. Ну, Бунин и пошел. Потом встречался еще с Симоновым — как раз тогда все парижские русские были покорены его стихами. Не стихами вообще, а одним: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Как только Симонов его не обхаживал! Тоже икрой задарил и тоже что-то сулил! Вот эта неприкрытая лесть Бунина и насторожила «Большевики зря никому ничего не обещают», — говорил он. Бунин рассказывал мне, что многое понял по рожам — так и сказал: по рожам — советских товарищей: они были выразительней, чем их сладкие речи. Так что это чистый навет — будто он уже и вещички собирать начал. Да и Вера (жена) ни за что бы его не пустила. А потом у вас начали травить космополитов, притом так вульгарно, так злобно! Бунина это совсем доконало. «И в этот зверинец хотели нас заманить?!» — спрашивал он меня. Не меня, конечно, а себя самого… Теперь Бунину, да и не только ему, начнут приписывать все, что выгодно фальсификаторам. Но еще живы, слава Богу, те, кто помнит, как было дело.
В своих просоветских заблуждениях Адамович довольно быстро раскаялся, но не ударился в другую крайность. Бешеных антисоветчиков (несколько раз он использовал слово: «бешеных», — видно, те сильно досаждали ему) не выносил и деления русской литературы на советскую и эмигрантскую не признавал.
— Советской литературой у вас называют такую, которая вообще не литература. Просто агитка. Социальный заказ. Литературе это политическое уточнение совершенно не нужно. Вот Паустовский — он что же, советский писатель? Из-за того, что состоит в союзе советских писателей? Но литературе и ее читателям безразлично, в каком союзе состоит автор. Я тут встречался с Аксеновым. Прочитал всего одну или две его вещицы — сразу видно: писатель с большим будущим. Вы не знаете, чего он испугался? Обещал прислать свои книги, но не прислал. Бог с ним… Так он что — советский писатель? Может быть, вы скажете, что и Ахматова советский писатель? Я отношу себя к единой русской литературе, прилагательного «эмигрантская» никогда не признавал и не признаю.
Революция (октябрьский переворот он по-прежнему называл революцией) сделала для России много полезного, напрасно эмиграция это отрицает. Другой вопрос — какой ценой? Есть одна закономерность, которая давно подмечена Карамзиным, Герценом — помните его «Письма с того берега», — Толстым: революции начинаются ради благородных, даже великих целей, а во что превращаются?! Всегда в одно и то же… Но их надо оценивать с исторических высот, иначе теряется перспектива. Все еще изменится и в России, я в этом уверен. Моя надежда — на тех, кому сейчас тридцать лет.
Он верил в тех, кому тогда было тридцать. Вскоре их назвали шестидесятниками.
Последнее письмо от Адамовича я получил за несколько дней до его смерти. Он писал, что вернулся из Америки, куда ездил на два месяца заработать чтением лекций, совершенно измотан и мечтает лишь об одном: отдохнуть на любимом своем Лазурном берегу. Там, в Ницце, он и умер. Смотрел телевизор, встал, чтобы выключить, и упал. Случилось это 21 февраля 1972 года.
Похоронили Адамовича там же, в Ницце, рядом с матерью, которую он горячо любил.
В одну из встреч он с недоверием и опаской спросил меня, неужели его хоть кто-то знает и помнит в России. «Еще бы!» — воскликнул я и прочитал наизусть два его стихотворения, которые назвал хрестоматийными: «…Брезжил над нами какой-то божественный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет» и «За все, за все спасибо. За войну, за революцию и за изгнанье». Он слушал, не перебивая. Очень долго молчал, уставившись, не мигая, в одну точку. Потом спросил, не ожидая ответа:
— Сколько было Ахматовой, когда она написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети»?
И добавил:
— Как хорошо знать себе цену.
Я мог, конечно, ему напомнить, что Ахматова — по крайней мере, когда писала эти стихи, — знала цену не себе, а Гумилеву, и надеялась войти в учебники лишь потому, что
она любила
его: так это прямо в стихах и сказано. Но по большому счету Адамович был прав, и эта последняя фраза, которую я от него слышал, — «как хорошо знать себе цену» — всегда сопрягается у меня с памятью о нем.
Глава 18.
Москва в Париже
Борис Константинович Зайцев, с которым я встретился в те же дни, вообще был далек от событий в Латинском квартале. Не столько географически, сколько психологически. Зайцев жил в просторном доме на авеню де Шале, который был предоставлен его зятю Андрею Викторовичу Соллогубу, занимавшему крупный пост в одном из французских банков. Дом этот казался перенесенным из давней России в современный, самый богатый и аристократический, шестнадцатый парижский район.
За хлебосольным столом, где чайник был накрыт ватной матрешкой, а к чаю подавали сушки и сладкие сухари, собрались и дочь, Наталья Борисовна, и внуки, и невеста старшего из них. И еще студентка из Чехословакии, приехавшая работать над диссертацией о Замятине. И еще какая-то пожилая русская эмигрантка из Женевы. Во главе стола был, естественно, Борис Константинович, достаточно моложавый и бодрый для своих восьмидесяти семи лет. Старомодный черный костюм с широкими бортами вполне соответствовал и возрасту его обладателя, и музыке давно исчезнувшей из привычного обихода старомосковской речи, сохранившейся лишь в точных описаниях его же коллег.
Маленького роста, сухонький, со впалыми щеками и острым, орлиным носом, Зайцев сначала поразил меня бодрой походкой, крепким рукопожатием, а потом отнюдь не старческой словоохотливостью. Очень скоро это стало казаться естественным: русский писатель должен жить долго и отличаться завидным здоровьем. Почти не интересуясь, в отличие от Адамовича, рассказами гостя о советской Москве, он сам предавался воспоминаниям.
Зацепившись за оброненную мною фразу — о том, что я несколько раз встречал Николая Дмитриевича Телешова, писателя, ныне всеми забытого и давно не читаемого, и даже состоял с ним в переписке (большинство его писем у меня сохранилось), — Зайцев увлеченно заговорил о знаменитых некогда телешовских «средах» в его доме на Покровском бульваре и стал давать краткие, но выразительные характеристики их завсегдатаям — так, словно все они были нашими общими знакомцами.
— Разные люди бывали. Например, Буревестник… На всех смотрел свысока: вы все козявки, один я держу Бога за бороду!.. Начинал хорошо, Чехов его любил, Толстой, а потом — пошло-поехало. Эта безумная большевичка, Андреева, она его совсем подмяла. С тех пор так подкаблучником и остался… Самовлюбленный хвастун! И враль! Вы знаете, сколько людей он спас от Чеки? («Много», — сказал.) А точно? Не помните? Он помнил: 278. Приехал в Берлин и сразу распетушился: «Я, Максим Горький, спас 278 человек». Надо же, какая точность. Он их в тетрадочку заносил: один, два, три… По именам. А имена-то и не назвал. Ни одного. Надо ж: 278! Всегда ждал поклонов. Чего же ему не кланялись, если он жизнь даровал? За такое не грешно поклониться. А не кланялись. Почему? — Ответ, мне кажется, Зайцевеу был не нужен. — Потому что сами себе не могли простить малодушия. Он их, возможно, и спас, но — унизил.
Я вернул его к воспоминаниям о телешовских «средах».
— Туда еще один большевичок затесался — пучеглазый, с дряблыми щеками. Приходил под самый конец, когда «среды» уже выдыхались. И, слава Богу, не часто… — Я ни за что бы не догадался, если бы Зайцев не уточнил: Серафимович. — В партию еще не записался, но уже было видно, какого он поля ягода. А Митрич (Телешов)… Хлебосол. Мягкий человек. Деликатный. Всем хотел добра — и нашим, и вашим. Только бы его не трогали. Я о нем тепло вспоминаю. Кто я был, когда меня к нему привезли? Никто. Мальчишка. Но сразу почувствовал себя на равных. Это он так сумел — создавал атмосферу. Хороший человек. Правда… — Он долго молчал, пока размякал опушенный в чай сухарик. — Зачем он Бунина завлекал? Не надо бы Митричу плясать под их дудку. — Кто такие, эти «они», было для всех очевидно. — Читали Катаева? «Бунин решил возвращаться, но его окрутили, не дали…». Врать-то зачем? Или у вас иначе не могут? Катаев — ладно, что с него взять? Совсем изолгался. А Митрич — старик ведь, послал бы их к черту! А он?!. Что ему повелели, то и писал. «Приезжай, тебя здесь встретят с почетом…» Может, и сам в это верил. Так ведь в это же время и почти тем же голосом пел тут свои арии… Этот ваш — как он там?.. Да, Симонов. Зачастил в Париж — ему все было можно. Имел задание: привезти в Москву Бунина. Очень уж Сталину хотелось заполучить Нобелевского лауреата. Денег никаких не жалели. Слезу выжимали. Икоркой задабривали, балычком, осетринкой… Ну, Бунин и расчувствовался — всего на несколько дней. Или недель. Даже за здоровье Сталина выпил, раз тот немчуру отогнал. Не он един. Политики, и те прослезились: Маклаков, Милюков… И у Кусковой слюнки текли, и у Бердяева. Ну, и Бунин туда же. Из-за этого мы с Иваном поссорились. Так ведь он потом протрезвел. Симонов — ладно, чиновник, хоть и не без способностей. Что с него взять? А Телешов — он-то свой. Старый друг. На этот крючок Иван чуть было не клюнул. А большевики рады-не рады близких друзей перессорить.
В сущности, то же говорил мне и Адамович. Только другими словами и с другой интонацией. И без ссылок на Телешова — с «Митричем» он вообще не был знаком.
Из уст Зайцева сыпались канувшие в небытие имена — Елпатьевский, Голоушев, кто-то еще, он продолжал жить в их обществе, спорил с ними, подтрунивал, критиковал. Тени ожили и чуть ли не во плоти разместились за нашим чайным столом. Я сказал, что дом Телешова сохранился и что на нем висит мемориальная доска как раз в память тех, о ком он так увлеченно рассказывал.
— Одним доска, другим свобода, — усмехнулся он, возвращаясь к теме, занозой сидевшей в мозгу: она сопровождала всю жизнь эмигрантов. Правильно ли сделали, что уехали? Или — пусть хоть в аду, но дома? В позиции Зайцева можно было не сомневаться.
— А лучшие-то из «сред» — все отвергли большевиков, все сбежали. Бунин, Чириков, Шмелев, Леонид Андреев… А Федя Шаляпин, а Рахманинов? Они ведь все тоже срединские, приезжали к Митричу, играли и пели… Всласть, не за деньги… — О себе он скромно умолчал.
Лишь раз, по журналистской привычке, я сумел что-то ввернуть про парижский студенческий бунт, надеясь, что он выскажется и по этому поводу. «А-а, заварушка», — улыбнулся Зайцев, — этим его отзыв на злобу дня был исчерпан. Куда интереснее ему было вспоминать про Алексея Толстого, который, — рассказывал Борис Константинович, — предрекал ему, гуляя по пляжу: «Борька, Борька, ты при любом режиме без денег сидеть будешь».
— И ведь прав, сукин сын, — добродушно комментировал Зайцев. — Чертовски талантлив и чертовски продажен. Так бы и вышло все по Алешке, да вот дочка спасла — удачно выскочила замуж.
Судя по тому, как реагировал подошедший к столу Андрей Викторович, шутка эта была в семье привычной и никого не задевала Потом появился гренадерского роста мужчина с безумным блеском в глазах — Леонид Федорович Зуров, принес банку клубничного варенья, кем-то изготовленную специально для Зайцева.
— Совсем как в России, — заметил я, сам удивившись тому, что опустил непременный довесок «советской».
— Да, мы не офранцузились, — подтвердил Зайцев, и в этих словах ощущалась не просто констатация, но — гордость.
Сочинения Зурова, писателя двадцать пятого ряда, я тогда еще не читал, но имя его прочно осталось в биографии Бунина. «Приехал к нему на две недели, поучиться у классика, а остался на сорок лет», — так сказал мне о нем Адамович. Бунин, по его словам, Зурова ненавидел («Вы даже и вообразить не можете, что это за человек!» — прочитал я много позже о Зурове в одном из опубликованных бунинских писем. Наградил его Бунин такими эпитетами: «солдафон», «наглец, дикий, невообразимый хам») и не выгнал лишь потому, что молодого гостя «пожалела» Вера Николаевна Бунина. И без того драматичная, мучительная для всех ситуация обострилась еще тем, что Бунина покинула Галина Кузнецова, предпочтя стареющему писателю молодую сестру философа Федора Степуна, свою интимную подругу…
Зуров чувствовал себя у Зайцевых, как дома, — просто сменил одного литературного мэтра на другого. Меня покоробила та фамильярность, с которой он обращался к Зайцеву, и не сходившая с его румяного лица ироническая, кривая усмешка, не обращенная ни к кому и в то же время — ко всем сразу. Борис Константинович, мне кажется, к ней привык и не обращал на Зурова никакого внимания. Адамович уверял, что фамильярность вообще отличительная черта этого господина. Мне же показалось, что он вообще — с приветом… Безумный блеск в глазах, реплики невпопад были тому подтверждением. Не ясно лишь, почему Зайцев, хорошо знавший отношение к Зурову своего кумира Ивана Алексеевича, продолжал его привечать.
— Большой любитель прихвастнуть, — сказал мне о Зурове Адамович. — Все уши прожужжал: «Мы с Валькой Катаевым! Валька Катаев — мой приятель!». А тот в «Траве забвения» ни разу его не назвал.
Ну, честь невелика, подумал я, даже если бы и назвал…
С Зайцевым мы, конечно, заговорили о современной русской литературе — советской, то есть создаваемой в Советском Союзе, а не за границей. Я ожидал уничижительных оценок, но услышал совсем другое. Зайцев восторженно говорил о Юрии Казакове, в котором видел «прямого наследника» Бунина: не случайно же, отметал он, Казаков мечтает написать его биографию. Будучи в Париже, Казаков не один час провел у Зайцева, расспрашивая его о Бунине, — о «таких мельчайших деталях характера и личной жизни», которые, сказал Борис Константинович, «могут интересовать или любопытствующего пошляка, или очень тонкого, очень глубокого писателя».
— Казаков — очень тонкий, очень глубокий, — повторил Зайцев, чтобы я правильно его понял. — Объясните, пожалуйста, как такой, совсем не советский писатель может удержаться под большевиками? И даже при них издаваться…
Вопрос был чисто риторический, поскольку ответа Зайцев не ждал. Потом еще несколько раз повторил:
— Очень русский писатель. Школа Ивана… А дураки говорили, что у Бунина нет школы. Казаков меня обаял, я уши развесил, расчувствовался и наговорил ему много лишнего — про Кузнецову, про Степунов…
— Про меня… — подхватил Зуров.
— И про тебя, дурака, тоже, — беззлобно подтвердил Зайцев.
Бывал у него и еще один писатель — Владимир Солоухин. Тоже произвел сильное впечатление — прежде всего тяготением к классическим традициям и «пониманием русской души». Я рассказал, как мы вместе с Солоухиным занимались в литературной студии МГУ и даже похвастался, что однажды Володя одобрительно отозвался о моих незрелых стишках.
— Почитайте! — тотчас воскликнул Зайцев.
Я отказался, и это, по-моему, его вовсе не огорчило.
— Значит, вы не поэт… — Никакой осуждающей интонации я не почувствовал. — У вас все еще учат на писателя? — иронично спросил он, напомнив, что Солоухин рассказывал ему про Литинститут. Ответить не дал: — Понятно, понятно, направляют талант в нужную сторону. А талант, если он есть, все равно отклонится. Ему в заданных рамках никак не удержаться… Так что ваши партийные наставники зря стараются, ничего у них не получится. Их резерв — карьеристы и подхалимы. И еще те, кто без царя в голове. Но к литературе вся эта шушера отношения не имеет. Для большевиков главное это тенденция, тому и учат, но литература с тенденцией вообще не литература, а большевицкое (так и сказал с четким выделением «ц» вместо «ст») пойло. Вот у Казакова и Солоухина (Зайцев читал только его рассказы) нет никакой тенденции, поэтому они писатели.
— Хоть и учились в Литинституте, — напомнил я. Сказал, потому что тоже был убежден: истинный талант никакой институт с пути не собьет.
— Вы знакомы с Глазуновым? — вдруг спросил меня Зуров.
В те дни только и было разговоров о Глазунове! Он находился тогда в Париже — галерея «Мона Лиза» устроила выставку его живописи, а премьер-министр Помпиду заказал ему свой портрет.
Илью я знал тогда не то чтобы близко, но достаточно хорошо — еще со времен ошеломившей Москву первой его выставки в ЦДРИ в 1957 году. Выступал на ее обсуждении. Говорил о яркости и свежести его дарования. Бывал и у него на Можайском, кажется, еще не переименованном в Кутузовский проспект.
Однажды мы приехали туда вместе с хорошо его знавшей моей родственницей, известной пианисткой Беллой Давидович и с польским физиком — докторантом нашего МГУ — Здиславом Дудзиком, очень к нему расположенным. Жена Ильи, Нина, по домашнему прозвищу «Сова», поила нас чаем из самовара, — сам Илья был занят. Наконец дверь в соседнюю комнату распахнулась, растрепанный художник вышел с какой-то девицей, воскликнул: «Аркадушка», широко меня обнял и тут же исчез, провожая подругу. Пока его не было, Нина шепнула: «Сейчас придет в себя».
Он пришел, и мы очень славно провели в трепе весь вечер. С тех пор утекло много воды. Иных уж нет, а те далече… Нины — нет (уход ее был трагичен), а Илья — немыслимо «далече» от того, каким он был в самом начале.
Далече! Конечно, далече! И однако же несколько лет спустя он мне подарит «Белые ночи» Достоевского со своими иллюстрациями и с таким посвящением: «Человеку блестящего, острого интеллекта и доброго сердца — дорогому Аркадию с давней дружбой и пожеланием всего светлого. 1957–1976. Илья Глазунов».
…Я коротко ответил Зурову, что с Глазуновым знаком, и Зайцев тут же снова включился:
— Изумительный русский импрессионист! Мы все от него просто в восторге.
Через несколько дней я рассказал об этой сцене Адамовичу — тот был краток в своих комментариях:
— Не удивляйтесь, это другой мир, другие вкусы. Глазунов подружился с Зуровым, они бражничают вместе — конечно, за счет Глазунова. И слаженным дуэтом всласть ругают Евтушенко. Ничему не удивляйтесь. Считайте, что вы варитесь в московском котле, только на парижский манер.
Моим мнением о том или ином советском писателе или художнике Зайцев не интересовался и ни одного вопроса о том, как идет в Москве литературная жизнь, не задал. Он жил в своем замкнутом мире, имел свои суждения о том, что и в каких пределах ему было известно, с французами никаких контактов не имел и иметь не хотел. Ни жизнь сегодняшней — далекой — России, ни жизнь сегодняшней — близкой — Франции его ничуть не интересовали.
Я уверен, что, была бы тогда возможность смотреть советское телевидение по кабелю или через спутник, он ею ни за что бы не воспользовался, так и оставшись в привычном для него кругу, чудом перенесенном со старомосковских бульваров в аристократический и богатый парижский район.
Впрочем, кажется одно исключение для «аборигенов» он все-таки сделал.
— Тут мне один французский студент помогает, — сказал Зайцев. — Ренэ… Может быть, более русский, чем все русские. Познакомиться не хотите?
Мы ленивы и нелюбопытны — это общеизвестно. Я не захотел. И зря… Даже годы спустя, когда наша печать, в том числе, как ни печально, и «Литературная газета», с завидным упорством поносила «махрового антисоветчика» и «злобного реакционера» Ренэ Герра, — даже тогда я не опознал в нем «более русского, чем все русские», о котором говорил Борис Зайцев. Лишь в середине девяностых годов, познакомившись с профессором Герра, побывав в его доме-музее, слегка прикоснувшись к его поистине уникальной коллекции, я соотнес студента Ренэ с моим нынешним собеседником, чрезмерным в проявлении сильных чувств и оттого обреченным иметь верных друзей и не менее верных врагов.
Факт поразительный: в предместье Парижа, совсем неподалеку от дома, где жила Цветаева, в «частных» руках находится коллекция, обладание даже малой частью которой счел бы для себя честью иной всемирно известный музей. Развешанные от пола до потолка во всех комнатах, в передней, на лестницах живописные полотна и рисунки представляют, притом отнюдь не единичными экземплярами, чуть ли не весь блистательный серебряный век России. Коровин, Кустодиев, Малявин, Билибин, Добужинский, Кончаловский, Гончарова, Ларионов, Бенуа, Сомов, Бакст, Серебрякова, Григорьев, Судейкин, Чехонин, Александр Яковлев — голова идет кругом, когда видишь все это не в качестве экспоната с музейными номерами, а в особнячке тихого парижского пригорода, в интерьере обычных жилых помещений. Достаточно лишь взглянуть в глаза Евгению Замятину, который смотрит с известного, многократно воспроизводившегося в печати портрета работы Бориса Кустодиева, — он висит у Ренэ на лестнице между первым и вторым этажами, — чтобы почувствовать, как замирает сердце…
Но и это еще не все: одно только наследие Юрия Анненкова представлено у Ренэ не десятками, а сотнями работ, полученных им от художника.
Есть еще великолепные живописцы из гордого племени эмигрантов, у нас почти не известные: Сергей Шаршун, Михаил Андреенко, Дмитрий Бушен, Андрей Ланской, Лев Зак…
Есть почти сорок тысяч томов русского книжного раритета — в значительной своей части с надписями авторов и дарителей… («Наследнику Русской Культуры в Зарубежье» — написал Сергей Лифарь на подаренном Ренэ парижском издании писем Пушкина.)
Есть несметное количество драгоценных папок с рукописями, письмами, автографами Пушкина и Гоголя, Тургенева и Льва Толстого, Горького и Бунина, Северянина, Пастернака, Цветаевой — и далее «без остановок», включая, разумеется, все имена русской литературы в изгнании (только автографов Алексея Ремизова более четырехсот).
Чистокровный француз, выходец из интеллигентной семьи с Лазурного Берега, юный Ренэ стал брать уроки русского языка у одной из живших там эмигранток и с тех пор навсегда влюбился во все, что связано с Россией. Темой своей кандидатской диссертации он выбрал творчество Бориса Зайцева, чем привел в немалое удивление университетскую профессуру. Эти специалисты по русской литературе даже не знали о существовании такого писателя, который жил рядом с ними! Ведь его не было в советских институтских программах, и советское литературоведение не посвятило ему ни единой строки.
Работа над диссертацией привела Ренэ в дом Зайцева, сделала его добровольным помощником писателя и познакомила с теми, кто составлял тогда еще достаточно обширный круг русской зарубежной культуры из числа эмигрантов первой и второй волны. О встречах и русских литературных вечерах, которые он устраивал в своем доме, будут написаны — я в этом уверен! — не только статьи, но и книги.
Сегодня, получив, наконец, возможность свободно ездить в нашу страну, Ренэ проводит здесь весь свой отпуск — не только в Москве, но и в самой что ни на есть глубинке, с наслаждением осваивая региональные диалекты, купаясь в безбрежной стихии живого русского языка, заводя повсюду — в Поволжье, на русском Севере, на Урале — новых друзей. Не было случая, чтобы в России его хоть раз приняли за иностранца. Его чистейший и богатый русский язык поразителен, и я теперь понимаю, что в утверждении Зайцева — «более русский, чем все русские» — не было ни малейшего преувеличения.
Его гигантское собрание вызывает теперь зависть менее расторопных российских и зарубежных коллег. Но кто же, собственно говоря, мешал им собрать отринутое, оплеванное и униженное богатство, спасенное «махровым антисоветчиком» и «агентом» всех мыслимых и немыслимых иностранных разведок? Любая поддержка, любое доброе слою немедленно нашли бы благодарный отклик у изгнанников, унесших с собой Россию и в далекой дали истово служивших ей своим творчеством.
Все русское во Франции находилось тогда (да, пожалуй, находится и сейчас) под эгидой профессиональных славистов, а те почта целиком рекрутировались из числа коммунистов и примыкавших к ним беспартийных. Для них эталоном и объектом внимания служило лишь то, что признано в стране большевиков. Эмигранты считались предателями, и никем больше, такие категории, как талант, даже гений, в расчет не брались. Вместе с фанатичной любовью к русской культуре Герра воспринял и фанатичную ненависть к тем, кто обрек на поругание и нищету сотни блестящих ее представителей, разбросанных большевистским смерчем по всему свету. И с тех пор ни этой любви, ни этой ненависти не изменил.
Судьбе было угодно закольцевать сюжет, началом которому послужила моя встреча с Зайцевым в мае 1968 года. Имя Ренэ Герра всплыло в связи со скандальной историей, приключившейся во время устроенной им московской выставки художников Русского Зарубежья. Заинтересовавшись этим скандалом, я познакомился с Ренэ, знакомство перешло в дружбу, а ее «отцом-основателем» я считаю Бориса Зайцева, давшего Ренэ ту аттестацию, которая на долгие годы осталась в моей памяти и которая выплыла из ее глубин почти тридцать лет спустя.
Живя на чужбине, великие изгнанники мечтали о том, чтобы вернуться. В Россию, но не в «совдепию». Ренэ знал об этой мечте, и он ее осуществил — в пределах своих возможностей. Преодолев обиды, которые он испытал, будучи вышвырнутым из этой «совдепии» за «собирание тенденциозной информации о жизни и настроениях советских писателей» (так КГБ в своей докладной, адресованной в ЦК, обозвал его интервью с Юрием Трифоновым и другими, неугодными властям, литераторами — дискеты с их записями были конфискованы у Ренэ таможней и теперь объявлены пропавшими), дважды оказавшийся невъездным, он откликнулся на призыв постсоветского министерства культуры устроить в Москве выставку хотя бы малой часта своей бесценной коллекции.
По злой иронии судьбы поездка на родину картин-изгнанниц не обошлась без приключений. Один ящик с экспонатами — в нем находились двадцать две картины — при перелете исчез. Условием доставки, выдвинутым российским Минкультом, было страхование экспонатов нашим же родным Ингосстрахом по формуле «от гвоздя до гвоздя»: он их паковал, он доставлял, он и должен был уплатить страховую сумму в случае их потери. Мало того, что вокруг платежа был затеян постыдный торг, — виновные обнаглели до того, что печатно обвинили Герра в мошенничестве («пусть хорошенько поищет пропавшие картины у себя»). Сразу вспомнились мне слова Зайцева, сказанные, правда, по другому поводу: «Большевики развратили сознание людей, лишили морали и упорно продолжают лепить из них подонков».
Меряя всех на свой аршин, уже нынешние, а не бывшие, совсем потеряли здравый смысл. Ведь, заявив о пропаже, Герра ничего не мог и не сможет сделать с картинами: ни продать, ни выставить, ни даже повесить у себя дома — во избежание не только позора, но и уголовной ответственности. Что же это за недоумок, который невесть почему подверг себя такому риску, таким потерям?
Среди пропавших (то есть кем-то попросту прикарманенных) картин были такие шедевры, как сделанный с натуры Мстиславом Добужинским портрет Владимира Набокова, портрет Бориса Зайцева — тоже с натуры — работы Юрия Анненкова, картины Бенуа, Судейкина и других художников того же ряда. Потеря ужасная!
Я вмешался в эту постыдную историю тем единственным способом, который был мне доступен: публикацией статьи в «Литературной газете». Вернувшись из Москвы, где проводил отпуск, в Париж, я застал сообщение на автоответчике: представитель Ингосстраха раздраженно, сквозь зубы, извещал меня, что часть страховой суммы все-таки выплачена. Она была раз в десять меньше тех потерь, которые понес Ренэ.
Но дело-то вообще не в деньгах! За все эти годы, имея возможность безбедно жить, продавая картину за картиной, листок за листком, Герра до сих пор не расстался ни с одним из священных для него раритетов и зарабатывает на жизнь, преподавая русскую литературу и русский язык. А сознавая, какое количество мародеров не прочь поживиться собранным им богатством, держит свою коллекцию не только в парижском пригороде, но еще и в четырех тайниках далеко от столицы, адреса которых упорно скрывает. И я, несмотря на достаточную близость, возникшую между нами, не смею попросить его открыть эти тайники для меня. Береженого Бог бережет — этой простейшей истиной пренебрегали многие эмигранты, и советские спецслужбы в свое время хорошо преуспели, пользуясь их простодушием и беспечностью. Иные поплатились не картинами — жизнью…
Прощаясь, Зайцев сказал мне, что имеет одну задачу. Уже последнюю — других больше не будет: дожить до девяноста лет.
— Зачем, не знаю, — с какой-то будничной простотой добавил он. — Просто из любопытства.
Эту задачу он выполнил. И даже, можно сказать, перевыполнил: после девяноста прожил еще несколько месяцев. Он на неделю пережил Георгия Адамовича, смерть которого осталась совсем незамеченной. А на кончину Зайцева откликнулась, хоть и с опозданием, даже газета «Монд», поместив сообщение о ней под рубрикой «Новости из СССР». И все-таки, несмотря на этот абсурд, воздала должное, причислив, пусть и не очень точно, к «школе Тургенева и Чехова». Признала…
Попросить у Зайцева какую-нибудь его книгу с автографом я не решился. Оробел… Каким же было мое удивление, когда несколько месяцев спустя на мой софийский адрес пришла его книга «Река времен» с дарственной надписью — «…на память о встрече в Париже»! Адрес этот я ему не оставлял, но его знали и Адамович, и Прегель, и еще несколько человек из того же узкого круга.
Наконец прошло еще лет пять или шесть. Зайцева уже не было в живых. Я оказался в писательском доме в Дубултах в то же самое время, что и Чаковский. Он был один, без жены Раисы Григорьевны (на моей памяти он вообще с ней там не бывал), и упорно сторонился общения с дорогими коллегами. Ему даже отвели в столовой отдельный стол возле окна — на солидном расстоянии от других. Был июль, лучший месяц на Рижском взморье, я приехал в Дубулты с мамой и дочерью, но общаться с ними во время завтраков, обедов и ужинов мне Чаковский не дал: определил место за своим столом и не стал выслушивать моих возражений. Он бежал от назойливых собеседников, но и полного одиночества не мог вынести тоже. Как-то, не помню в какой связи, обронил:
— Вы ройте, ройте, но не зарывайтесь. — Довольный, что поставил меня в тупик, разъяснил: — Какого черта, бывая в Париже, вы шляетесь по эмигрантским закоулкам? От пыли вам не чихается? — Ответить не дал, только махнул рукой. — Ставите в дурацкое положение меня, газету, наших сотрудников. И совсем не думаете о себе. Ваша мать, к примеру, знает об этом? Прислушайтесь к ее опыту. А жена, которую я, хоть и виделся с ней очень кратко, вполне уважаю? Ей ведь тоже может достаться.
— Не понимаю, о чем вы… — пробормотал я, сраженный внезапным поворотом к давно исчерпанной теме: ведь я уже не был в Париже несколько лет.
— Не валяйте дурака! — обрезал меня Чаковский. — Со мной это не проходит. Посещаете антисоветчиков, получаете от них книги по почте. Это не смелость, а глупость.
Не доев свой компот, Александр Борисович тут же встал и ушел. Нотацию он мне прочитал за обедом. За ужином мы говорили уже совсем о другом и к сюжету об «эмигрантской пыли» никогда больше не возвращались.
Катке, действительно, много раз доставалось! За это или за что-то другое — точно не знаю. У нее не было такого громоотвода, как не раз меня удивлявший Чаковский. В сущности, ничего нового за тем обедом он мне не сообщил: лишь подтвердил, что глаза и уши особого назначения находятся повсеместно. Что забывать об этом не следует. Что тем, «кому нужно», известен каждый мой шаг.
Но мог ли я в этом когда-нибудь сомневаться?
Глава 19.
Баррикады и около
Ближе к ночи из хлебосольного старомосковского дома Зайцевых-Соллогубов мы переносимся в революционный Париж. Снова Сорбонна — толпа, и без того привычно огромная, стала, кажется, еще больше. Неслыханный наплыв публики, видимо, как-то осведомленной о том, что ожидаются знаменитости.
Попасть в амфитеатр нет никакой возможности. Речи почетных гостей можно слушать во дворе, где установлено несколько динамиков. Звук из одного наплывает на звук из другого, разобраться в этой какофонии нелегко, но что-то все-таки слышно.
Выступают Маргарет Дюрас, Жан Вилар, Клод Руа, кто-то еще. Речь главного гостя — Жан-Поля Сартра — слышно лучше, чем речи других. Словечко «буржуазия» повторяется едва ли не в каждой фразе. От монотонности и занудства этой опостылевшей терминологии не спасают даже сартровские парадоксы — типа «Быть буржуем значит быть жертвой буржуазии». В этом видимом глубокомыслии мне совсем не хочется разбираться, но здешние студенты, похоже, иного мнения: их шумные одобрительные аплодисменты свидетельствуют о том, что они в полнот восторге.
Записываю в блокнот — просто, чтобы не забыть пришедшую в голову мысль: «Полной духовной свободе кумиры противопоказаны, но для тутошних коммунаров они все-таки существуют, они смотрят им в рот, ожидая немыслимых откровений, а слышат лишь то, что хотят услышать. На смену одним идолам приходят другие, только и всего». Такими были мои впечатления — по горячим следам.
Сартр появляется во дворе, сопровождаемый огромной свитой, — наконец вижу его улыбающееся лицо, обращенное к десяткам фотографирующих людей разного возраста. Он бросает взгляд на портрет Троцкого, осуждающе, как мне показалось, качает головой, потом, увлекаемый толпой, исчезает из поля моего
зрения. С бульвара доносятся крики, шум, редкие взрывы. Толпа устремляется к воротам, там пробка. Выходим на Сен-Мишель. Начинается очередная схватка. Множество полицейских с собаками. Расторопные ребята тащат материал для баррикады. По какой-то причине возведение ее на этот раз идет вяло. Ждут чьей-то команды, а ее нет.
Даниэль Кон-Бендит, которому власти запретили въезд во Францию, преспокойно вернулся без всякого разрешения на чьей-то арендованной машине. Контроль на границах формально есть, но чисто символический, так что прибыль во Францию из Германии, Бельгии или Италии не составляет никакого труда. Впрочем, вряд ли секретные службы упустили Кон-Бендита из виду, он слишком заметен и ни от кого не скрывался. Закрыли глаза на его незаконный въезд? Не для того же он вернулся, чтобы просто показать прозрачность франко-германской границы. Значит, жди новых событий.
Они наступили поздним вечером 23 мая. Мы пришли на Сен-Мишель, который стал теперь и для нас родным домом, когда баррикады уже были возведены и напряженная атмосфера, царившая там, предвещала крупную драку. Необычно много людей с транзисторами в руках. Громоздкие — те висят на шее. Все ждут какой-то информации. Она может поступить в любую минуту, но многие просто стремятся узнать, что происходит на том же бульваре, в другой его части: репортеры ведут прямую трансляцию из разных точек Сен-Мишеля:
Восторженный рев необычайной силы оглашает бульвар. С каким-то пронзительно резким звуком падает срубленное дерево. За ним летит наземь еще одно: стройматериал для сегодняшней баррикады.
Пробиваемся несколько раз вверх и вниз: до Люксембургского сада и обратно к площади Сен-Мишель. Атмосфера восставшего города дополняется кошмарным пейзажем: столбы вырваны, деревья повалены, уже сожжены десятки машин, а другие еще горят.
Безжалостная казнь деревьев вызывает саднящую боль, но самое поразительное — это холодно-деловитые, какие-то осатаневшие лица «лесорубов» вполне приличного вида и восторженно-счастливые лица зевак, созерцающих их вандализм и взбадривающих криками одобрения бунтующих гуманитариев. «Надежда нации» — такую аттестацию дала им одна из афиш.
Предстояла безумная ночь, хотя и было вполне очевидно, что закончится она абсолютно ничем. С баррикад начнут кидаться камнями (к другому оружию прибегать не решались), полиция ответит гранатами со слезоточивым газом. Раненых унесут в походные лазареты — под них были переоборудованы близлежащие кафе и бистро, кое-кого (по счастью, немногих) доставят в больницы.
Мы ушли в три часа — битва была еще в самом разгаре.
Конец наступил в пять утра — воюющие стороны разошлись, чтобы передохнуть и набраться сил. До новых встреч…
У нас же на следующий вечер другие планы (впрочем, опоздать на баррикады все равно невозможно: «самое интересное» начинается только после полуночи). Болгарский профессор Димитр Братанов, в прошлом социал-демократ, вовремя примкнувший к тем, кто оказался у власти, дал нам рекомендательное письмо к мадам Ромен Роллан: о ее муже он написал книгу и стал таким образом персоной грата у его вдовы.
На втором этаже в доме по бульвару Монпарнас, 89 мы звонили до неприличия долго: никакого ответа! Наконец дверь открылась — появившуюся на пороге, что-то жевавшую женщину в рваной кофте и поношенных туфлях на босу ногу я принял сначала за домработницу. Оказалось — сама Мария Павловна Роллан, в прошлом Майя Кудашева, некогда подававшая надежды русская поэтесса. Разговор сначала не клеился — потом лед был растоплен, хозяйка разговорилась и даже предложила за ней записывать: была убеждена, что о нашей встрече я напишу.
Рассказывала, что влюбилась в Роллана заочно, трижды приезжала погостить, присмотреться, потом безуспешно добивалась возможности уехать к нему насовсем. И что решающую роль в счастливом исходе сыграл Горький. Версия эта воспроизведена в печати множество раз. Теперь, после открытия многих архивных документов и публикации ряда мемуарных свидетельств, закулисная правда об этом альянсе предстает не столь романтичной. В книге о Горьком — многие годы спустя — я написал об этом подробно, но тогда ничего такого, конечно, не знал и слушал Марию Павловну, развесив уши. Лишь многие годы спустя оброненная ею фраза — «Я еще до отъезда к Роллану знала, что от ГПУ никуда не деться» — фраза, которой тогда я не придал значения, — обрела для меня свой истинный смысл: раз никуда не деться, значит, лучше смириться и стать послушным орудием в их руках.
Вскоре записывать я уже не мог. Наступила темнота, но света в кабинете Мария Павловна не зажгла. Единственным освещением служили уличные фонари и рекламы малолюдного в тот вечер Монпарнаса. Так, в зыбком и таинственном сумраке, долго еще продолжался ее монолог.
С каким-то особым нажимом, — видимо, чтобы запомнилось, — сообщила, что не была в Москве с тридцать пятого года и вот только что, в марте шестьдесят восьмого, поехала туда отмечать столетний горьковский юбилей: «Не могла отказаться, ведь Горький столько сделал, чтобы мы с Ролланом могли пожениться».
— Ждала, что меня в Москве замучают вопросами. Тому интервью, другому, придется рассказывать про всякую всячину, а журналисты и товарищи из Союза писателей интересовались только одним: «Вы наслаждаетесь Москвой?» Но как можно там чем-нибудь наслаждаться? Ведь столько горя — было и есть!
Я пленился этим ее признанием, не зная, что вскоре за этим последует. Она продолжала:
— Меня, видно, приняли за туристку — все время спрашивали про метро. Согласна ли я с тем, что оно лучшее в мире? Возможно, и лучшее, ну и что? Метро теперь есть везде, а я никуда не езжу. И зачем мне сравнивать метро в разных городах — разве я архитектор? И разве вообще это самое главное?
Она мне нравилась все больше и больше: рассуждала здраво, выражалась едко, хотя пока что на вполне обывательском уровне. Куда интереснее был рассказ о Роллане. О том, что он посылал в Москву письма и телеграммы в защиту Бухарина и доктора Левина — тогда об этом вряд ли кто-нибудь знал, кроме тех, быть может, кто имел доступ к сверхзакрытым архивам. Ее попытки разыскать в Москве письма Роллана к Бухарину окончились ничем: все только пожимали плечами и старательно уклонялись от продолжения разговора. У нее сохранилось много писем Бухарина к Роллану — предлагала в Москве отдать их, но все отказались. «Все» — это, видимо, те, с кем она там общалась: господа из Союза писателей, из Института мировой литературы.
Я попросил дать мне копии — с гарантией, что они поступят в рукописный фонд главной библиотеки страны: других архивных контактов у меня тогда не было. Гарантия, конечно, была легкомысленной — нетрудно представить себе, как бы на меня в «Ленинке» посмотрели, явись я туда с таким драгоценным подарком. Мария Павловна отказалась, — возможно, в мою гарантию не поверив. Не уверен, что эти письма и сейчас известны у нас. Пусть даже самому узкому кругу. Вероятно, так и лежат в архиве Роллана. Руки до них ни у кого не дошли.
О Роллане говорила мало — лишь вспомнила почему-то, что фашистский комендант Парижа генерал Шпейдель оказался его страстным поклонником и приезжал в сороковом году справиться, не досаждают ли ему чем-нибудь оккупанты. Роллан никаких жалоб не высказал, Шпейдель почтительно откланялся, а тридцать лет спустя к ней пришли за подписью под письмом-протестом: французские интеллектуалы негодовали по поводу того, что в НАТО представлять ФРГ будет бывший нацистский генерал. Она отказалась: ведь Шпейдель так тепло говорил о Роллане, так его чтил, был так заботлив к нему.
— Меня за этот отказ здесь невзлюбили, а вот Катаев, когда я ему рассказала про историю Шпейделя, меня расцеловал. Как это все-таки хорошо: наши люди куда гуманнее, и они не злопамятны.
Я заметил на столе — с закладкой посредине — томик Федора Абрамова. Она перехватила мой взгляд:
— «Три зимы и три лета» — это превосходно. А вообще я советских сейчас не читаю. Уже оторвалась — живу другими интересами и в других мирах.
Вдруг, оставив нас с Капкой вдвоем — в темноте, чуть разбавленной светом уличных фонарей, — куда-то прошлепала, я сдуру подумал, что ушла за каким-нибудь раритетом — хочет нам его показать. Но вернулась с обглоданным яблоком и, продолжая его жевать, объяснила:
— Мне велено все время себя подкармливать — маленькими дозами. Яблока вполне достаточно…
Выражала свой восторг речью Леонида Леонова на горьковском юбилее, но нашла в ней некую скрытую крамолу и поняла, что полный текст опубликован не будет. Так и оказалось. Федин, которого она просила эту речь напечатать, сказал, что такие вопросы решает не он и что вообще от него ничего не зависит. Даже это ее удивило не слишком, а вот то, что свою беспомощность признал Микоян, — в это она отказывалась поверить. («Я так просила его вмешаться, а он только руками разводил».) Мне пришлось заверить ее, что Микоян уже несколько лет не имеет ни на что никакого влияния и мало подходит даже на роль свадебного генерала. В темноте я не столько увидел, сколько почувствовал ее удивленный взгляд.
Она стала рассуждать о наших вождях. Былых и нынешних. Хрущев плохой человек, потому что всегда смеялся. Косыгин — хороший, у него серьезный вид и печальная улыбка. О Брежневе — «воздержусь: он у власти, и вам нельзя о нем слушать критику за границей».
— Зато можно о Сталине, — заметил я.
— У меня остались о нем, — сказала Мария Павловна, — неплохие впечатления. Скорее, даже хорошие. Возможно, он и не так виновен, как об этом теперь говорят. В нем было много обаяния, и рассуждал он вполне разумно. Его тяготила любая несправедливость. На обеде у Горького, где были еще Молотов, Каганович и Ворошилов, Сталин сказал: пора перестать обращать внимание на то, кто чей сын или дочь, а научиться судить о человеке по тому, каков он сам. Он говорил очень искренне, и мы все, разумеется, с ним согласились. А вы бы не согласились? Трудно поверить, чтобы человек до такой степени противоречил сам себе: говорил одно, а делал совершенно другое. Нет, тут что-то не так.
Захотелось откланяться. «Нас ждут на баррикадах», — повторил я фразу Эммануэля де Ру.
Мария Павловна отнеслась к ней с полной серьезностью. Успокоила:
— Октябрьской революции в Париже не будет.
— Жаль… — Провоцирующая эта реплика сама просилась наружу, и я не удержался.
Почувствовав издевку, мадам Роллан промолчала. В темноте я опять же скорее ощутил, чем увидел ее настороженный взгляд.
— Возможно, — сказала она наконец. — Но не будет.
В моем парижском блокноте записано: «27 мая. Резкий поворот к худшему». Сколько ни силюсь, не могу вспомнить, чем именно вызвана эта запись. Все, что я тогда записывал, отражало мои личные впечатления, а не информацию, полученную из газет, если только я не делал соответствующей оговорки. На этот раз никакой оговорки нет.
Тут же запись об очередном посещении Доминика де Ру. Вот ее краткий и точный текст: «Доминик: У де Голля добрые отношения с Советским Союзом, никого для себя лучше Москва сейчас во Франции не найдет. Я: А коммунисты? Доминик: Даже если и взяли бы власть, то не удержали бы. Сомнут свои же союзники, которые вовсе им не союзники, а непримиримые враги, — маоисты, троцкисты. Но все эти разговоры о взятии власти вообще сплошная утопия. НАТО Францию не отдаст, а войны не хотят ни те, ни другие. Выход из кризиса неизбежен. Вопрос в другом — с жертвами или без. А если с жертвами, то много ли их будет? Главное: как этот кризис, самый тяжкий за всю послевоенную историю Франции, повлияет на будущее — и страны, и Европы, а, возможно, и мира?».
Разговор этот происходил после дивно проведенного воскресного дня: один сослуживец Капки, давно эмигрировавший поляк, сотрудник ЮНЕСКО, великолепно говоривший по-русски, пригласил нас «отойти душой от ночных кошмаров» и прокатиться в Сенлис и Компьень.
Судя по прессе, волнения охватили и провинцию, но стоило чуть отъехать от Парижа, и ничто уже не напоминало ни о бурной жизни Латинского квартала, ни вообще о какой бы то ни было политике — с любым знаком. Очаровательные городки и селеньица, которые мы проезжали, были украшены живыми и бумажными цветами, ярко разрисованными куклами, воздушными шарами: праздновался День Матери. Повсюду играли любительские оркестры, на площадях танцевали нарядно одетые люди, шли соревнования по стрельбе из лука. Созерцание этой воскресной жизни возвращало душевный покой и надежду на то, что все же не весь мир еще обезумел.
По дороге завтракали в крохотном домашнем пансионе, гордо названном отелем и рестораном. В первом этаже уютного домика размещался магазинчик и два аккуратно накрытых стола для проезжающих гостей, во втором — покои хозяев, в мансарде — комнаты для путников, которые захотели бы переночевать. Типичная семья мелкого буржуа, который, по Сартру, почему-то должен был стать «жертвой буржуазии». Ни добродушный толстяк-хозяин, наслаждавшийся на террасе лучами нежаркого солнца, ни его жена на жертвы не походили. Ни в каком смысле.
Хозяйка подала дивный кофе со сливками и свежими круасанами, потом — совсем по-простецки — сама присела за столик. Вздохнула: сын-студент в Париже, вот уже второй уик-энд подряд он не приехал домой и даже не позвонил. «Тихий, застенчивый мальчик, — сказала она, показав его фото в рамке, прикрепленное к стене. — Всегда был заботливым сыном. Неужели он там воюет? Зачем и за что?» Могли ли мы ей ответить? Впрочем, никакого ответа она, разумеется, не ждала.
Теперь каждый вечер на Сен-Мишеле я невольно вглядывался в лица молодых инсургентов, словно пытаясь отыскать того «мальчика». Задача была заведомо неисполнимой, но — и это главное — почта все они мне стали казаться «застенчивыми и тихими», в которых какая-то безумная сила пробудила дьявольские инстинкты. Рубить и валить на бульваре уже было нечего, но баррикадный материал непостижимым образом находился всегда, а бессмысленные баталии, похожие одна на другую, изрядно уже надоели. Де Голль улетел в Баден-Баден — там были расквартированы французские войска, и в Париже с часу на час ждали нового поворота событий.
Я заехал за Капкой в ЮНЕСКО и встретил у входа болгарского постпреда Любомира Драмалиева вместе с советским — Вадимом Собакиным. Они спешили в наше посольство: там давали прием по случаю отъезда какого-то дипломата. Собакин очень настойчиво звал нас с собой. Довод: «Мы не приглашены» — он отвергал: «Вы же со мной!». Хватило сил уклониться: кто знает, какой товарищ — и о чем — захочет там
побеседовать и дать ценные указания? Лучше бы не встречаться: изобилие икры и водки не компенсировали возможных потерь.
Наверно, я зря страховался, но все обошлось к лучшему: мы отправились автостопом к Елисейским полям, там, как сообщало радио, по призыву де Голля уже началась мощная «контрдемонстрация».
Она действительно оказалась очень внушительной: чуть ли не миллион французов, заполнив все пространство от площади Согласия до площади Звезды, подтверждали верность Республике и готовность отстоять ее идеалы. С пением Марсельезы во главе шли министры Мишель Дебре и Андре Мальро, но об их участии я узнал лишь назавтра: когда мы добрались, голова колонны уже приближалась к Триумфальной арке. Зато увидел другое: лица манифестантов.
Самое примитивное: противопоставить их аристократизм и благородство «плебейству» бунтовщиков. Это было бы просто абсурдом, ведь «коммунары», строители и защитники баррикад, относились в своем большинстве к французской интеллигенции и в ее же лице находили поддержку. Нет, отличие состояло в другом: лица демонстрантов на Елисейскиих полях не были искажены злобой, они отличались спокойствием, отсутствием суетливости, аффектации. Никто не имитировал деловитости, прилива бурной энергии — люди просто шли в соблюдавших строгий порядок рядах, самим своим присутствием возвращая душевное равновесие растерявшимся в последние дни парижанам.
Вот ночная запись в моем блокноте — по завершении демонстрации: «Наверно, протестующие (не очень ясно понимаю, против чего конкретно) во многом правы. Не мне судить. Пусть даже они полностью правы. Жить лучше — это естественное стремление любого человека. Но меня отталкивает, угнетает, раздражает их ожесточение. И тем самым их правота. Точнее, не сама правота, а то, каким образом они ее выражают и утверждают».
…Транзисторы в руках прохожих орут во всю: де Голль вернулся в Париж; якобы танки окружили столицу, еще того хлеще — кто-то будто бы видел танки уже вошедшими в город. Слухи ползут, обрастая по дороге новыми подробностями, — правдивыми, правдоподобными, вздорными, чаще всего один нелепее другого. Самый последний — кажется, достоверный: в рядах «защитников» Сорбонны появились «катангийцы» — выходцы из страны, которая тогда называлась Конго-Браззавиль.
Это известие подается как нечто зловещее и вызывает особый страх. Не знаю почему, но я тоже им заражаюсь. Другой слух похож на полуправду, при проверке легковых машин с намалеванными знаками красного креста («добровольная помощь пострадавшим», ее оказывают студенты-медики) в них обнаружено большое количество оружия. «Советского» — с особым значением сообщает мне хозяин моей «меблирашки». «Китайского» — утверждает бармен в ближайшем бистро, где по утрам я пью кофе. Уже легче, раз есть расхождения. И все равно неприятно.
…Город внезапно пустеет. Люди исчезли. Оказалось, объявлено: де Голль выступит с обращением к нации. Все собрались у приемников. Речь длилась семь минут. Я ее не слышал, но кругом только о ней и разговоров. Обещает распустить парламент, провести референдум, назначить новые выборы. Похоже, генерал овладел ситуацией. Как и предсказывал Доминик.
Утомившись от бесцельного шатания по ночным баррикадам и еще больше от их тупикового однообразия, решаю посетить Сорбонну в дневные часы: что-то же там происходит. Нет, ничего особенного. Памятник Монтеню заляпан афишами. Торгуют красными книжечками-цитатниками великого Мао. В дворовых мини-митингах участвуют человек по пятнадцать-двадцать. Множество любопытных слоняется в ожидании событий.
Одно, кажется, начинается. Площадка перед входом в университетскую церковь и ступеньки, к ней ведущие, превращаются в некое подобие сцены. На ней появляется несколько бородатых парней — все, как один, нагишом. Совершеннейшим нагишом…. Одни аплодируют, другие свистят. Перекрывая шум, голый брюнет — самый рослый из всех — возвещает: «Свобода мысли начинается со свободы тела». В толпе улюлюкают и смеются, но все ждут продолжения.
Общество «Долой стыд!» у нас уже было. Не то в семнадцатом, не то в восемнадцатом. Я достаю аппарат и делаю несколько снимков: мизансцена прелестная — голые революционеры под портретами Маркса и Ленина. Миловидная девушка — она восседает рядом на плечах своего кавалера — укоризненно говорит мне:
— Перестаньте, это же стыдно.
— Кому? — стремлюсь я уточнить. — Им или мне?
— Всем нам. И вам в том числе.
Я убираю свой аппарат — снимки сделаны вовремя: несколько молодых людей с повязками «Комитета действия» разгоняют борцов за «свободу тела». Их куда-то ведут — они не сопротивляются. «У нас свобода или у нас нет свободы?» — слышится тот же голос бородатого брюнета. Со спины он почему-то уж не выглядит Апполоном. Конвоиры не отвечают — диспут закончен. Начинается новое шоу: взобравшись на ту же сцену, юные маоисты хором запевают — по-французски! — «Алеет Восток».
Возвращаюсь в гостиницу, чтобы записать свои впечатления и привести в порядок старые записи. За барьерчиком «дежурки» нет никого. Снимаю со щитка ключ от комнаты и поднимаюсь на свой четвертый этаж. Только уселся — слышу, как ключ ищет с той стороны замочную скважину. Замирая, жду продолжения. Дверь распахивается — на пороге хозяин гостиницы, за ним какой-то крепыш — «будка» со скошенным подбородком.
Немая сцена длится несколько мгновений. Хозяин быстро осваивается с неожиданной ситуацией. Словно меня не видя и не попросив извинения за вторжение, начинает объяснять крепышу, где надо бы поменять проводку. Осмотр длится несколько секунд, и оба визитера удаляются, не попрощавшись.
Принимаю инцидент за бестактность, бесцеремонность, пусть даже и хамство. И быстро о нем забываю. Вспоминаю лишь после возвращения в Москву, когда из редакционной фотолаборатории мне возвращают сплошь черные пленки. Засвечены все — с небольшим исключением. Главное потеряно окончательно, сорбоннский стриптиз — в том числе. Осталось лишь нечто нейтральное. Есть ли связь между этой загадкой и тем странным визитом? Кто знает…
Вечером Капка приходит из ЮНЕСКО со свежими новостями. Польский полпред был на том самом приеме в советском посольстве, на который мы не пошли. Потом рассказывал коллегам, как кто-то из наших дипломатов, отражая, естественно, не только личную точку зрения, дал такую оценку сложившейся ситуации: «Беспомощные французы! Сколько можно чикаться с этими хулиганами? Хоть бы спросили нас, как это делается. Мы бы им объяснили: поставить две пушки в Люксембургском саду, пальнуть пару раз, и все бы сразу закончилось».
Еще одна встреча с Франсисом. Адвокат-коммунист не столько, кажется, приуныл, сколько стал более сдержанным и разумным:
— Наша партия решила не вмешиваться. И правильно: нельзя терять хладнокровия. Настоящая борьба еще впереди. А эта авантюра должна захлебнуться. У нее нет перспективы.
Доминик менее категоричен и видит ситуацию иначе:
— Потребность в переменах несокрушима Несмотря на любовь к стереотипам, молодое поколение отвергает все известные «измы» — коммунизм, социализм, фашизм, маоизм, капитализм, — но никакого нового «изма» еще не нашло. Идет его поиск. Баррикады на Сен-Мишель, конечно, исчезнут, но они не исчезнут в умах.
Его брат Ксавье, который слышит этот монолог, — прагматик и реалист
— Все скоро закончится. Приближается время летних отпусков — ни один француз от них не откажется.
Поток отпускников устремляется в разные стороны из Парижа лишь 30 июня. До этой даты еще далеко. И конца «заварушке» пока что не видно, хотя в дневные часы двор Сорбонны уже скорее туристский объект, чем штаб «Парижской коммуны». Коммунистические стенды исчезли вообще, зато антикоммунистических прибавилось втрое. Оскудела и портретная галерея: висят один Троцкий и один Мао. И никто больше. Университет еще «оккупирован», но дискуссии фактически прекратились. «Все закончилось», — сокрушается Капка.
Как бы не так!
Вечером 11 июня мы мирно сидели на террасе кафе «Клюни», размышляя о том, не пойти ли в кино, как вдруг вдоль бульвара, к Люксембургскому саду, пронеслись сначала несколько групп молодежи, воинственно что-то крича, потом мотоциклы и машины, с которых раздавались абсолютно неразличимые из-за уличного грохота крики, следом за ними рванули машины все с теми же, наспех намалеванными, красными крестами. Чуть погодя послышались звуки то ли хлопушек, то ли разорвавшихся гранат, и началась — с какой-то поразительной внезапностью и вроде бы совсем беспричинно — уже знакомая «заварушка». За считанные минуты бульвар приобрел канувший было в прошлое повстанческий вид, из всех боковых улиц появились полицейские в шлемах, с дубинками и щитами в руках, но уже не было строгого деления на две, противостоящие друг другу, стороны, все смешались — и «белые», и «красные» — в одну кучу, и от этого стало еще страшнее.
Инсургенты изменили тактику, они нападали на полицейских «по-партизански» — из-за угла, со спины, выскакивая из подъездов домов и тут же скрываясь в других. За ними началась охота. Ее объектом мог практически стать каждый — ведь в такой ситуации точно определить, кто есть кто, вряд ли возможно.
Спонтанно ли так получилось или обе стороны были подготовлены к перемене тактики, но и полицейские вели себя уже не так, как раньше. Они не только прикрывались щитами от летящих камней, но и сами отвечали тоже камнями. И появлялись неизвестно откуда там, где их не ждали, и пуляли камнями в студентов (если это и вправду студенты). У «противника» щитов не было, даже и самодельных, поэтому походные лазареты в ближайших кафе быстро наполнились ранеными — мальчишки и девчонки в белых халатах несколько суетливо, но вполне деловито, оказывали им первую помощь. Крови было достаточно, ваты и бинтов, похоже, не слишком.
Быстро стемнело. Ни один фонарь (их, в сущности, уже не осталось) не горел, но зато исправно работали никому не нужные светофоры, хотя движение машин по запруженному людьми бульвару, естественно, прекратилось. Баррикад не было тоже — то ли из-за отсутствия подручного материала, то ли из-за перемены тактики. С разных сторон слышались взрывы, машины горели на соседних улицах — там зловеще полыхало, стелился дым, несло едкой гарью, Текли слезы от беспрерывно падающих где-то вблизи фанат.
Странное ощущение, будто главное событие еще впереди. Напряжение нарастало. Много людей сгрудилось вокруг немолодого господина с транзистором в руках — он громко, чтобы слышали все, сообщал о том, что передают репортеры. «Взрывы и пожары во всех районах города», — слышу обрывок его фразы. Снизу на бульвар вползают бульдозеры. Их, мирный в обычное время, облик на этот раз жуток. Становится страшно не понарошку.
Мы заходим в небольшое бистро на бульваре, возле улицы «Эколь де медсин». Там опасность кажется менее сильной. Стены вроде бы защищают. Дверь не закрывается ни на мгновенье: входят и выходят молодые люди в шапочках с надписью «пресса». Вносят двух раненых: у одного кровь залила половину лица, другому бинтуют ногу. Тем не менее ресторанная жизнь продолжается: официант принимает заказы, у стойки бара заполнены все сиденья. Мы заказываем жареную картошку и пиво — есть не хочется, но привычный процесс неспешной еды притупляет трудно поддающееся логическому объяснению чувство грозящей опасности.
Грохот извне становится все сильнее. Входят трое полицейских и очень вежливо просят предъявить документы. Одного из тех, кто пил пиво за стойкой, уводят — до нас очередь так и не дошла.
Предупреждение Собакина вдруг обретает реальность. Капка начинает паниковать. Без всякой необходимости она просит меня кому-нибудь позвонить. Неизвестно зачем. Все равно кому. Ее возбуждение передается и мне. Случайно натыкаюсь в блокноте на имя журналистки Клод Кижман, в ту пору жены известного адвоката Жоржа Кижмана, в будущем члена кабинета министров. Клод, с которой мы познакомились неделю назад, не может понять, чем вызван наш звонок и чего мы хотим. Как ей понять, если не знаем мы сами? «За вами приехать?» — предлагает она. «Нет, не надо». Бессмысленный разговор окончен, но стало вроде бы легче: теперь хоть кто-то знает, где мы находимся.
Окончив трапезу, расплачиваемся и выходим: слишком много людей ожидает стол, испытывая, возможно, те же чувства, что мы. Гарь, вызывающая слезы и чих, становится просто невыносимой. Совсем рядом падают осколки стекла: на втором этаже соседнего дома камнем разбито окно. Девица с ошалевшими глазами хватает меня за рукав:
— Ваше имя?! Вы будете свидетелем преступлений полиции. Этого еще не хватало!
— Не буду! — решительно говорю я.
— Так вы буржуй! — взвилась она. — Что вы тут делаете? Вам здесь не место.
Пробую отшутиться.
— Провокатор! — раздается голос за моей спиной.
Ну вот, началось… Инцидент продолжения не имеет девица вдруг срывается с места, устремившись к толпе, где, кажется, начинается драка. Пронесло…
Полное ощущение восставшего города. Облака в темном небе сначала розовеют, потом вишневеют — это отблески пожаров. Приближается полицейский патруль — я ловлю себя на мерзкой мысли, что боюсь проверки документов. Нет, проходят мимо. Пора уходить и нам — оставаться опасно. Мы с трудом протискиваемся сквозь толпу к площади Сен-Мишель, которая — к полной нашей неожиданности — оказывается почти пустой: «заварушка» осталась там, на пятачке вблизи от Сорбонны. Но все выходы с площади перекрыты полицейскими цепями — издали видно, что каждый, проходящий через цепь, предъявляет какой-нибудь документ. Остаться внутри окружения? Но это еще опаснее.
Была — не была… Капка берет меня под руку, и мы вполне безмятежно, как заправская туристская парочка, которой некуда спешить и некого бояться, вальяжно пересекаем площадь. Если что, пропуск Капки на вход в ЮНЕСКО может, наверно, помочь. Но документов не спрашивают: у нас вполне респектабельный вид. «Проходите», — равнодушно произносит ажан, осмотрев нас с головы до ног.
Через четыре дня, в воскресенье, идем на чай к Эльзе Триоле. Улица Варенн, 56. Старинный особняк в глубине двора, посреди которого — большой черный «ситроен». На пустынной улице много охраны, но стерегут не Эльзу и не Арагона, а расположенную напротив резиденцию премьер-министра — отель «Матиньон». По мраморной лестнице поднимаемся на второй этаж и, минуя парадную дверь, сворачиваем на другую лестницу — крохотную и витую. Это отдельный вход к Эльзе. Остаемся в ее кабинете, откуда — через распахнутые двери — видна гостиная огромных размеров.
Эльза элегантно одета, красиво причесана, благоухает тончайшими духами, руки ухожены, и на них немного изящных колец. Только вот — странное дело: у Лили Юрьевны, ее сестры, еще дальше зашедшая старость вообще не кажется старостью, а лишь зримым отражением прожитой жизни — красивой и бурной. Тогда как у Эльзы невольно замечаешь даже самые малые признаки увядания, сколь бы тщательно и умело она ни пыталась их скрыть. Все выпирало, все было назойливым: роскошная старинная мебель, изумительно тонкий, драгоценный чайный сервиз, замысловатой формы шоколадные конфеты в дорогой бонбоньерке. Я хотел бы этого не заметить, ибо беседа была для меня куда как важнее. Хотел, но — не мог.
О многих — самых важных, мне кажется, — аспектах этой беседы (она длилась более трех часов) я уже рассказал в книге о Лиле Брик. Но кое-что, очень важное, осталось за пределами того рассказа. И кое-что — лишь немногое — требует повторения.
Мы начали с Маяковского — и закончили им же. Начали потому, что афиша прошедшей годом раньше в Париже выставки, ему посвященной, лежала на самом видном месте, и я это сразу отметил. Отметил и то, что выставку устроили на дальней парижской окраине, в крохотном зале, и длилась она всего десять дней.
— Как ни странно, имела огромный успех, — с гордостью сказала Эльза.
Странно?!. Почему странно?
— Его же во Франции почти не знают. (А я-то всегда был уверен, что у Маяковского именно во Франции огромная популярность.) Чепуха! — отмахнулась Эльза. — Известен в узком кругу. Я делала все, чтобы популяризировать здесь его творчество, но не очень-то удавалось.(Отчего же тогда у выставки огромный успех?) Вот это я и пытаюсь понять. Наверно, он очень кстати именно сегодня. Ведь мы переживаем ренессанс революционного романтизма. У Маяковского — и в стихах, и в судьбе — есть все, к чему тянутся сегодня и от чего стремятся избавиться. Страсть. Неприятие буржуазного мещанства. Потребность менять сложившийся уклад жизни. Но главное — искренность: всем надоело постоянное фарисейство.
Я чуть было не испортил весь разговор — брякнул то, чего Эльза заведомо не хотела слышать. Она стала показывать иллюстрации к книге Шкловского о художнике Федотове, которую тогда переводила, и заметила мою гримасу. Или что-то похожее на нее.
— Шкловский?! — Интонация, с которой я повторил вслед за ней это имя, ее насторожила.
— Вам не нравятся иллюстрации? Или книга? — спросила с отчужденной холодностью.
Я что-то пробормотал про эпизод, который никогда не мог забыть. Не могу и сейчас… Про то, как в октябре пятьдесят восьмого Шкловский с Сельвинским отметились в ялтинской «Курортной газете» проклятьями Пастернаку, хотя их-то уж никто ни выступать, ни голосовать не понуждал. Жили в Ялте — имели алиби…
Лицо Эльзы приняло каменное выражение. Если бы я тотчас не перевел разговор в другое русло, наверно, надо было встать и уйти, — таким убийственным взглядом она меня одарила. По наивности и постыдной своей темноте я тогда еще не знал, до какой степени она не могла терпеть Пастернака и до какой — обожала Шкловского. Даже отвергнув в младые годы его любовь…
Но и про события последнего месяца Эльза говорила не очень охотно, как и сам Арагон, присоединившийся к нам часом позже.
На его встрече со студентами в той же Сорбонне я не был, но знал из газет, что он полностью поддержал их движение, которому еще 13 мая посвятил весь номер своего еженедельника «Леттр франсез»: ко времени нашей встречи на улице Варенн этот номер я уже зачитал до дыр. Но еще до того, как подошел Арагон, Эльза высказалась куда как сдержанней.
— Движение неоднородно. В нем много искренности и много фальши, к мальчикам с чистыми порывами примазались политические спекулянты. О нашем отношении мы заявили, а теперь лучше всего сохранить дистанцию.
Загадки («сохранить дистанцию»?) никакой не было: позиция ФКП, то есть иначе сказать — Москвы, к тому времени уже определилась, и для Арагона она была обязательной. Я (как видно, не слишком умело) попробовал вернуться к этой же теме, когда пришел Арагон, но Эльза так ловко от нее увела, что мне пришлось замолчать.
С каждой минутой становилось все очевидней: никакого права голоса Арагон не имеет, со своим мнением, если оно и есть, заведомо не согласен, раз с ним не согласна Эльза. Всем заправляла она. От ее непререкаемости становилось невмоготу, даже если она вещала нечто бесспорное.
Эльза говорила, переходя с русского на французский, потом снова на русский, Арагон все время кивал, когда речь шла о злобе дня. Произвел впечатление один из ее пассажей — я его рискнул записать тут же, вызвав недоуменный взгляд Эльзы: мы ведь пришли в гости, а не за интервью.
— Нас с Арагоном здесь очень любят. Несколько дней назад меня посадили в президиум коммунистического собрания, хотя я и не член партии. Такая уважительность мне очень приятна. А в Москву мы не поедем, там нас не любят.
Это замечание — скорее всего, под горячую руку — было сделано в связи с начавшейся как раз в те дни на страницах софроновского «Огонька» кампанией подручных Суслова — Воронцова и Колоскова — против Лили Брик и вообще всего «еврейского окружения» Маяковского.
— Эти невежды и пакостники, — с плохо сдерживаемой яростью говорила Эльза, — даже не знают или не хотят знать, что Лиля никогда не объявляла себя женой Маяковского, это Сталин в тридцатые годы назвал ее так, а она всегда называла себя Лилей Брик, и никак иначе. И ни на какое вдовство не претендовала. Я получила письмо от Симонова… Только что… Оно шло чуть ли месяц… Вы не знаете, почему они — там, в Москве — не могут читать чужие письма чуть побыстрее? — Оценив мою усмешку, продолжила — Он мне сообщает, что его открытое письмо с протестом и осуждением клеветников «Литературная газета» отказалась печатать. Если такую оплеуху дали даже ему, то чего могу ждать я? На мои возмущенные письма в «Огонек» и в «Литературную газету» до сих пор нет ответов. И, конечно, не будет. Значит, всей этой кампанией дирижируют сверху, и никому не дозволено думать иначе. Ну, уж нами-то они дирижировать не смогут.
Конечно, подумал я, это не вопрос о том, что делать с бунтующими студентами. И не о том, попытаться ли взять власть в свои руки. Хотя бы тут у Эльзы и Арагона есть какая-то свобода рук.
Эльза между тем продолжала:
— Фальсификаторы из «Огонька» пытаются доказать, что Лиля — никто. Просто ноль… Если это так, чего же они с ней воюют так злобно? Тем более — такие важные партийные тузы. Да пусть они найдут Маяковскому еще хоть сто любовей, ничего от этого не изменится. Где они все, его мимолетные подруги? Их ведь действительно было немало. Кто для них Маяковский? Яркая страница в их жизни. В их — не в его. А для Лили Маяковский это она сама. Он завещал ей — люби меня! И она исполнила его просьбу. Этого ей не простят.
— Дело не в Лиле Юрьевне, — попробовал я вставить слово. — Она лишь повод…
— Конечно! — тотчас подтвердила Эльза. — Симонов так и пишет: антисемитская кампания будет продолжаться. Кому-то не терпится вернуться к делам космополитов и убийц в белых халатах. Симонов не понимает, кому и зачем это сейчас нужно, но считает, что положение очень серьезное. Мы с Арагоном решили, что будем публиковать протест. Мы и так слишком долго молчали, когда в Советском Союзе происходило нечто несусветное. А если говорили, то тщательно выбирали выражения, например, по делу Синявского и Даниэля два года назад. Боялись за Лилю, боялись за оставшихся там друзей. И не хотели порочить Советский Союз, потому что мы не попутчики, мы настоящие друзья. По убеждению… Но — все, хватит! Спрашивать разрешения мы ни у кого не намерены, потому что борьба с антисемитизмом — это дело каждого порядочного человека, каждого, кто не утратил чести, так что никакого дозволения для этого не требуется.
Все-таки мысль о дозволении не покидала ни ее, ни Арагона — свой отказ его испрашивать они уже принимали за подвиг.
— Кстати, а ваш смельчак… — Она не сразу раскрыла имя этого смельчака: речь шла о Евтушенко. — Что же он-то не протестует? Во-первых, задели память его литературного учителя. Конечно, учителя, даже если сам Евтушенко так не считает. А во-вторых — уж он-то понимает, что все это беспардонная антисемитская акция. Автор «Бабьего яра» мог бы подать свой голос, вы как считаете? Впрочем, бывая в Париже, он никогда не дает о себе знать, никогда не посещает нас. Вероятно, мы не из его компании. А вот Рождественский бывает всегда. Был у нас месяц назад. Возмущался. Но тоже вряд ли сделает что-то — слишком уж большие силы включились в игру.
Арагон вдруг оживился:
— Москва была центром свободомыслия и новых прогрессивных идей. Теперь ее сделали центром реакции и консерватизма. Студенческое движение нацелено не только против Елисейского дворца, но и против Кремля.
Свободомыслие? Прогрессивные идеи? Что это: путаница в терминологии? — подумал я. Деформированная шкала ценностей? Неизжитый догматизм? Похоже, Арагон все еще общался с великими тенями: Маяковский, Мейерхольд, Эйзенштейн, Шостакович, — соединяя их в некое единое целое под эгидой «прогрессивной Москвы». А «на баррикадах и около» воевали другие и — за другое. Но и в эту дискуссию я предпочел не вступить. Наверное, зря…
Мне показалось: Эльзе тяжело говорить. Не в переносном — в буквальном смысле. Поразительно: она сразу прочла мои мысли!
— Мне во вторник предстоит операция челюсти. Все откладывала, откладывала — больше нельзя. Столько дел — я про вторник совершенно забыла. Если бы мы сегодня не встретились, то потом— разве что осенью. Никаких посетителей — баста!
Мой взгляд упал еще на одну афишку с очень знакомым именем: Ilia Glazounov. Его выставка — об этом написано выше — как раз в эти дни проходила в Париже, в галерее «Мона Лиза», совсем рядом с домом Арагона и Триоле. Эльза поморщилась:
— Отвратительно!
Всего тремя неделями раньше я слышал, как Зайцев восхищался его работами, называя Глазунова «русским импрессионистом». Эти люди жили в разных измерениях и имели разные точки отсчета.
— Париж бунтует, — отметила Эльза, — а Глазунов пишет портрет Помпиду и с гордостью сообщает об этом на всех перекрестках. Лучше бы помолчал.
Так она отреагировала на оброненную мною фразу, что надо бы сходить на его выставку, пока та не закрылась. В переводе с «революционного» на простецкий ее реплика означала, что порядочные люди такие выставки не посещают. Мы не послушались и в «Моне Лизе» все-таки побывали. Уже после того, как, готовясь к каникулам, Париж стал приходить в себя, студентов выкурили из Сорбонны, а на искалеченный Сен-Мишель пришли ремонтники и строители, стараясь вернуть прославленному бульвару его прежний вид.
От тех незабываемых дней остались исписанные от корки до корки восемь блокнотов, две толстых тетради и еще множество отдельных листков, которые помогли мне восстановить не столько факты, сколько личное — субъективное, разумеется — их восприятие. Тогдашнее, а не ретроспективное. Может быть, именно в этом смысле они и представят какой-нибудь интерес: как-никак я был, наверно, единственным «советским товарищем» (кроме, конечно, конспираторов-профессионалов), который волею непредвиденных обстоятельств провел «на баррикадах и около» весь «парижский май» — с первого до последнего дня.
Глава 20.
Вопросы без ответов
Не знаю точно, от кого узнал Юрий Павлович Анненков о моем пребывании в Париже. Я совсем не ожидал его звонка, когда зычный голос хозяина «ночлежки» возвестил — так, что с первого этажа долетело на пятый: «Мсье Ваксберг, к телефону!» Я кубарем скатился по крутой деревянной лестнице: единственный — для всех обитателей — телефон находился в «дежурке». Даже сейчас, тридцать с лишним лет спустя, я холодею при воспоминании о той бестактности, с которой встретил неожиданный звонок незнакомого мне человека.
— Как вы сказали? Анненков? Простите, вы кто?
Трубка замолкла. Потом глухим голосом отозвалась:
— Говорит Анненков. Юрий Анненков. Юрий Павлович, если угодно. Художник. Слышали такого?
Тут только дошло, кто удостоил меня звонком, — все уточнения уже не имели смысла. Я кинулся извиняться: сказал, что не ждал, что не сразу сообразил, что польщен… И разное прочее — в том же духе. Но этим, увы, моя бестактность не завершилась.
— Когда я мог бы заглянуть к вам в гостиницу? — спросил Юрий Павлович, и этот вопрос поверг меня в смущение снова.
Жили мы, повторю, в такой немыслимой ночлежке, куда приглашать гостей было решительно невозможно. В сравнении с нею даже самое захудалое общежитие в Богом забытой глуши могло сойти за пятизвездный отель. В так называемом вестибюле негде было не только сесть, но и встать. Узкая лестница начиналась прямо у входной двери и вела к расположенным по вертикали пятиметровым каморкам, а то, что считалось «удобствами» (скважины в каменном полу), служило как бы перегородками между этажами и «обслуживало» несколько каморок сразу. «Заглянув» в такую гостиницу, Анненков был бы вынужден забраться с ногами на наше ложе, а мы стояли бы перед ним навытяжку — любое неловкое движение заставило бы нас рухнуть прямо на него.
Объяснить ситуацию я не решился. Сказал вместо этого:
— Увы, нас посетить невозможно.
И услышал в
ответ — насмешку, разочарование, раздражение:
— Все ясно. Запретили…
Немало времени ушло на то, чтобы как-то развеять его подозрения. Наконец мы назначили встречу — рядом с ночлежкой, в знаменитом на весь Париж эльзасском ресторане, о котором я расскажу подробно в другой главе. Если бы не моя растерянность и не грубый отказ, если бы я сразу объяснил ситуацию, Анненков просто пригласил бы к себе. Домой или в мастерскую — на воспетую Маяковским рю Кампань-Премьер. Его желание навестить было не более, чем деликатным предложением о встрече — такой, чтобы гостю было удобнее. Он ведь знал, что «советские», если уж бывают за рубежом, то непременно живут комфортабельно, блюдя престиж своей великой страны.
Он был низкоросл, лыс и помят — именно это слово первым пришло мне на ум, когда я увидел его за столом, — ожидающим московского гостя. Узнал его, конечно же, сразу: портретов Анненкова — фотографических и просто графических — до этого повидал немало. Поразительная бледность и дряблые щеки делали его еще старее, чем на самом деле он был. Но голос был бодрым, движения быстрыми, а язвительная ирония, без которой не обходилась почти ни одна его реплика, свидетельствовала о том, что годы его не сломили: он остался бойцом.
Поток моих извинений Анненков сразу прервал:
— Пустое…
А на восторги по поводу недавно вышедшего двухтомника его воспоминаний, которые я уже успел раздобыть с помощью новых парижских знакомых, отреагировал так:
— Алданов, когда кто-нибудь ему говорил, что прочитал его книгу, приподнимался и снимал котелок. Считайте, что я приподнялся и снял.
Атаковал меня сразу же вопросом, который никакого отношения ко мне не имел:
— Куда делся мой портрет Корнея Чуковского? Судьбой других я сейчас занимаюсь, ищу концы, что-то нашел. А про этот портрет мне ничего не известно.
— Можно же написать самому Корнею Ивановичу, — предложил я, вспомнив попутно, что Чуковский не раз выезжал за границу и Анненков мог бы его разыскать и спросить. Я не знал тогда, что они состояли в переписке и без моих советов. Но Анненков ничем это не выдал.
— Вы думаете?.. — Вопрос был задан с такой интонацией, что обсуждать мое предложение не имело смысла. — Когда-то мы были друзьями.
— Если вы разрешите, я сам задам Корнею Ивановичу ваш вопрос.
— И вас не страшит, что кто-то узнает о ваших встречах с лютым антисоветчиком?
Разговаривать в этой манере было мучительно трудно. Хотелось ответить, но слова застревали в горле. Я пробовал перевести разговор в другую музыкальную гамму, но тщетно. Ведь это он попросил о встрече — не я. Чего же он так шпыняет меня? Неужели за то, что я не принял его в своем «отеле»? Но ведь я объяснил…
Наконец Анненков сам пришел мне на помощь.
— Если бы вы знали, как тянешься к каждому, кто приехал
оттуда! Как хочется с ним говорить и как это боязно. Всегда видишь… Вы сами знаете, кого мы видим в каждом
оттуда.
О да, я знал… Появилась возможность и мне перейти в наступление.
— Отчего же тогда вам не было боязно так откровенно общаться с одним вашим другом? Раскрывать ему душу? Или вам в голову не приходило, кому подавал он отчеты о встречах с вами?
Имени я не назвал, а он и не спросил, потому что нужды в уточнении не было. Тогда я не знал даже той части правды о писателе Льве Никулине, которая открылась гораздо позже. Хотя мог бы и догадаться: вряд ли случайно появились еще при жизни героя две эпиграммы, хорошо известные тогда в литературных кругах. Одна: «Каин, где Авель? Никулин, где Бабель?» И другая: «Никулин Лев, стукач-надомник, недавно выпустил трехтомник». Впрочем, в той роли, которую он играл, регулярно пребывая месяцами в Париже, я нисколько не сомневался уже тогда. Самое интересное: в ней не сомневался и сам Анненков. Его портрет, написанный Юрием Павловичем (он находится теперь в коллекции Ренэ Герра), передает мысль художника с достаточной полнотой и безжалостно обнажает характер модели.
— Вы сами ответили на свой вопрос, — сказал Анненков. — Другой и есть друг. Его не прощаешь, но все-таки лучше понимаешь, чем кого-то чужого. Главное — не заблуждаться…
Туманным своим объяснением он ни в чем меня не убедил. Продолжать эту тему, однако, не имело ни малейшего смысла, поскольку в отношениях близких людей друг к другу всегда господствует не разум, а чувства, а они, как известно, логическому анализу не подвержены. Я был полностью согласен с Анненковым: Никулин отлично разбирался в том, что собой представляют большевики и какая роль была уготована ими и искусству, и литературе, он сам подтрунивал над своим конформизмом и вполне прозрачно намекал на то, что за несколько месяцев в году, проводимых им на свободе, в любимом Париже, полагается как-то платить.
Как-то… В том-то и дело, что цена была слишком высокой — для человека, который хотел считаться порядочным, а его конформизм имел более точную дефиницию: торжествующе самодовольный цинизм. За возможность еще и еще раз пройтись по Елисейским полям он заложил бы не одного лучшего друга. И закладывал: это видно хотя бы по ставшим ныне известными его отчетам в ЦК. Писал ли он отчеты в другое ведомство, — ответа на этот вопрос пока еще нет, но в том, каким он когда-нибудь будет, сомневаться, увы, не приходится.
Не один Анненков прощал талантливому Никулину двойственность его лика. С ним дружил Вертинский, который, любя Никулина (был, наверно, в этом барине с бантом какой-то особый шарм!), хорошо видел, как тот, сочиняя путевые заметки о своих парижских визитах, «топил в реке Сене старых друзей» (из опубликованного письма Вертинского Никулину). Ублажая его авторское самолюбие, Вертинский не без иронии отзывался о заказной, лакейской халтуре Никулина — романе «России верные сыны»: «Если бы я не знал автора и прочел ее за границей, я бы сказал, что это Алданов». Но ознакомившись с его очередной графоманской поделкой — романом «Московские зори», — сдержаться уже не мог: «Тебя, конечно, губит партийность, — врубил он ему в письме по-дружески, не страшась ни перлюстрации, ни доноса своего корреспондента, — ты не можешь писать правду — а тогда лучше <…> совсем не писать».
Ничего этого я в ту пору не знал, брезгливое отношение к салонно-жеманному снобу, которого я изредка встречал в писательском клубе и в редакции Литгазеты, было скорее интуитивным и, конечно же, бездоказательным. Причем культура никулинского письма, которая всегда меня привлекала, говорила отнюдь не в его пользу: при ней выпиравший цинизм проводимой им «линии партии» выглядел особенно мерзко.
Анненков добродушно пытался снизить мой пафос.
Кто же всерьез принимает то, что он пишет? Пусть распинается — нам от этого ни жарко, ни холодно. А посидеть со старым другом и послушать его рассказы о том, что отсюда не видно, всегда интересно. И даже полезно. Только все это в прошлом — ведь Никулина уже год как нет. Так что не стоит терять время на разговоры о нем.
Конечно, это было не очень кстати — затеять спор о человеке, который совсем недавно покинул сей мир. Но он был не темой, а поводом. Поводом заговорить о том, как чекистские щупальца без особого труда проникли во все эмигрантские сферы, как легко «белая гвардия» переходила на службу гвардии «красной» и как ловко пользовались московские агенты фанатичной привязанностью беглецов к покинутым ими родным осинам. Странно: язвительный, злой, непримиримо беспощадный ко многим героям своих двухтомных воспоминаний «Дневник моих встреч», Анненков в разговоре со мной вдруг изменял самому себе, пытаясь найти оправдание каждому, кто сломался, чтобы вернуться домой или хотя бы иметь вести из дома.
— У меня жизнь на Западе сложилась, а это очень влияет на мысли и чувства. Были контракты, деньги, успех. Мне ведь чертовски везло! Всю жизнь я провел в обществе самых замечательных людей века — и в России, и здесь, во Франции. Работал без простоя, меня буквально рвали на части. Сотрудничал с Лифарем, Баланчиным, Михаилом Чеховым, Никитой Балиевым, дружил и дружу с Шагалом… Мне здесь всего хватает: среды, поклонения, денег, условий жизни. А большинству было плохо, иногда даже очень плохо, притом людям талантливым, осознававшим свой талант и понимавшим, что они никак не могут достойно реализоваться. Хотелось домой… Вообще-то не только они — каждый втайне мечтал, что ему удастся вернуться. Для одних был путь только в свободную Россию, другие — те, что малодушнее, — были готовы в любую. Таких ничего не стоило завербовать. Они клевали даже на самую дешевую приманку. Грустно… Но из песни слова не выкинешь…
Мне кажется, я допустил еще одну бестактность (что-то много бестактностей — и все почему-то адресованы Анненкову!..), которая внесла в его отношение ко мне вполне очевидную отчужденность, за что и был я наказан отсутствием новых встреч. Из только что прочитанного мною двухтомника его воспоминаний я узнал, что Анненков родился в Петропавловске-на-Камчатке, где отбывал ссылку его отец, бывший народоволец и друг Веры Фигнер. Экзотичность места его рождения смутила меня, тем более, что камчатская (не сахалинская!) ссылка была тогда величайшей редкостью.
— Уверены ли вы, — довольно нахально спросил я Юрия Павловича, — что родились именно на Камчатке?
От наглости моего вопроса он чуть не онемел.
— Что значит — уверен ли? Есть свидетельство о крещении, милостивый государь! — с достоинством ответил он наконец.
— И что там написано? — не унимался я.
— Что оно имело место быть в городе Петропавловске…
Во мне проснулся адвокат, уличающий в судебном процессе свидетеля противной стороны, который дает ложные показания.
— В то время, когда вы родились, Юрий Павлович, такого города на Камчатке не существовало, — «прихлопнул» я своего собеседника. — Он назывался «Петропавловский порт». А город Петропавловск находился и находится в сибирской степи, на территории созданного Советами Казахстана. И этот город, действительно, был тогда местом ссылок.
— Чушь! Собачья чушь!.. — отреагировал Анненков, не приведя, однако, никаких иных аргументов. Я не был абсолютно уверен в своей правоте, просто высказал «соображение для размышления». Но оно, это было вполне очевидно, задело его, хотя полемизировать он не был готов. Метнув на меня недобрый взгляд из-под очков, Анненков надолго замолчал. Потом заговорил снова — в прежнем ключе, вернувшись к другим, куда больше его занимавшим, темам и сделав вид, что вставной новеллы о месте его рождения как бы вовсе и не существовало. Ничто — по крайней мере, внешне — не свидетельствовало о том, что между нами пробежала какая-то кошка.
«Чушь! Собачья чушь!..» — эти слова вырвались у него еще раз, когда я, свернув разговор на важную для меня тему, напомнил ему, как Горький, к которому он продолжал относиться с почтением и ностальгической теплотой, спасал гонимых большевиками писателей и ученых, упомянув, естественно, в этом ряду и Гумилева.
— Важен не результат, важна попытка! — с вряд ли уместным в застольной беседе пафосом воскликнул я.
— Чушь! Собачья чушь!.. — с еще большим пафосом отреагировал Анненков. — Гумилева Алексей Максимович не любил, хотя с ним и сотрудничал. Да и заступаться за контру стало делом крайне опасным. Даже для Горького. А слишком рисковать он не любил.
Уже через час казалось, что мы знакомы давным-давно, что есть множество тем, одинаково интересных обоим, а ведь еще совсем недавно мне казалось, что «нас» и эмигрантов разделяет целая пропасть: так успешно сумела потрудиться, внедряя в сознание этот стереотип, советская пропаганда. Постепенно я стал от него освобождаться, почувствовав не одному мне, наверно, знакомое желание плотнее войти во все еще немного загадочную, но непреодолимо манящую, одновременно и близкую, и далекую среду вымирающих могикан.
Анненков понял меня и даже перевел это желание в практическую плоскость. Конечно, его совет отправиться в Лондон, чтобы встретиться с жившими там художниками Борисом Анрепом (ему Ахматова посвятила множество известных стихов, в том числе «Мне голос был, он звал утешно…») или Маревной (бывшей женой Диего Риверы), о которой столько написано у Эренбурга, — этот совет я использовать не мог. Зато уже назавтра нас с Капкой принимал у себя Сергей Поляков.
Сергей (по-французски, как и Лифарь, разумеется, Серж) Поляков едва перевалил тогда шестидесятилетний рубеж, а выглядел еще моложе — невысокий, поджарый, скуластый, в широкой рубахе, подпоясанной ремешком. Никакой экзотики в этом наряде не было — он гляделся на нем вполне органично и очень ему шел. Висевшая на стене гитара сразу же выдавала если и не биографию хозяина дома, то хотя бы его пристрастия, которые и без того были хорошо известны всему русскому Парижу. Выходец из семьи знаменитых цыганских певцов, совсем юный Поляков объездил Европу, аккомпанируя на гитаре своей тете Анастасии Поляковой, а потом и сам пел в дорогих парижских кабаре, успев сколотить к концу тридцатых годов вполне пристойное состояние, которое позволило ему обосноваться в хорошем ателье: неожиданно в нем проснулся художнический талант. Дружба с Василием Кандинским не только помогла становлению и росту даровитого самоучки, но и открыла ему двери в Салоны и на престижные выставки. Абстрактная живопись и графика Сержа Полякова быстро обрели своих ценителей, а его работы стремительно росли в цене.
Из развешанных на стенах программ и афиш мое внимание сразу же привлекли две, тогда еще совсем для меня не привычные: «Салон независимых» — было написано на одной. И рядом дата: 1941. «Осенний салон» — на другой. И похожая дата: 1942. Вспомнились сразу же мой сорок первый и мой сорок второй, и все, что связано с ними: Салоны художников никак с этими воспоминаниями не сопрягались.
— Париж был тогда оккупирован… — пробормотал я и вызвал этим у Полякова искреннюю усмешку.
— Оккупирован, — подтвердил он. — И что с того?..
— «Война войной, а розы — розами»? — процитировал я известные строки Игоря Северянина с вопросительной интонацией, и Поляков охотно продолжил — без вопросительной:
— «Стихи — стихами, снами — сны. Мы живы смехом, живы грезами, а если живы, — мы сильны». Вы, похоже, осуждаете эту философию, а между тем только она помогает выжить, спасти творческую энергию и желание работать. В любых условиях и вопреки всему.
Он охотно показывал свои работы, не забывая назвать год их создания, — получалось, что очень многие появились на свет как раз в те годы, когда нацисты владели Парижем. Вероятно, это был — пусть даже не всегда осознанный — способ духовного выживания, творческий азарт, потребность уйти от печальной действительности.
— Нацисты собирались уничтожить всех цыган, подчистую, — робко напомнил я, полагая, что это напоминание не нуждается ни в каких разъяснениях.
— Разве? — удивился Поляков, и я до сих пор не знаю, был ли искренним этот возглас. — Поверьте, меня это тогда не интересовало. К тому же я был для них русским, бежавшим от большевиков. И никем больше. Меня скорее тревожило их отношение к абстрактному искусству, которое они называли вырождающимся. Своих абстракционистов нацисты преследовали жестоко, а в Париже все было не так. Более терпимо. В художественную жизнь оккупанты не вмешивались. Ко мне в ателье заходили иногда немецкие офицеры. Очень вежливые. Смотрели и уходили. Правда, никто из них ничего у меня не купил. Даже если и хотел бы, все равно, наверно, не мог: такие вкусы им было положено скрывать. А в остальном… Ничего особенного, жить можно…
Квартирка Полякова, в которой я был, показалась мне тесной, не очень уютной, совсем не парижской и в то же время не русской. Без определенного лица… Зато лицо хозяина — умное, немного хитроватое — запомнилось очень ярко, — оно всегда пред моими глазами, когда я слушаю старенький диск с песнями, которые поет не он, а его брат Володя. Знаменитый исполнитель цыганских романсов. Человек, чей голос навсегда сопряжен с исчезнувшим, как Атлантида, островком русского Парижа. Точно так же, как в блестящем ряду «островных» обитателей навсегда есть место и для Сережи. Называю уменьшительные их имена без какой-либо фамильярности: именно так — Володя и Сережа — называли их все русские парижане, с которыми мне тогда довелось повстречаться.
Два года спустя, в семидесятом, оказавшись снова в Париже, я уже не застал Сергея в живых. Выставку его гуашей устроила в своей галерее Дина Верни, и после вернисажа я был приглашен на веселый, а вовсе не панихидный, притом весьма многолюдный ужин, который она устроила в специально нанятом поблизости большом ресторане. Среди самых почетных гостей была Нина Кандинская, вдова художника, сказавшая о Сергее очень теплое слово. Кто бы мог подумать, что несколько лет спустя Нину зарежут возле ее швейцарского дома, чтобы похитить висевшие на ней драгоценности. Преступники, лишившие ее жизни, оказались полными идиотами: они даже не подозревали, что обладатели таких сокровищ никогда их не носят, а держат в банковском сейфе, довольствуясь в качестве украшений лишь точной, по заказу исполненной их имитацией.
В тот вечер и она, и все гости были в большом ударе, и Сергей незримо присутствовал на нем, потому что в динамике звучал и его голос, записанный на любительскую пленку с какой-то домашней вечеринки. А «живьем» пели самые близкие его друзья, прославившие на весь мир искусство русско-цыганской песни: Соня, Алеша и Валя Дмитриевичи. Взяв гитару, с ними соперничала сама Дина Верни. Блатные советские песни в ее исполнении, говорят, веселили Сергея, — это с его подачи она зажглась идеей записать свой диск и идею эту осуществила. «По шпалам, бля, по шпалам, бля, по шпалам…» — четко выговаривая каждый слог, пела она своим низким контральто.
На память о встрече с Сергеем Поляковым мне осталась подаренная им авторская литография — поразительная по красоте композиция синих, зеленых и темно-серых фигур, от которой трудно оторвать глаз. Она висит теперь в софийском доме моей дочери, а голоса Дины, Сони, Алеши и Вали звучат у меня в Москве, напоминая о безвозвратно ушедшей — зыбкой, горькой, загадочной, но и счастливой — эпохе.
С Диной Верни я познакомился незадолго до этого вечера. Ей кто-то сказал, что пребывает сейчас в Париже один «молодой человек» и он может дать полезный совет, как осуществить некую сложную операцию, мыслью о которой она жила уже не один год.
Благодаря многочисленным и подробным публикациям в нашей печати, а тем более благодаря телепередаче, подготовленной Эльдаром Рязановым, не только имя Дины Верни, но и история ее жизни теперь хорошо известны. Так что представлять ее читателю нет ни малейшей нужды. Но в то время, когда я с ней познакомился, о Дине у нас не знал никто, и даже впоследствии журнальная публикация Натальи Кончаловской, слегка приоткрывшей завесу над «тайной» Дины Верни, прошла совершенно незамеченной. При первом знакомстве Дина показалась мне взбалмошной и самоуверенной дамой, готовой идти напролом для достижения намеченной цели, не церемонясь при этом в выборе средств и пренебрегая любыми табу.
Модель и подруга двух великих художников — сначала Аристида Майоля, потом Анри Матисса, — Дина была уже к тому времени французской знаменитостью: она передала безвозмездно городу Парижу свои скульптурные изображения работы Майоля, украсившие собой Тюильри и Версальский парк, заслужив за это орден Почетного Легиона. Ее крохотная галерея на улице Жакоб уже и тогда считалась одной из достопримечательностей французской столицы, а ее домашний музей кукол в квартире на улице Гренель, куда я был допущен на правах нового друга, вскоре стал частью музея Майоля, созданного ею же на средства фонда ее имени, и представил творчество многих художников, ею открытых и пущенных ею в счастливое плавание по морям мирового искусства.
Безошибочно угадывать художественный талант, открывать его и давать ему дорогу — это и стало отличительной чертой Дины Верни, рожденной еще в России, увезенной из нее в раннем детстве, но сохранившей с тех пор и несколько старомодный, но очень приличный русский язык, и тягу к русской культуре — правда, прежде всего, в коммерческом ее выражении. Впрочем, может ли это звучать осудительно? Ведь кроме эстетики, художественные произведения обладают еще и денежной ценностью, и для галерейщиков это вполне узаконенный и очень престижный бизнес. А Дина именно галерейщик и ни за кого другого себя не выдает.
На сей раз объектом ее внимания стал молодой художник, имя которого мне тогда, увы, ничего не говорило. Зато оно очень многое говорило Дине: она не сомневалась в том, что заочно открыла талант первой величины. Имя его теперь известно всему миру: Михаил Шемякин.
Картины, гравюры — не рукопись, передать которую за границу даже и при сверхбдительности Лубянских товарищей не составляло никакого труда. Раскрутить никому не известного художника, сделать его знаменитостью и взвинтить цены на его работы можно лишь в том случае, если он доступен, если каждое новое его произведение может быть показано и предложено для продажи. Вывод отсюда был только один: любой ценой «извлечь» Шемякина из совдепии и привезти в Париж. Но — как?! Вот за такой консультацией и обратилась ко мне Дина Верни. Каким, однако, советом — реальным советом в реально существовавших условиях — я мог ей помочь?
Дина была не из тех, кто отступает перед возникшими трудностями. Напротив, они пробуждали в ней еще больший азарт. Спустя примерно полгода она была уже в Ленинграде, где жил Шемякин, и вызвала меня туда — опять же «для консультаций». Там мы с Мишей и познакомились. Он был хмур, молчалив, сосредоточен, смотрел на меня с недоверием, а на Дину — с надеждой, но и с испугом. Бинты на его могучих руках скрывали ножевые ранения, которые он сам себе нанес, потеряв над собой контроль, — от ярости на отца-полковника, обличавшего сына-антисоветчика в дурном поведении, и на офицеров из «Большого дома», истерзавших его допросами и угрозами. Столь необычная реакция на их домогательства побудила славных чекистов усомниться в его полноценности и запихнуть Мишу в психушку, из которой он только что вышел. Так что и для хмурости, и для подозрений у него были вполне веские основания.
Свою роль в этой афере я понимал плохо — просто Дине была нужна психологическая опора, был нужен человек, с которым она могла бы оперативно обсуждать «ситуацию». В самом худшем случае ей предстояло благополучно вернуться в Париж без желанной добычи, Мише — остаться в прежнем качестве гонимого художника-«пачкуна», а мне — отвечать за связь с вражескими лазутчиками и за соучастие в операции, которую лубянские мастера могли истолковать на привычный для них манер. Дина вела себя вызывающе дерзко, громко декларировала цель своего визита, не чураясь самых сильных и бранных слов для выражения чувств, ее распиравших, и меня призывая вслух разделить их с нею столь же четко и откровенно. Но соскочить с подножки я уже не мог, да, по правде, и не хотел: незаурядная личность молодого художника, ни с одной работой которого я еще не успел познакомиться, вызывала желание поучаствовать как-то в перемене его судьбы.
Это желание лишь укрепилось через несколько дней, когда мы встретились уже в Москве. Дина имела здесь еще несколько встреч с опальными художниками, которым протежировала и на которых делала ставку, и повсюду таскала меня за собой. Выглянув из окна чьей-то квартиры, куда она меня привела, я тотчас заметил двух топтунов, бездарно слонявшихся по тротуару напротив в ожидании вожделенной добычи. На лестнице дома, где жила Лидия Мастеркова, — этажом ниже и этажом выше — дежурили две молодые пары, которые при нашем появлении синхронно принялись обниматься и целоваться с такой театральной страстью, что, несмотря на нешуточность ситуации, я грубо расхохотался им прямо в лицо.
Столь высокое — можно сказать, истерическое — внимание к ее персоне приводило Дину в восторг, меня же вгоняло в тоску. В отчаяние. Но не в страх. Страха больше не было — к нему притерпелись. Втроем мы пошли обедать в ресторан «Новоарбатский». Миша сел рядом с Диной, я напротив: зал просматривался нами в оба конца.
— Сколько наблюдающих вы заметили? — спросил меня Миша.
— Пока одного…
— Наблюдайте внимательно. За трех с моей стороны я вам ручаюсь.
Дина с брезгливостью усмехнулась, сообщив точный адрес, по которому этих «наблюдателей» нам бы следовало послать. Лично я был готов, но они бы меня не послушались, а их возможности послать меня совсем по другому адресу были слишком известны. С таким настроением мы жевали бифштексы, а Дина вслух, хорошо поставленным голосом, презрев наблюдателей и их микрофоны, делилась планами спасения Шемякина от гнусных большевиков. Остановить ее было невозможно, любое возражение или предупреждение распаляло ее еще больше. Я предложил то, что никакой тайной уже не являлось: воспользоваться еврейским происхождением Мишиной жены для эмиграции в Израиль или просто, ничего не утаивая, напрямик ходатайствовать о выезде во Францию «с творческими целями». Если от надоевшего им «пачкуна» хотели избавиться, чекисты охотно должны были бы ухватиться за такую возможность.
И они ухватились! Жена Ребекка и дочь Доротея, будущая художница, уже были в Париже, когда Миша, уезжавший последним, неожиданно нашел меня в моей адвокатской конторе: ему не хватало ста рублей, чтобы заплатить в Шереметьеве за любимую кошку, которую он тоже не хотел оставлять гнусным большевикам. Финансовые проблемы были сразу улажены, и тем же вечером, честно выполняя данное мне обещание, он позвонил из Парижа от Дины, сообщая, что вся семья в сборе и что Динина операция блестяще завершена. Дина тоже взяла трубку:
— Вот так надо работать, плюя на любые барьеры, — победно сказала она. — Если и дальше вы будете во всем сомневаться, боясь малейшего риска, то в жизни ничего не добьетесь. Это говорю вам я, Дина Верни.
Дальнейшее известно: Дину вкус не подвел, Михаил Шемякин стал художником мирового класса. Менее известно другое: спасенный и спасительница в дым разругались уже через несколько месяцев. Предвидеть такой исход было нетрудно.
Дине были нужны не свобода художника, не полная его раскрепощенность, не обретение им возможности максимальной творческой реализации, а он сам — целиком, со всеми потрохами, и абсолютная монополия на все, что он делал и сделает. И с позиций человека, его открывшего и вызволившего из неволи, она была совершенно права. Но она плохо представляла себе его личность, его характер и нравы. Странно: всю жизнь общаясь с художниками, признавая только таланты высшего ряда, почему-то она не брала в расчет, насколько они неуправляемы и капризны. Все до одного, каждый по-своему… Шемякин вырвался из одного рабства совсем не для того, чтобы попасть в другое. И владеть собою он бы не дал никому. Даже чекистам — под угрозой террора. А уж галерейщице в свободной стране, пусть прославленной и богатой, — тем паче. Они разошлись. Громко. Скандально. Безжалостно. И — навсегда.
Мои отношения с Диной на этом закончились тоже. Как будто это я виноват, что замысел ее был сорван. Но и с Мишей мы виделись с тех пор всего один или два раза. Наши пути разошлись. Ни в какой моей помощи ни он, ни она уже не нуждались. Я до сих пор не понимаю, какая сила ввергла меня в ту авантюру, которая лично мне не была нужна ни с какого бока. И все-таки — ни о чем не жалею. Возможность — пусть даже косвенно, пусть в такой незавидной роли — участвовать в вызволении большого художника, в обретении им творческой свободы искупает те обиды, которые это участие за собой принесло.
Я не ошибся, сказав, что познакомился с Диной весной семидесятого года. Но узнал о ней двумя годами раньше. О встрече, во время которой ее имя впервые для меня прозвучало, я когда-то написал рассказ. Без краткого изложения его «содержания» эта книга будет неполной.
Однажды Доминик де Ру, чье имя уже упоминалось в предыдущих главах, пригласил меня на ужин. Еще один гость — пожилой господин с лицом аскета и натруженными руками, на которых сверкали два роскошных бриллиантовых перстня, — уже дожидался опаздывавшего хозяина, потягивая аперитив. Представляясь, он так невнятно назвал свое имя, что я его не разобрал, а переспрашивать не решился. Влетевший, наконец, Доминик, убежденный, как видно, что мы уже познакомились, тоже его не представил, обращаясь к нему по-простецки: Арно. По акценту я понял, что гость, как и я, иностранец. И помалкивал, слушая их разговор — о художниках, галереях, аукционах. Имена, которые они называли, были мне все не знакомы.
Наконец Доминик на правах хозяина решил и меня вовлечь в разговор.
— Арно известный немецкий художник, — сказал он. — Безусловно, ты его знаешь. Но он еще и великий библиофил. О его коллекциях писали журналы.
— Все это в прошлом, — хмуро перебил Доминика Арно. — Когда-то у меня была огромная библиотека. И не одна. До войны мои ателье были разбросаны по всей Германии: в Груневальде, в Далеме, Иекельсбруке, во Вризене на берегу Одера — самое любимое. Все это погибло — все, все! Мои работы, мои книги…
Только теперь я понял, с кем меня свел Доминик.
Все, что было связано с его именем, казалось навсегда ушедшим в историю: он сам, его покровители, его грандиозные монументы во славу германского рейха и арийской расы, скульптурные портреты гитлеровских бонз — галерея полубогов, призванных править миром… Могли я представить себе, что когда-нибудь сяду с ним за стол и он любезно наполнит мой бокал густым бургундским вином, а я учтиво поблагодарю его и скажу нечто светское, подобающее той обстановке, в которой мы оказались?
Неужели он самый?! Тот, что множество раз запанибрата болтал в домашнем кругу с бесноватым Адольфом и имел редчайшее право именно так к нему обращаться — просто по имени, а не как все его соотечественники: «мой фюрер»? Этот поджарый господин с лицом фанатика и аскета, который в счастливые для него времена был возведен в профессора и признан величайшим ваятелем третьего рейха? Любимец Гитлера, личный друг Геринга, Геббельса и Шпеера, он воплотил в металле и камне фашистский идеал «нового человека» — белокурого арийца с воловьими мускулами, с волевым подбородком, с надменно жестоким прищуром завоевателя и властелина. Десятки его колоссов, как две капли воды похожих друг на друга, украсили столичный стадион и стадион в Нюрнберге, двор имперской канцелярии, лестничные марши представительных зданий. Его «Прометеи» и «Дионисии», «Знаменосцы» и «Меченосцы», размноженные в миллионах открыток, наводнили жилища крестьян и рабочих, студентов и школьников как эталоны истинной красоты.
Не было в фашистской Германии человека, который не знал бы имени Арно Брекера…
Он долго рассуждал о человеческой неблагодарности, напоминая, скольким людям сумел помочь, когда был всесилен, и как быстро они забыли, что обязаны ему свободой, а порою и жизнью. Тут и всплыло совсем мне тогда не знакомое имя Дины Верни — эту историю, сидевшую занозой в его сердце, Брекер рассказал очень взволнованно и очень подробно.
— В конце сорокового или в начале сорок первого, точно не помню, мне неожиданно позвонил из Парижа Майоль. Вы любуетесь скульптурами Майоля в музеях, в Тюильри, а я имел счастье знать его, учиться у него. И даже немного дружить. Потом Майоль ко мне охладел. Не мог простить, что я признан в третьем рейхе. Смешно: один великий художник позавидовал другому… Летом сорокового фюрер приехал в оккупированный Париж, я сопровождал его, он попросил показать ему Лувр. Здесь до меня дошло, что Майоль взбешен: как я посмел приехать с Гитлером в Париж?! Вы думаете, я обиделся? Ничуть. Человеку за семьдесят, от политики он далек, многое ему чуждо. Нет, я не сердился. Я даже обрадовался, когда он позвонил мне.
— Он нуждался, наверно, в вашем заступничестве? — догадался я.
— Да! Именно так! Он нуждался!.. Оттого и смирил гордыню. Гестапо арестовало его натурщицу, девчонку лет двадцати. Не просто натурщицу, как вы понимаете… «Забрали Дину», — хныкал он по телефону. Старик был просто в отчаянии. А девчонка, оказывается, не только позировала и его ублажала, за ней водились совсем иные грешки. Она помогала переправлять какие-то подпольные группы в свободную зону. А до этого, хоть ей было тогда всего семнадцать, она чем-то отличилась в Испании. Служила республиканцам. И давно уже состояла у наших служб на заметке. Активная была особа, не просто натурщица, как у всех. И вот мне звонит Майоль: «Если ее не освободят, я покончу с собой!». Запрещенный прием, попахивает шантажом, а зачем? Просит Майоль — и этим сказано все. Я бросился к Мюллеру, начальнику гестапо. Было за полночь, я разбудил его: приходилось спешить, эту чертову Дину могли казнить в любую минуту. Мюллер навел справки, удивился, что я хлопочу за опасную преступницу. Но он знал о моих связях, знал, как ко мне относится фюрер, и перечить не стал. Он сказал: «Можете идти домой, дорогой Брекер, и спать спокойно. Ее завтра освободят». «Нет, — возразил я, — дайте мне на руки приказ, я сам поеду за ней и лично доставлю Майолю». Мюллер потом мне признался, что моя дерзость его потрясла. Он подумал, что Майоль это ширма, что каким-то образом я лично заинтересован в судьбе арестованной. Так или иначе, он тут же написал приказ об освобождении, дал мне — и через два дня я привез Майолю его сокровище. Я был уверен, что старик бросится мне на шею. Какая наивность! Он даже не протянул мне руки. Вот так… Но и это еще не все. После войны мои работы были низвергнуты, вышвырнуты из музеев и варварски уничтожены. Разгромили все мои ателье — труд двух десятилетий. Я стал нищим. А спасенная мною натурщица, напротив, разбогатела. Ей досталось все наследство Майоля. А потом еще и Матисса, которого она тоже сумела охмурить. Открыла модную галерею под именем «Дина Верни». Под именем — поскольку настоящее имя у нее, конечно, другое. Еврейское, как, видимо, вы догадались. И я, Арно Брекер, пришел к ней на поклон — хотел выставить у нее свои крохи, которые чудом еще уцелели. Может, их бы купили. Я бы ожил… Но госпожа, которую я буквально вынул из петли, не пустила меня дальше порога. Вас это удивляет?
Он смотрел на меня исподлобья, не мигая, — было трудно выдержать этот угрюмый, пронзающий взгляд.
— Не очень, — сказал я. — Ведь вы были идейными врагами.
— Зачем же тогда, — хрипло прошептал Брекер, — эти идейные господа просили помощи у своего врага?
Он криво усмехнулся. Опущенное веко почти совсем прикрыло глаз. На виске исступленно пульсировала синяя жилка. Доминик протянул ему воды.
— Вы не учли, Арно, — сказал он, — что даже в самых трагических ситуациях люди могут сохранять принципы. Старик Майоль проявил малодушие… Даже не малодушие — обычную человеческую слабость. Его в конце концов можно понять.
— Его! — подхватил Брекер. — А ее?
— И ее тоже! Она была пленницей негодяев. Их жертвой. Не лезть же ей в петлю, если можно петли избежать…
Надо же: как раз за несколько дней до этой встречи Мария Павловна Роллан рассказала мне ту историю с генералом Шпейделем — о том, как тот был заботлив к Роллану и как из-за этого она не посмела впоследствии поддержать никакие акции против него. Расскажи я об этом Брекеру, он бы воспрял духом и еще больше укрепился бы в своей правоте. Но я промолчал.
Образ «главного ваятеля» рейха, того «активного человека», которого он воссоздал в скульптурном автопортрете для цитадели гитлеризма — города Нюрнберга, никак не хотел совмещаться в моем представлении с брюзгливым старичком, отрешенно отхлебывающим кофе в двух шагах от меня.
— Вы бывали в России? — спросил я.
Лицо Брекера снова приобрело то холодное, учтиво-надменное выражение, которое стало его маской. Маской, потому что, в сущности, никакая это уже была не надменность, а сознание своей обреченности, бесповоротности происшедшего, сознание того, что жизнь безнадежно проиграна, хотя ставка была велика, банк огромен и выигрыш так осязаемо, так волнующе близок. Теперь, на унылом и одиноком закате, ему не оставалось ничего другого, как оправдываться перед самим собой, убеждая невидимого судью в том, что не было измены призванию и таланту, не было служения величайшему злу, а была лишь тотальная несправедливость всего человечества, не понявшего благородства нацизма. Доживи он до наших дней, — сколько верных друзей и восторженных почитателей нашел бы Брекер в среде российских патриотов, которые наверняка разделили бы и его любовь, и тем более его ненависть!.. Но шел всего-навсего шестьдесят восьмой, до конца девяностых оставалось еще тридцать лет — целая вечность…
— В России? — переспросил Брекер, разглядывая свои колени. — Нет, не пришлось. Хотя мне всегда хотелось ее увидеть. Дважды это едва не осуществилось. Но увы… В сороковом я получил личное приглашение Молотова — и заболел. В сорок втором фюрер поручил мне создать монумент на Мамаевом кургане в честь падения Сталинграда. Каждый день я ждал звонка: самолет готов, можете вылетать… Я даже набросал кое-какие эскизы… Но самолет не улетел. Предательство Паулюса разбило все надежды. Да что там надежды — судьбу!
— Еще не поздно! — воскликнул Доминик. — Поедем месяца через два. Или через три. Ведь я тоже никогда не был в России. Арно, поедем!.. — Он пришел в восторг от своей идеи, предвкушая, видимо, впечатления от прогулки по Мамаеву кургану в обществе Арно Брекера. — Как рядовые туристы… Вас пустят, вот увидите: вы же никого не убивали, в вермахте и гестапо не служили, даже никогда не публиковали антисоветских статей. Чего вам бояться?
Брекер поморщился:
— Ноги моей не будет в России! — Он резко вскинул голову, посмотрел на меня в упор. — Держать в тюрьме старого Гесса!.. Гесса, рисковавшего жизнью, чтобы предотвратить войну… Больного человека, которого дома ждет семья… Вы бы посмотрели, каким вышел на свободу Шпеер. Я примчался одним из первых, чтобы обнять моего старого друга, и едва узнал его. Постаревший, осунувшийся… Это было ужасно, поверьте, ужасно! Время никого не красит, но то, что случилось с ним, это сделало не время. Боже мой, какой это был красавец! А какой талантище… Мы создавали вместе с ним имперскую канцелярию — самое любимое мое творение. Собственно, я — что? Пристроил там в парадном дворе две скульптурки. Но Шпеер, этот архитектор-самородок… Какие у него были грандиозные планы! Он мечтал о величественных проспектах, о невиданных архитектурных ансамблях, о площадях, украшенных скульптурами и монументами, о парках для народных гуляний. Он хотел, чтобы искусство окружало нас повсюду.
О том, что за искусство должно было «нас» окружать, Брекер предпочел умолчать. И о том, что Шпеер был не только «архитектором-самородком», но и министром вооружения третьего рейха в годы войны, — умолчал тоже.
Неожиданно он резко повернулся ко мне, заговорил подчеркнуто спокойно, разве что с легкой приятельской укоризной, повинуясь неодолимому желанию втолковать мне такие простые и самоочевидные истины.
— Да, были ошибки. Конечно, были — кто спорит?! И даже роковые: поход на Восток, концлагеря, зондеркоманды, ликвидация евреев… Да мало ли! Вся история человечества — цепь непрерывных ошибок. Значит ли это, что за ошибки надо расплачиваться унижением и страданием? Не достаточно ли трагедии расчлененной страны и поверженного народа, который искупает вот уже четверть века вину своих вождей? Даже самые непримиримые противники национал-социализма, если только они не ослеплены ненавистью, должны бы понять, что этот период был для Германии исторически неизбежен, как для вас неизбежен был коммунизм, что через него надо было пройти, переболеть им, как корью. Нелепо наказывать тех, в ком воплотилась историческая необходимость. — Решительным жестом он повелел нам молчать. — Двадцать лет держали Шпеера в тюрьме. Разве это помогло залечить военные раны? Восстановить города? Оживить погибших? Человек был вашим противником, он искренне исповедовал другую политическую веру. По-джентльменски ли это — преследовать его, победив?
— Мертвые не проснутся, — успел я, помнится, вставить слово, — но у живых есть долг перед ними. Оттого и был создан международный трибунал…
— Наивно! — оборвал он меня. — Бездоказательно и наивно. К политике неприложим уголовный кодекс. Ей чужды нравственные категории, она, если хотите, всегда безнравственна. Да, безнравственна, нравится вам это или нет. Такой была, такой и будет. Она существует в другом измерении и пользуется другими понятиями: целесообразность, национальная потребность, разумный расчет. А вы просто злопамятны и своими абстрактными рассуждениями о возвышенной морали хотите найти для злопамятства философскую базу. Если вам ближе язык вневременной этики, то я вам скажу, что право сильного никогда не относилось к числу самых нравственных и достойных…
В споре не было ни малейшей нужды: Брекер все равно слышал только себя, любые возражения отвергал с порога, переубедить его в чем-нибудь не смог бы никто. Было куда интереснее и даже полезней слушать, не прерывая, его взволнованный монолог — монолог человека, внезапно вынырнувшего живьем, во плоти из глубин далекой истории. Чудом сошедшего с одной из самых кошмарных ее страниц.
Как опытный лоцман, Доминик поспешил увести нас подальше от рифов. Они заговорили о чем-то своем, о какой-то работе, которую Брекер давно задумал, но не начал до сих пор, а мне оставалось лишь помалкивать да слушать. Но я не утерпел и снова вставил словечко, когда Брекер заныл, что трудно, мол, стало найти натурщицу, все капризничают, набивают себе цену, работа стоит. Тут я и сказал не без яда, что теперь, наверно, все натурщицы, наподобие Дины, стали идейными, не хотят позировать такому скульптору, как Арно Брекер. Но он не заметил яда, а может, и не захотел заметить.
— Просто предпочитают фотографов, — проворчал он, — им позировать и доходней, и легче.
Что-то в нем уже надломилось, весь он неожиданно обмяк, потускнел, даже голос стал глуше, и веко опустилось еще ниже, и перстни уже не сверкали, словно выключили иллюминацию.
Когда-то он действительно не знал недостатка в натуре, первые фрау Германии считали за честь стать моделями для его шедевров: фрау Борман, фрау Геббельс, фрейлейн Геринг. И он работал засучив рукава — создавал бессмертные лики хозяек третьего рейха, которым было предназначено приводить в восторг всех верноподданных. Рядовые «валькирии» не могли соседствовать с королевами, и Брекер был вынужден
отказаться от услуг обычных натурщиц: его «Психея» с могучими чреслами и «Грация» с одухотворенным взглядом — образцовые красотки империи — сильно смахивают на фрау Борман.
…Брекер посмотрел на часы, вскочил, засуетился, стал торопливо прощаться. Он поклонился мне издали, я тоже кивнул ему, и он стремительно вышел, не позволив Доминику проводить себя даже до двери.
— Ну как? — спросил Доминик.
Он знал, что одним словом на этот вопрос не ответишь, да и вряд ли вообще ждал ответа. Из окна было видно, как сутулясь Брекер просеменил по двору, как мелькнула его лысина под раскачивающимся на ветру фонарем и как захлопнулись за ним старинные глухие ворота.
Доминик подошел к книжной полке, достал, не роясь, изрядно потрепанный тощий альбом. В сорок втором году в поверженном и униженном Париже его издали какие-то лакействующие доброхоты. Это был панегирик Брекеру — его «возвышенному искусству, славящему красоту, мужество, силу, физическое и моральное здоровье, искусству, разговаривающему с толпой на понятном ей языке». Но кроме «Психеи» с лицом госпожи Борман и «Прометея», удивительно похожего на Альберта Шпеера, здесь был и Брекер времен Монпарнаса — тех времен, когда он боготворил Родена, учился у Майоля, спорил в «Ротонде» или «Куполи» с Пикассо и Леже, одержимо работал на римской вилле Массимо, которая для немца означает то же, что для француза — знаменитая вилла Медичи.
Я смотрел на его «Молитву», на «Молодого поэта», на «Радость жизни», на рисунки — работы молодого художника, отмеченные печатью исканий и очевидной незаурядности. Все это было давно, очень давно — он еще не был обласкан любовью ефрейтора, еще не был растлен деньгами, почестями, декретированной славой, одами рептильных критиков, заказами фюрера и его челяди, еще не занял места, которые «освободили» несломленные Эрнст Барлах и Георг Кольбе, еще не метил в живые классики, чье бессмертие утверждалось не масштабом таланта, а приказом по «имперской палате искусств».
Он тогда еще не был Арно Брекером. А может быть, как раз наоборот: именно тогда и только тогда он им был.
Иллюстрации






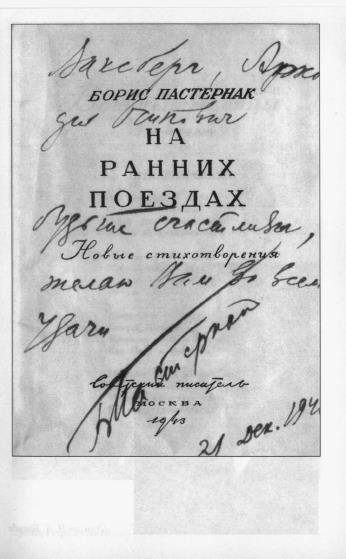

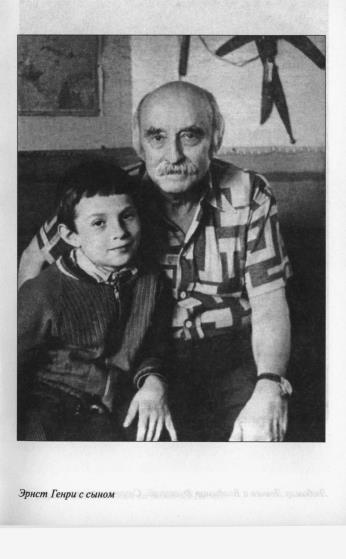















Оглавление
Глава 1
Сеанс обольщения
Глава 2.
Великий Кузьма
Глава 3.
Театр драмы на Лубянке
Глава 4.
Как много, представьте себе, доброты…
Глава 5.
Страсти по Саломее
Глава 6.
Продажа поштучно
Глава 7.
Кто должен быть мертв и хулим
Глава 8.
Обломок вершины
Глава 9.
На ошибках учатся?
Глава 10.
Три имени — одна тайна
Глава 11.
Чак
Глава 12.
Коктебельские камешки
Глава 13.
От Бани до «бани»
Глава 14.
Нумерованные утки и граф-еврей
Глава 15.
Веселые бараки
Глава 16.
Тот самый май…
Глава 17.
… Которому имени нет
Глава 18.
Москва в Париже
Глава 19.
Баррикады и около
Глава 20.
Вопросы без ответов
Иллюстрации