В гору

1
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В последний день солнечного августа, под вечер, Юрис Озол вместе с группой советских работников на грузовике прибыл в уездный городок своей родной стороны, откуда только вчера были выбиты немцы.
Вид городка — разбитые пулями и снарядами дома и еще дымившиеся развалины станции — не удивил прибывших. По дороге сюда они останавливались в Пустошке, Идрице, проезжали через Резекне и с волнением смотрели на разрушения. Многие из них, преследуя по пятам фашистского зверя, прошли длинный путь через болота и леса и видели опустошенные районы. Теперь эти люди — в большинстве инвалиды войны — и составляли оперативную группу советских работников, которая должна была восстановить органы Советской власти в уже освобожденных уездах и волостях.
«Вот она — твоя родина, — думал Озол, обходя город, — о ней ты так мечтал, стоя на посту в трескучий мороз и в летний зной. Да, это — родина, за которую отдано столько сил и жизней. Раньше казалось, что после всего, перенесенного в эти ужасные годы на поле боя и в госпиталях, стоит только ступить на родную землю и ты почувствуешь радость, удовлетворение». «Так ли это?» — спросил он себя. «Нет, не так!» — казалось, крикнул кто-то в ответ. Возможно, сказывалось суровое дыхание близкого фронта, находившегося лишь в четырех километрах, возможно, впечатление это создавал изменившийся до неузнаваемости город, но Озол не чувствовал ни тепла родины, ни сладости возвращения, которые предвкушал в своих мечтах в болотах под Старой Руссой. И, только обойдя полгородка, заглянув в пустые, оставленные открытыми квартиры чужих и знакомых ему людей, он понял, что именно от этой пустоты веяло холодом, вызывавшим оцепенение. Была земля, был полуразрушенный город, но не было людей. Во всем городе он встретил лишь нескольких старичков, которые при виде вновь прибывших испуганно спешили скрыться в ближайшем переулке. Видимо, многие еще не вышли из лесов, — ведь только вчера здесь, на улицах, трещали винтовки и пулеметы и сегодня сюда еще залетали отдельные снаряды, рвавшиеся на дороге у кладбища и на соседнем болоте.
И вдруг сердце Озола, словно острой иглой, кольнула мысль, которую он чем ближе был его дом, тем настойчивее старался отогнать. Это была мысль о семье — о жене, сыне и дочери, не успевших тем летом уехать отсюда. В то время он был председателем волостного исполкома и, услышав приближавшийся грохот войны, поехал в этот городок, чтобы посоветоваться, как поступить, но обратно его не пустили, — уже отходил последний эшелон. Сознание, что он оставил семью на произвол судьбы, мучило его все эти годы. Как часто он обвинял себя в предательстве, называл последним негодяем, ради спасения собственной шкуры бросившим даже детей. Он оправдывался и убеждал себя, что другого выбора не было, и хорошо, что хоть он один вырвался на другую сторону, чтобы потом пробиться обратно. И все же на фронте, в минуты затишья, эта рана не заживала.
А теперь он ходил по пустынному городку и искал кого-нибудь, кто бы знал его семью и мог сказать хотя бы несколько слов о ее судьбе. Ведь обычно в сельской местности все друг друга знают если не лично, то через общих знакомых, и каждое событие обсуждают и помнят.
Вот домик, где раньше жил железнодорожник Звиедрис, его друг детства, с которым они вместе ходили в пастухах. Но уже издали видно, что у дома сорван край крыши, а окна открыты настежь. Озол подошел к окну и заглянул в комнату. В углу была опрокинута голая железная кровать. На нее брошена детская кроватка с оторванной сеткой, на железном пруте висела целлулоидная погремушка. По комнате были раскиданы изорванные книги, осколки разбитого зеркала. Несколько стульев со сломанными ножками валялись у стены.
Озол отвернулся и пошел обратно к дому, где расположились прибывшие. Некоторые из них нашли комплекты «Тевии» и листали страницы, которые, словно зловонным мусором, были начинены клеветой на большевиков и слюнявым заискиванием перед немцами. Читая напечатанные огромными буквами заголовки, Озол испытывал странное чувство — точно такое же, как в детстве, когда ему случалось увидеть змею, свернувшуюся на груде камней и с шипением поднимавшую голову, а под рукой не было палки, чтобы ударить гадюку.
Все, чему Озол и его товарищи были свидетелями на фронте — убийства, груды детских трупов, изуродованные пленные, взорванные церкви и сожженные деревни, — сочинители этих страниц лжи сваливали на большевиков. Сплошным бредом сумасшедших были статьи, написанные после перехода Красной Армией границы Латвии. Неизвестно почему, отвращение к этим истрепанным, замусоленным листкам напомнило об испытанной недавно пустоте. Неужели люди поверили бреду этих выродков и оставили свои дома, свою землю, добро и пошли за теми, чье истинное лицо они так хорошо видели? Разве тот же Звиедрис, пустой дом которого как бы издевался над приехавшими, верил клеветническим утверждениям «Тевии», но не верил ему, своему другу, не ждал его или же боялся, что он, вернувшись, вырвет у него ногти или посадит его на кол? Где ответ?..
Озол отмахнулся от этого, так угнетавшего его вопроса. Ответ на него он ведь ежедневно слышал на протяжении всего своего боевого пути от Москвы до Старой Руссы, где его ранило. Слышал от спрятавшихся в земле русских крестьян, которым удалось уйти от немецких жандармов и их собак. И все же он испытывал нечто вроде разочарования в друзьях из-за того, что они смогли оставить свою землю, не спрятаться в ней, не скрыться в дремучих лесах.
Вечером прибывшие улеглись на полу, укрывшись шинелями. Но спать им не пришлось. Только стали засыпать, как их разбудили воющие над городом немецкие мины, разрываясь то тут, то там. Все поднялись и вышли в сад: бывшие фронтовики привыкли доверяться земле. Через час наступила тишина; но до рассвета она вновь была нарушена грозным говором наших и вражеских орудий.
На рассвете они отправились в волости собирать оставшихся жителей, искать людей, которые были бы способны руководить местными делами, разъяснять задачи и цели Советской власти. Дорога, по которой должен был идти Озол, вела через лес, тянувшийся на несколько километров. Военный комендант города посоветовал не идти ею, так как в лесу, возможно, еще скрывались остатки разбитых немецких частей. Надо было пройти в обход лишних десять километров через соседнюю волость. Он пошел вместе с двумя уездными работниками: долговязым, сутуловатым Вилисом Бауской и маленькой, голубоглазой Эльзой Янсон. Молодые люди сдружились еще на курсах советских работников в Москве, и потом они тоже были вместе. Озол привык видеть веселые глаза Эльзы, но сегодня они были печальны, как лесные озера после дождя. Когда Вилис зашел в дом напиться, Эльза присела на придорожный каменный столбик, пристально посмотрела Озолу в лицо и попыталась улыбнуться, но улыбка получилась натянутой, деланной.
— Товарищ Озол, — внезапно и торопливо заговорила она, — я тебя всегда считала сильным человеком, хочу просить у тебя совета.
— Ну, выкладывай, что тебя удручает, Эльза, — сказал Озол серьезно, но про себя усмехнулся словам «сильный человек». Мысль об оставленной семье снова дала о себе знать.
— Ты ведь знаешь, что мы с Вилисом сдружились. Больше того. Мы решили не расставаться. В Горьком, где я жила, один земляк говорил мне, будто ему известно, что муж мой погиб во время эвакуации. Я с этим свыклась. Затем я встретила Вилиса. Ну… мы друг друга полюбили. Нет, я не могу об этом говорить, все получается как-то банально. — Она замолчала.
Озол улыбнулся:
— Не конфузься, Эльза. Мне не нужны красивые слова. Достаточно того, что я тебя понимаю.
— Ну хорошо, — собралась с духом Эльза. — Но вот, на днях, в Мадоне, я встретила свою приятельницу, и она рассказала, что Артур жив. Работал на старом месте, но стал пить. Будто с тоски по мне.
— И теперь ты не можешь решиться, с кем остаться? — спросил Озол.
— Не знаю, как это сказать. В первое мгновение, когда узнала, что Артур жив, во мне воскресло столько воспоминаний. Но затем от этих воспоминаний повеяло могилой. Это — цветы, цветы, пахнущие гнилью. Я растерялась.
— Жизнь потребует, чтобы ты решилась, — добавил Озол.
— Да, я знаю, — ответила Эльза. — Я еще не все сказала. Жизнь этого уже требует. Этот могильный запах оттого, что я мысленно сравниваю Артура с Вилисом. Артур любил литературу. Мы с ним много читали, спорили. Ему нравилась форма в искусстве. Мне нужно было содержание. Но наши споры казались мне интересными. Вилис столько не читал. Он сирота, уже с детства начал сам зарабатывать себе на жизнь. В нем есть что-то грубоватое — нет, это не то слово, — но ты же сам его знаешь. Воспоминания об Артуре чуть было не заслонили моих чувств к Вилису. Я стала обоих сравнивать, а это ведь нехорошо. Но, когда я уже было хотела уйти от Вилиса, во мне что-то взбунтовалось. Артур работал на старом месте и с тоски по мне пил, но ничего не сделал, даже пальцем не шевельнул, чтобы мы могли вернуться. Артур пил, а Вилис воевал, потерял руку.
— Ты ведь не думаешь решать вопрос формально, — вставил Озол, когда Эльза на мгновение замолкла. — А что подсказывает тебе твое сердце — в какую сторону оно зовет?
— Это не были обычные годы разлуки, — продолжала Эльза, не отвечая прямо на вопрос. — Они создали между мною и Артуром очень глубокую пропасть. Когда я думаю о том, как мы работали там, в тылу, как вы дрались на фронте и как мы все жили одним и тем же, мне Вилис становится гораздо ближе. Оставить его, мне кажется, было бы для меня то же самое, что перебежать на поле боя к врагу.
— Значит, ты уже решилась, — заключил Озол.
— Да, я останусь с Вилисом, — твердо сказала Эльза, вставая. — Я только боюсь, как бы Артур и еще кто-нибудь не стали бы говорить: вон, мол, комсомолки какие… ну, непостоянные, неверные.
— Эх, Эльза, — засмеялся Озол, — из-за таких лицемеров не стоит и тебе лицемерить.
Он хотел сказать еще что-то, но уже подходил Вилис. Его левая рука безжизненно висела, а в правой он держал два яблока, которые протянул ожидавшим. Глаза Эльзы снова засветились.
На перекрестке Озол расстался со своими спутниками, простившись коротким, сильным рукопожатием. Для него началась более тяжелая часть пути. Чтобы успокоить учащенно забившееся сердце, он старался смотреть на окружавшие его пейзажи. Когда-то здесь была тенистая липовая аллея, опьянявшая в разгаре лета медовым ароматом и полная пчелиного жужжания. Но теперь стройные деревья лежали, спиленные, у дороги, опираясь комлями на высокие пни, и были опутаны проводами сваленных телеграфных столбов. Краса латвийских большаков! Местами в порыжелых и покрытых копотью садах торчали почерневшие трубы. Вместе с оставшимися печами они походили на кулаки с поднятым к небу пальцем. «Ты когда-нибудь заплатишь, поджигатель и убийца!» — грозили эти кулаки.
Вот дом Миериней, от которого всего шесть километров до усадьбы, где Озол надеялся найти свою семью. Двор Миериней был пуст, лишь из канавы прыгнула кошка с широко раскрытыми, испуганными глазами и, пронзительно мяукнув, метнулась на крышу сарая. Двери дома были распахнуты, в сенях виднелось что-то серое, съежившееся, похожее на человеческое тело. Озол зашел во двор и в нескольких шагах от дверей застыл. В сенях, головой к порогу, с торчащей кверху бородкой, лежал старый Рудис Миеринь, слабоумный брат хозяина. У покойника на груди лежала мохнатая собака, тоже мертвая. Вокруг трупа, на глиняном полу, видны были лужицы запекшейся крови. Старик никогда никому не причинял зла, но никто не мог уговорить его выйти за ворота. Наверное, жандармы, выгнавшие семью Миериней, не смогли заставить Рудиса поехать с ними и, когда тот стал сопротивляться, тут же расстреляли. Собака, возможно, пыталась вступиться за своего старого друга и тоже была пристрелена. Так и лежал он и, мертвый, все еще улыбался приветливой, казалось, немного иронической улыбкой, словно говоря: «Видите, все же они не смогли выгнать меня из дому!»
«Надо найти людей и похоронить его», — думал Озол, выходя на большак. В воздух поднялась черная туча жирных мух, резкое зловоние ударило в нос. На обочине дороги лежала дохлая овца со вздутым животом и разодранной шеей. В канаве валялось колесо от крестьянской телеги. Озол ухмыльнулся: здесь завоеватели мира так стремительно «отрывались», говоря языком «Тевии», что даже врезались в крестьянскую повозку. По двору старой школы двигался сутулый человек. Озол узнал его — это был старик Вевер, бывший арендатор из его волости. Значит, сумел спрятаться. Пойти, побеседовать? Но ноги отказывались повернуть к школьной аллее. Когда человек ждет неизбежного удара, он все же пытается хотя бы на мгновение уклониться от него. Странно — там, в Москве, казалось, что можно было бы пешком пройти весь этот длинный путь, но теперь ноги поднимались тяжело, будто каменные. Озол встряхнул плечами, поправляя сбившийся вещевой мешок. «Будь мужчиной, не скули!» — выругал он себя. Разве у пригвожденных штыками к деревьям детей не было отцов, разве у жен, заживо сожженных в сараях в русских деревнях, не было мужей, которые когда-нибудь тоже с надеждой и жутким предчувствием будут считать шаги до родного гнезда? Личная боль, казалось, должна была раствориться в страданиях миллионов, и все же каждому положено перестрадать и свое горе.

Справа замерцало озеро. Лес на берегу был сплошь вырублен, высокие ивы, вдоль и поперек, лежали друг на друге. На берегу были видны пустые блиндажи и ящики из-под боеприпасов. Пшеничное поле все изрыто траншеями. Так часто видел Озол эту картину; но все же на родной стороне, где знакомы и запечатлены в памяти каждое дерево, каждый куст и даже цветок на обочине дороги, следы происходивших здесь битв кричат о бедствиях войны громче, чем где-либо в ином месте.
Постройки имения уцелели. «Это хорошо, будет где разместить МТС», — хозяйским глазом Озол окинул недавно выстроенный сарай. Но сейчас же горячая волна прихлынула к лицу — оно стало багровым от злости: свезенные к сараю сельскохозяйственные машины — косилка, жнейка, картофелекопатель, конные грабли, — все это было разворочено гранатами. «Негодяи!» — выругался Озол, и сам удивился, что это его так сильно задело за живое. Как изменилось у него в эти годы представление о собственности. Теперь все личное казалось мелочью, а тут были разрушены машины, которые бы так пригодились в восстановлении волости.
За имением он свернул на проселочную дорогу, что вела к его усадьбе. Только небольшой лесок впереди — и за ним уже должен был показаться его дом. Озол почувствовал, что дыхание стало прерывистым, — задыхаясь, он усиленно глотал воздух, как окунь, выброшенный на берег. Он заставил себя идти быстрее, а в лесу даже попробовал бежать, но у него заболел раненый бок. Выйдя из леса, он увидел свой домик — невредимый, гревшийся на солнце, и трубу его, из которой тонкой прямой струей поднимался белый дым — день был безветренный. Дымящаяся труба — как много сулит она человеку, возвращающемуся к своему дому после столь длительного отсутствия. Дымок говорит о том, что в доме есть жизнь, живое существо, которое встретит тебя с радостным возгласом, поспешит поставить на стол миску с горячей едой, торопливо и сбивчиво начнет рассказывать: сперва, может быть, о самом незначительном и в обратном порядке — сначала о последних событиях, потом о более ранних.
Дверь дома отворилась, вышла женщина, — это, несомненно, была Ольга. Она остановилась посреди двора и, защитив от солнца глаза ладонью, стала смотреть на путника. Вероятно, не узнав, пошла в сторону сарайчика, возле которого лежали дрова. Взяла охапку дров, еще раз взглянула и вдруг, бросив дрова, с восклицанием: — Юрис! Юрис! — побежала ему навстречу.
В первые минуты, после того как они поздоровались, разговор не вязался. По ее лицу, по прядям поседевших волос, выбивавшимся из-под косынки, Озол увидал, что эти годы были для Ольги нелегкими. Сердце его жег вопрос: «Где дети?», но он не решался спросить, чувствуя по взгляду жены, что произошло какое-то несчастье; к радости встречи примешалась горечь.
Они вошли в свой дом. Ольга помогла Юрису снять вещевой мешок, усадила за стол. И, чтобы не говорить, засуетилась в поисках тарелки, ножа, вилки; выбежала на кухню, затем вернулась, браня немцев, которые все же нашли зарытую в землю посуду и перебили ее. Она рассказала, как жандармы, бряцая цепями на шее, ходили по домам и кричали: «Век!» Век!»
[1] — и как люди зарывали в землю свои пожитки, со скотом и повозками прятались в лесах и болотах, но об этом разнюхивали свои же шуцманы и угоняли их. Удалось остаться только тем, кто не примыкал к большим группам, а отдельными семьями прятались в лесу. Рассказала о себе: как с лошадью, коровой и овечкой в последнюю ночь перед изгнанием забралась в перелесок, что за Волчьим болотом, и кормила скотину хлебными корками, чтобы та не откликалась на громкое мычанье, доносившееся с большака, по которому беспрерывным потоком, с повозками и скотом, двигались люди, подгоняемые жандармами и их собаками, чтобы не свернули в лес.
Юрис заметил, что жена говорит торопливо, перескакивая с одного на другое, словно опасаясь молчания. Он понимал, что Ольга боится вопроса: «Где дети?» и старается отдалить страшный ответ. Озолу стало как-то не по себе от сознания своей слабости, обидно за жену, оберегающую его, как малого ребенка. И он оборвал Ольгу резким прямым вопросом:
— Ну, а где Карлен и Мирдза?
Ольга вздрогнула, как от выстрела, грянувшего втихую ночь. На щеках выступили багровые пятна, из глаз брызнули слезы.
— Увезли… — громко всхлипнула она и дала волю слезам. Припав к плечу мужа, она рассказала, как Карлена в первый же год после прихода немцев выгнали из школы, как он не смел показываться ни в местечке, ни в волостном клубе, где хозяйские сынки, готовые выколоть ему глаза, называли его «красногалстучником» за то, что был пионером. Нынче летом, когда мальчику минуло семнадцать лет, он во что бы то ни стало хотел уйти в лес — говорил, что пойдет к партизанам. Она упросила его остаться. Все казалось, что еще мал, какой из него вояка. Но немцы усадили их, почти еще детей, на машины и увезли. В августе, когда объявили мобилизацию ребят его возраста, о бегстве уже нечего было и думать. Шуцманы шныряли по усадьбам, как борзые псы, грозились сжечь дома и расстрелять матерей и родственников мобилизованных, если те попытаются бежать. Карлена увезли, как и всех.
Юрис помрачнел. В груди закипала обида на жену, не пустившую Карлена к партизанам; тогда он остался бы здесь. А теперь? Не будь у него тяжелого ранения, они, сын и отец, сидели бы каждый в своем окопе и стреляли друг в друга. Не из ненависти, не из-за разности мировоззрений, но из-за нелепого насилия и вот ее, матери и жены, слабости. Старая песенка всех матерей: сынок, дескать, еще мал, кто за ним в лесу будет ходить, кто даст поесть. У него с языка чуть было не сорвался упрек, но он вовремя сдержался. Ольга и так была разбита; она, наверное, и сама себя проклинала. И не получится ли так, что он все бремя вины, давившее его все эти годы, взвалит на жену: неси, мол, его дальше, а я счастливо отделался. Возможно, этим летом, когда ей надо было решиться, как быть, Ольга растерялась точно так же, как он, когда должен был уехать.
— А где Мирдза? — его опять кольнуло в сердце и мгновенно в мозгу пронеслись все уже испытанные опасения, все допущенные им возможности, заставлявшие его бороться с самим собою, высмеивать себя, называть обманщиком, который пытается обмануть судьбу: раз я от тебя ничего не жду, ни на что не надеюсь, то ты не можешь уготовить мне ничего такого, что удивило бы меня. Он подумал — лицемеришь и тайно надеешься, что судьба оставит тебя в покое, пощадит, просто потому, что не стоит с тобой возиться, ведь все равно ей не оглушить тебя внезапным ударом, — ты ко всему готов.
— Мирдзу увезли с собою хозяева, наши же Саркалисы, — показала Ольга рукой в сторону большого соседнего хутора.
— Как, разве Мирдзе нужно было идти в услужение к хозяевам? — вспылил Юрис. — Разве у вас в своем доме не хватало хлеба и работы?
— Хватать-то хватало, — Ольга бессильно махнула рукой, — но не разрешили работать. Все вызывали в волостное правление и предупреждали, что на нашем клочке земли слишком много людей, одного человека необходимо отдать. Если Мирдза не наймется к Саркалисам, то ее пошлют на работу в Германию. Тогда мы порешили, что лучше уж здесь остаться, на месте, по крайней мере, не разлучимся.
— А ты не могла спрятать ее в перелеске за Волчьим болотом? — начал было Юрис с такой укоризной в голосе, что Ольга съежилась и в глазах у нее сверкнули слезы.
— Юрис, что ты говоришь! — упрекнула теперь она. — Саркалисы уехали отсюда, когда еще никого не угоняли. Только он сам остался, был шуцманом. Бегал по лесу, угрожая расстрелять всех, кто ждет большевиков. Как же Мирдзиня могла не ехать… Как же я могла ее спрятать? Ты говоришь это так, словно я не выплакала своих глаз.
Озол, мрачный, молчал. Он сознавал, что был несправедлив к жене. Он удивлялся и сам спрашивал себя, куда девалась нежность, согревавшая его сердце на фронте или в госпитале, когда он думал о своем доме, детях, жене. Где все те ласковые слова, с которыми он обращался к ним, когда его никто не слышал? Сейчас ему казалось, что близкие обидели его, не сумели остаться и дали себя угнать в позорную неволю.
— Не плачь, Ольга, — попытался Юрис преодолеть чувство досады. Но он произнес холодное «Ольга» вместо сердечного «Оля» и, чтобы исправить это, неуверенно погладил руку жены. Эта неловкая ласка растопила застывшие слезы Ольги и, припав, обессиленная, к плечу мужа, она безудержно зарыдала.
— Юрис, Юрис, вот какая наша встреча! — прорвались сквозь слезы слова, полные горя. — Сколько мы а тебе говорили, думали, как тебя встретить… Но получилось совсем иначе… Проклятые немцы! — воскликнула она. — Увезли нашего Карлена… словно от сердца кусок оторвали… И где теперь Мирдза скитается?..
— Не плачь, Оля, — Юрис нежно погладил волосы жены, с которых соскользнул платок и открыл уже пробившуюся седину. — Может быть, они найдут дорогу обратно. Пока дитя живет под крылышком матери, оно слабо, как птенец, но едва станет самостоятельным, начинает защищать себя. Оля, все будет хорошо. — Убеждая жену, Озол сам верил своим словам. — Вот увидишь — они вернутся!
В это мгновение он вспомнил юношей и девушек, потерявших родителей, но правдой или неправдой попавших в латышскую стрелковую дивизию и привыкнувших к военной жизни. Это только предубеждение родителей, что дети беспомощны, что их нужно опекать. Жизнь учит быстрее школ и книг.
Ольга сразу же пришла в себя, будто именно этих слов ждала она от Юриса. Ей так хотелось услышать, что дети вернутся, и когда это сказал муж, сам только что вернувшийся после долгих, столь тяжелых лет разлуки, то ему можно было поверить.
Чтобы рассеять накопившиеся чувства, Озол попросил жену показать ему, что осталось от их маленького хозяйства. Ольга засуетилась, начала было убирать со стола посуду и еду. Увидев, что Юрис едва прикоснулся к пище, повернулась к нему и недоуменно пробормотала:
— Как же это так? Почему ты не ешь? У вас ведь там, на войне, не бог весть как… — она осеклась на полуслове.
Юрис вспомнил прочитанное вчера в «Тевии» о заморенных голодом латышах, и на лбу у него легла поперечная складка. Неужели и Ольга поверила? «Да что я! — упрекнул он себя. — Она измучена горем — вот у нее иногда и сорвется необдуманное, случайное слово».
Ольга вернулась из кухни, схватила жакет и стала надевать, но никак не могла попасть в рукава. Юрис заметил, что она держит одежду наизнанку. Он взял у нее жакет и помог ей одеться.
Они вышли во двор. Собачонка, бегавшая в первое лето войны еще маленьким щенком, недоверчиво посмотрела на своего хозяина и зарычала…
— Вот тебе и раз, — рассмеялся Юрис, — не хочет признать меня. И впрямь чудно, даже собака напоминает о том, что прошли годы, а не дни.
Ольга не ответила. Они молча прошли за дом и остановились. Молодые яблони лежали на земле спиленные. Даже ягодные кустики были срублены. Над ульями не видно было ни одной пчелы.
Озол отвернулся. Ему часто приходилось видеть опустошенные сады, но обломанные при падении, острые ветви яблоньки, некогда посаженной им, казалось, разбередили у него рану в боку, и она заныла. Однако Юрис не дал болезненному ощущению овладеть сердцем. Он обратил свой взор к горизонту. Вдали, окутанный синеватой дымкой, вырисовывался спокойный, неподвижный бор, на небе пылало красновато-желтое вечернее зарево, а над верхушками деревьев лежала темно-серая полоса облаков. Вся природа была насыщена мирной тишиной уходившего лета; до самого леса, на равнине и на склонах, желтели созревшие хлеба, уже давно тосковавшие по жнецу.
И вот эта, столько раз виденная картина — бор вдали и закат над ним — такая привычная, что он, даже закрыв глаза, мог бы видеть каждую выдававшуюся верхушку дерева, — убедила Озола, что он у себя дома, в родном краю, о котором он столько мечтал и к которому стремился все эти три года.
2
ЧЛЕН ПАРТИИ
— Юрис! Слушай, Юрис! Ты слышишь, как стреляют? — разбудил Озола испуганный голос жены. Ольга вся дрожала. Он взял ее руку — влажную и холодную. Слышно было, как снаряды с воем пролетали над крышей, от взрывов позванивали стекла.
— Юрис, скажи что-нибудь, иначе я от страха с ума сойду, — умоляла Ольга, прижимаясь к мужу.
— Почему ты боишься, Оля, — принялся Юрис успокаивать ее. — Снаряды рвутся ведь не у нас.
— Я не переношу этого воя, — стонала Ольга.
— Этот вой менее всего опасен, — усмехнулся Озол. — Если воет, — нечего опасаться — снаряд летит мимо.
— Но когда я слышу стрельбу, то боюсь за Карлена. Как он там, на фронте… И Мирдза… Я видела, как немцы сновали среди беженцев. А с воздуха кто там что разберет. У меня прямо сердце на части рвется. И потом, вдруг немцы вернутся и найдут тебя здесь?
Они встали и начали одеваться. Уже светало. Снаружи собака скребла лапой дверь и скулила.
Фронт был близко. Немцы были отброшены за реку, делившую местечко на две половины. Отступая, они взорвали и сожгли волостное правление, клуб, молочный завод, церковь и все лучшие постройки. На правом берегу реки все, до последнего куста, было вырублено. Немцы на другой стороне вцепились в берег, как клещ в живое тело. Только теперь, выйдя во двор, Озол понял, что странное чувство одиночества, овладевшее им вчера, было вызвано необычной тишиной, непривычной вблизи фронта. На всем своем пути сюда он не встретил ни одного бойца из линейных войск, лишь кое-где он видел издали отдельных саперов, искавших мины. Значит, направление главного удара было не здесь и крупных боев ожидать не следовало.
Ольга прошла в коровник с подойником. Юрис посмотрел ей вслед — она шла как-то сутулясь и ежась, словно озябшая и испуганная. Она постарела и ослабла, не только внешне, но и внутренне.
«Умеет ли она еще смеяться», — неизвестно почему пришло на ум Озолу, но ему сразу же стало стыдно этой мысли. Что у нее за эти годы могло вызвать смех — потерян муж, детям грозила опасность быть угнанными в Германию, а ее саму унижали на каждом шагу! Вчера она за полночь рассказывала, как Саркалис отнял прирезанные им в советское время пять гектаров, как он издевался, говоря, что им, мол, его земля поперек горла стала, не работая, нажиться захотели. А Мирдза должна была идти к нему в услужение, чистить его окровавленные сапоги, когда он возвращался из своих загадочных поездок в уездный город. Но болезненнее всего Ольга переживала потерю детей. Ее грызла неизвестность. Ночью Юриса разбудили вздохи жены, но он притворился спящим, не стал утешать ее. Он покраснел, стыдясь своих мыслей. «Неужели ее не радует мое возвращение», — подумал он тогда сердито. А теперь он укорял себя за это. Подумаешь, какой королевич — морщится, потому что его подданные не встретили его, как героя, еще бы, он ведь был фронтовиком, кровь проливал, а жена даже не приласкала его, все только плачет о детях.
Юрис поборол недовольство собою. Бодрящий утренний ветер сбил на глаза прядь волос, и он откинул ее взмахом руки. Снова наступила тишина, только на выгоне, в березах, перекликались птицы. В такое ласковое и спокойное утро даже трудно было поверить, что только вот недавно грохотали орудия и что война еще не окончена. Уже во второй раз война прерывала мирную жизнь поколения Озола. Тогда первая война не дала Юрису окончить школу. Со дня его появления на свет отец пятнадцать лет копил деньги, отказывая себе во всем необходимом: в новой повозке, в праздничной одежде и в самих праздниках — только ради того, чтобы сын мог выбиться из нищеты, которую терпела семья на клочке тощей земли в десять пурвиет. Юрис уже пробился до третьего класса гимназии, когда накопленные отцом царские деньги превратились в никому не нужные бумажки; без денег учиться нельзя было. Сын соседей, тех же Саркалисов, продолжал учиться и во время войны и, приезжая на каникулы, как и отец его, дразнил Юриса недоучкой. Юрис прижимал подбородок к груди и упрямо молчал. Он никому не говорил, что каждую свободную минуту учился, проходил самостоятельно курс следующих классов гимназии. После войны он поехал в Ригу и сдал экзамены на аттестат зрелости. Затем стал готовиться к поступлению в университет, но внезапная смерть отца помешала этому намерению. Юрис не мог бросить мать, слабую здоровьем, и остался на земле, каждая пядь которой была пропитана отцовским потом. Ему было двадцать четыре года, когда мать заболела и слегла и к ним в дом пришла помогать по хозяйству сирота Ольга — кроткая, тихая девятнадцатилетняя девушка, уже успевшая на скотных дворах богатых хозяев натереть вилами на ладонях большие мозоли. Юрис долго не мог добиться того, чтобы Ольга перестала величать его «хозяином», она никак не решалась называть его Юрисом. Она боялась малейшего внимания с его стороны, никогда ему не улыбалась, и только спустя некоторое время он понял, что она недоверчиво относится к попыткам хозяина приблизиться к ней. За год Юрис беззаветно полюбил серьезную девушку, с неиссякаемым усердием выполнявшую все домашние работы и ходившую за больной матерью. Весной мать умерла. После похорон Ольга заявила, что не может больше оставаться. Юрис помнит этот день, словно сегодняшний. Не будь он так безнадежно влюблен, попытался бы уговорить ее, предложить побольше жалованья. Но он был настолько потрясен, что убежал в лес, пробродил там весь день, — его угнетала мысль о том, что дом скоро будет пуст и мрачен, в нем больше не услышишь мягкой поступи Ольги. Юрис помнит, как он долго лежал на мху и смотрел на ладьи белых облаков, плывшие одна за другой по небесной синеве. Птицы заливались трелью, словно обезумевшие, молодые еловые шишки и цветы испускали дурманящий аромат, но эти весенние радости нагоняли на него мрачные мысли и настроения. Незадолго перед этим он прочел сентиментальный роман Келлермана «Ингеборг», и его охватило безумное желание поступить подобно герою этого романа: сжечь свой дом и уйти странствовать далеко по миру, не смотреть ни на одну женщину, нигде не останавливаться дольше одного дня. Домой он вернулся только ночью, забрался в сарай и провалялся там, не смыкая глаз, всю ночь. Хотя Юрис до того весь день ничего не ел, он на рассвете запряг лошадь и поехал в поле пахать. Когда он дал лошади передохнуть, то увидел Ольгу, выходившую из дома с кувшином и куском хлеба в руке. Она шла прямо к пашне, белая косынка соскользнула на плечи, и ее темные кудри развевались на ветру. Он хотел отвернуться, не смотреть на девушку, но его взгляд был словно прикован к ее стройному стану. «Осталось всего семь дней… — шептал он себе. — И тогда она уйдет, а за ней уйду и я. Для чего я здесь еще пашу? Все же лучше что-нибудь делать, двигаться, работать».
Ольга подошла и поставила перед ним кувшин с молоком, расстелила полотенце и положила на него хлеб.
— Ешьте, хозяин, — сказала она и покраснела, зная, что Юрис не любит, когда его называют «хозяином». В другой раз он бы с нею пошутил, ответив: «Спасибо, служаночка», но теперь у него не поворачивался язык даже для того, чтобы произнести попросту «спасибо». Ольга минутку постояла, неловко помялась и вопросительно взглянула на него; он неподвижно сидел на краю канавы, молчал и не дотрагивался до хлеба. Она стремительно повернулась и ушла.
Юрис молчал все семь дней, пока не настал час, когда она должна была уйти. Ольга, бледная и осунувшаяся, укладывала свои пожитки. Уложив вещи в узелок, она стала одеваться, медленно, словно руки у нее были скованы. А Юрис сидел на пороге, подперев руками голову. Наконец она была готова и приблизилась к нему.
— Может… напоследок… — заговорила она, запинаясь на каждом слове, — вы скажете мне прощайте.
Тогда он вскочил как ужаленный и, проглатывая окончания слов, начал умолять:
— Ольга, не уходи, обожди! Нет, иди, зачем ты будешь жить рядом с человеком, который глуп и бестолков, ты никогда не сможешь полюбить его, но он любит тебя безумно. Ну и пусть. Иди, я тоже скоро уйду. Навсегда! Нет, останься, живи в этом доме. Я сюда больше не вернусь, нет, нет, я ручаюсь, что ты меня больше не увидишь. Если моя любовь к тебе — преступление, то…
Ольга только воскликнула: «Юрис!» — но по этому единственному слову, по интонации ее голоса, по ее глазам, засветившимся от внезапного счастья, он понял, что был слеп.
Так началась их новая жизнь. Они работали. Настоящим горением в труде были первые годы их совместной жизни. Им надо было наладить свое маленькое хозяйство так, чтобы оно через некоторое время требовало меньше хлопот, оставляя больше времени для книг.
Озол попытался заставить себя оторваться от мелькавших в памяти видений прошлого, но они продолжали всплывать перед ним непрерывной чередой. Он видит Мирдзу и Карлена, маленьких резвых ребятишек, их первые дни в школе, вспоминает свое беспокойство о том, сможет ли послать их в среднюю школу. Вспоминает первый год Советской Латвии, которой семья Озолов отдалась всем сердцем. По-новому остро он воспринимает уход из родных мест, первые полные ужаса дни, когда он не мог проронить ни слова, воодушевление, с которым они, эвакуированные латыши, ехали в свою часть. Затем перед его глазами проплывают картины боев, погибшие товарищи и живые, всегда стремящиеся вперед. Ему казалось, что эти картины войны заслоняют всю остальную жизнь; никогда не было и не будет ничего более яркого. Глубже всего остального они залегли в памяти. С особенной яркостью в памяти всплывает ранняя весна 1942 года. Латышская дивизия, сама полуокруженная, сжимает горло окруженной 16-й немецкой армии. Стрелки лежат в болоте, из-за распутицы к ним не может пробраться ни одна грузовая автомашина. Суточный паек — маленький, пропитанный влагой сухарь. А иногда нет и этого. Во втором эшелоне содрали со всех берез кору, но на передовых позициях не разрешается и это. Встречный ветер доносит до них ароматные пары полевых кухонь, и немцы кричат в громкоговорители: «Переходите к нам, мы вас накормим». Он прокалывает в ремне еще две дырки, чтобы потуже подпоясаться. Но именно в эти тяжелые дни, вместе с мучительным голодом его страшит боязнь, что он не выдержит. Его пугает не смерть, а сознание, что он может умереть, не доказав родине свою преданность. В эти дни он представлял себе родину не как землю с полями, лесами и городами, а как живое существо, любимое и близкое, стонущее и корчащееся в болях от ран, нанесенных врагом. Чтобы облегчить страдания этого существа, хочется быть внимательным к нему, охранять его до последнего дыхания. Но как показать родине свою готовность грудью преградить путь пуле, направленной врагом в ее сердце. Однажды ночью, когда около его палатки разорвалась мина и осколком убило лежавшего рядом с ним товарища — члена партии, он понял, что должен сделать. Рано утром пошел к парторгу роты и сказал, что хочет стать коммунистом. С тех пор он все эти годы носил на сердце маленькую красненькую книжечку.
Заскрипела калитка. Из хлева выбежала собака и с лаем бросилась на раннего гостя. Юрис обернулся и увидел старого Пакална, хозяина усадьбы «Кламбуры». Он стоял в калитке, широко расставив ноги, одетый в серый расстегнутый домотканый пиджак. Густая седая борода почти до самых водянисто-голубых глаз, которые спокойно и приветливо смотрели на Юриса, ничуть не удивляясь его появлению.
— Ну, здравствуй! Значит, вернулся? — улыбнулся он Юрису, и вокруг глаз веером легли лучистые складки.
— Здравствуй, Пакалн! — радостно ответил Юрис. Он обрадовался гостю, который доверчиво пришел к нему и поздоровался с ним, словно они виделись только вчера или позавчера.
— Значит, хозяин дома. — Пакалн протянул руку, и Юрису было приятно пожать твердую и мозолистую от работы ладонь.
— Иду мимо опушки леса и вижу — труба дымится. Думаю, надо зайти, хозяйку проведать. Ну, наверное, и рада же она. Здесь уж кричали и шумели, будто вас там в Сибирь сослали, голодом заморили. Я же всем говорил: с голоду только лентяи мрут. Кто работает, тот там с голоду не помрет.
— Правильно, — подтвердила Ольга, незаметно подошедшая. — Пакалн всегда так говорил. Но когда об этом в газете читали, то тяжело было на сердце.
— Басни там писали. В Сибири, да с голоду помереть. Вот свояк мой, муж Юли, в старое время туда уехал землю искать. Там и остался. Писал, что земля, как масло, хоть на хлеб мажь. Писал: зачем вы там в песочке копаетесь?
— У вас, Пакалн, все дома? — перебила его Ольга.
Пакалн хитровато улыбнулся, у углов глаз опять веером легли складки.
— У меня, хозяйка, всегда все дома, — сказал он, постучав пальцем по виску.
— Я не то хотела сказать, — оправдывалась Ольга, оставаясь серьезной, — я хотела спросить, не угнали ли ваших.
— Угнали, как же не угнали. Ведь наш дом стоит у самой дороги. Но меня им не угнать. Я дошел до выгона Густыня, да в кусты. Жандарм, правда, что-то крикнул мне вслед, позвякал цепями, а я показал, что мне надо… Просидел там, а тут и русские пришли. Они говорят мне: «Дедушка, ступай домой, хлеб надо жать». Я и сам вижу, что жать надо. Все созрело и сухо, хоть сейчас в молотилку пускай.
— Значит, дети твои не знают, где ты? — в голосе Ольги послышались упрек и беспокойство.
— Когда вернутся, увидят. Где же я еще могу быть, как не в своих «Кламбурах», — спокойно ответил Пакалн.
— Господи, — тяжело вздохнула Ольга, — кто знает, когда придут, и придут ли.
— Придут, — с непоколебимой уверенностью сказал Пакалн. — Когда немцам станет жарко, их как ветром понесет. Ни одного беженца, даже если попросится, не возьмут с собой. Будут орать: «Век, век с дороги». А теперь я все же пойду, еще русские понаведаются, спросят: «Дедушка, почему ты хлеб не жнешь?»
— Погоди, Пакалн. — Пока Озол слушал рассудительные речи старика, у него созрела мысль. — Видишь ли, волости нужен будет новый руководитель. Не мог бы ты взяться за должность председателя исполкома?
— Нет, куда мне! — махнул Пакалн рукой. — У меня своя должность — землю копать. Ты уж сам. Ты ведь раньше это дело вел и в школе учился.
— У меня будут другие обязанности, — настаивал Озол. — Право, Пакалн, почему тебе не попытаться, хотя бы временно.
— Ну тебя с твоими должностями, — замахал Пакалн обеими руками. — Хлеб поспел. Кто же станет его убирать, если я буду кружить по волости?
— Все же было бы хорошо… Теперь так нужны честные люди, — упрашивал Озол.
— Нет, нет! — резко оборвал разговор Пакалн. — Бывайте здоровы. Проведал — живы. Мне в поле пора.
— Ты хоть расскажи, кто здесь еще сумел спрятаться, кто еще остался в волости? — не отпускал его Озол.
— Остались, остались, видел домах в десяти дымятся трубы. Вот, Петер Думинь, Ян Калинка, Лицис со своим зятем — Салениеком, что ли…
— Пастор этот? — удивленно воскликнул Озол.
— Какой там пастор, — медленно протянул Пакалн. — Выучился, правда, но на кафедру не полез. Работает у тестя батраком, как сам, шутя, себя называет. Отец к себе в дом не пустил. Разве, говорит, для того я деньги за учение платил. Наш пастор Гребер прямо-таки ненавидит его. Ну и позлил же его этот Салениек — словно черт. В Троицу Гребер поет в церкви с прихожанами, а Салениек берет корову и ведет ее мимо церкви в «Вевери», к быку. — Пакалн говорил серьезно, но Юрис заметил, что в глазах у него запрыгали смешливые искорки. — Хороший работник этот Салениек, — добавил он. — Ну как мы все. Никакой работой не брезгует. И книги читает. Немцы ему всякие должности предлагали, а он — ни за что. Мы ведь с Лицисом соседи, потому я все и знаю. Ну, я пойду. Поговорим в другой раз. Да, а как ты в России-то жил?
— Воевал, как все, — ответил Озол, думая о своем бывшем школьном товарище Салениеке.
— Иначе нельзя, воевать надо, что ж поделаешь, если вошь по тебе ползет, ее надо раздавить, — усмехнулся Пакалн и, подав руку, медленной, но твердой поступью пожилого человека направился домой.
Юрис долго смотрел ему вслед, ему нравились крестьянское спокойствие и уверенность старика. Казалось, нет на свете такой силы, которая могла бы его потрясти, выбить из колеи. Когда немцы его угоняют, он придумывает, как вернуться домой; потерялась семья, он не сомневается, что найдется. На войну с немцами смотрит так: если по тебе ползет вошь, то ее надо раздавить.
— Жаль, что не удалось его уговорить, — сказал Юрис, обращаясь скорее к себе, чем к Ольге.
— И пытаться не стоит. Разве не помнишь, как его когда-то хотели сделать церковным старостой. Сам пастор звал и упрашивал. А он: нет да нет. Только смеется: в церковные старосты, мол, не гожусь. У них у всех затылки лысые, а у меня волосы, как густой лес.
— В церковные старосты он мог не идти, но где же теперь взять людей? Скажи хоть ты, ты здесь все время жила: как кто себя вел? — Он пристально и вопросительно посмотрел на. Ольгу.
— Откуда мне знать? — смутилась Ольга. — Хороших людей было много. Но все они такие же, как Пакалн… — она замолчала.
— Но, Юрис, — через минуту неуверенно продолжала она, — ты все же никуда не ходи. Хлеба у нас, правда, немного, но он уже поспел.
— Нет, я хочу сегодня пройтись по волости, посмотреть, не найду ли кого, — ответил Юрис, не поняв жены.
— Это верно, сегодня следовало бы осмотреться кругом, но я считаю, что тебе ни за какие должности браться не надо. Чего ради ты будешь с людьми грызться, какая от этого польза? Может, теперь нам опять земли прирежут. А если и
нет, то будем обрабатывать наш клочок, хлеба хватит, кто знает, что нас ждет впереди, разве нынче что-нибудь можно предвидеть. Тем, кто ни в чем не замешан, как вот Пакалн, — им все равно, какая власть. Хлеб всем нужен. Бог даст, вернутся Карлен с Мирдзой, будем жить в своем гнездышке, как в теплой шапке. Право, Юрис, не берись ни за что, не даст нам это легкой жизни.
Пока жена говорила, Юрис смотрел на нее, не понимая, прежняя ли это, полная сил Ольга, о которой он недавно вспоминал, или же другая — старая, чужая женщина. Когда он заговорил, его голос звучал спокойно и холодно, как слабый удар косы о камень.
— Ольга, — сказал он, — я был в двух тысячах километров отсюда и всегда видел тебя так близко, что казалось, стоит только руку протянуть, и мы будем вместе. Но сейчас я тебя не вижу. Каждое твое слово — это кирпич, положенный в стену, вырастающую между нами. Разве стоило воевать ради того, чтобы каждый мог залезть в свое гнездышко, как ты говоришь, а обо всем другом сказать: не мой конь, не мой воз. И, чтобы ты больше не пыталась меня уговаривать, скажу тебе то, что забыл сказать вчера, хотя это самое важное, что тебе следует знать обо мне. Я член партии.
— Какой партии? — наивно спросила Ольга.
— Есть только одна партия, членом которой я могу быть. Это — коммунистическая партия.
— Коммунистическая? Значит, ты коммунист? — не могла скрыть смятения Ольга.
— Да, я большевик. И поэтому меня не пугает «грызня с людьми», как ты говоришь, и «другие власти», как ты тоже говоришь.
— Я ведь только так, Юрис, ты ведь лучше знаешь, как поступить. Иди, я одна управлюсь, пока не вернутся дети, — покорно пробормотала Ольга и собралась на кухню.
— Оля, — позвал ее Озол. — Ну, пойди, посмотри, разве я такое чудовище, как обо мне писала «Тевия».
— О тебе? Разве о тебе писали? Нет ни слова не было, мы как раз искали, не будет ли чего-нибудь.
— Было, было, Оля, ты не заметила! — глаза Озола заблестели от сдерживаемого смеха. — Разве ты не читала, как я в первый год Советской власти вырывал у людей ногти, рвал волосы, ломал кости? И буду делать то же самое, когда вернусь сюда.
— Но ведь это не о тебе писали… — недоумевала Ольга:
— Как же нет! Ведь это писали о большевиках. — Юрис рассмеялся.
— Ты шутишь, а я думала серьезно, Юрис, — оглянувшись, она с мольбой посмотрела на мужа. Он заметил, что глаза жены словно смотрят вовнутрь и слепы к окружающему. — Ты не слишком обижайся, если я порою скажу что-нибудь глупое. У меня в голове все мысли перемешались, как листья, которые кружит ветер. Что бы я ни делала, с кем бы ни говорила, всегда вижу перед глазами детей.
— Да, я уже заметил, что ты ходишь как заколдованная, — Юрис взял жену за подбородок и посмотрел ей в лицо. — Но скажи, — неуверенно продолжал он, — кто разбудит тебя?
— Если бы Карлен вернулся… — на глазах Ольги опять выступили слезы, и, вырвавшись из рук Юриса, она убежала на кухню.
3
ВОЛОСТИ НУЖЕН ХОЗЯИН
Озол минуту задержался во дворе, словно ожидая, что Ольга вернется и несколькими словами рассеет отчужденность и взгляд ее снова засветится, станет сердечным и открытым, как прежде.
Но Ольга не шла. Он слышал, как она у кухни говорила собаке:
— Ишь ты, какой привередливый, такой хорошей каши не хочет! Бог знает, есть ли у Карлена и Мирдзини такая…
Юрис вышел за ворота. Он словно бежал от самого себя, от ревности к детям.
— Глупец! — выругал он себя. — Ведь не приехал же ты сюда только для того, чтобы держаться за женин подол.
Опустив голову, он шагал по обочине дороги, поросшей травой; недавно здесь прошел Пакалн, оставив за собою на росистой траве широкий след… Вот каков этот Пакалн, ни за какую должность не берется. Ольга говорит, что все порядочные люди здесь такие. Кто же еще остался? Петер Думинь — с ним и говорить не стоит, он всегда, как крот, от рассвета до вечерних сумерек рылся, в своей земле, которой ему все было мало. Вспахивая свое поле, он оставлял межу шириною с обушок косы, а соседям, чтобы не ошибиться в границе, приходилось не запахивать у себя целую борозду. Каждую весну повторялась та же история. Всюду, где поля Думиня граничили с землей соседей, межевые бугорки находились далеко на земле Думиня, а его межи врезались в чужие поля. Над жадностью Петера смеялась вся волость, шутили, что даже могилу для него придется рыть шире и длиннее, чем другим, иначе он в гробу перевернется. Его граничившая со скаредностью бережливость была предметом разговоров на всех толоках и празднествах. Рассказывали, что он соскакивал с телеги, завидев на дороге ржавый гвоздь или обрывок полусгнившей веревки. Пить цельное молоко — это было для него самой большой расточительностью. Жене своей даже после родов он выдавал только по одному стакану; все остальное он возил на маслодельный завод. Нет, с Петером Думинем и говорить не стоит.
Ян Калинка? Этот — полная противоположность Петеру. Мелочами он никогда не занимался. Многое из того, что крестьяне обычно производили дома, Ян всегда покупал на базаре. Сажать яблони? — тьфу, это Яну казалось слишком скучным. Пока дерево вырастет, пройдут годы, а потом оно один год приносит плоды, а следующий — нет. «Такое дерево не окупает себя», — уверял Ян соседей, которые только головами покачивали, поглядывая на его голый дом, вокруг которого не было ни фруктовых деревьев, ни цветов, ни даже забора. «В хороший урожай меня соседи забросают яблоками: ешь, все равно сгниют! А когда не будет яблок у других, то в такое лето не уродятся они и у меня. Нет, не стоит». Всем на удивление, Калинка и жену выбрал себе с таким же характером. Она говорила его же словами: невыгодно разводить кур и овец — не окупают съеденного корма; нет расчета сажать капусту и другие овощи — осенью их можно очень дешево купить на базаре, и поэтому не стоит полоть их и ухаживать за огородом. Ей также невыгодным казалось прясть или ткать — ведь все можно было купить готовым. Калинки сеяли хлеб, сажали картофель да еще держали свинью и коров, которых у них было две, хотя на тридцати гектарах могли бы держать и больше. Но Элиза считала, что «чем больше коров тем меньше молока». Уж лучше двух коров накормить посытнее и выдоить столько же молока, сколько другие хозяйки выдаивают от трех или четырех. Так они жили, довольные всем и самими собою. Крыша унаследованного от отца дома пока не обваливалась, а если в каком-нибудь углу и протекала, то кровать можно было передвинуть на другое место, а под дождевые капли поставить миску. Такой незадачливый хозяин разорил бы и волость, для него ведь ничто бы не окупалось.
В роще раздался стук колес, и Озол ускорил шаг. Ему хотелось увидеть подводчика, встретить человека, не угнанного немцами. Вскоре он увидел, как крепкая гнедая лошадка, с белой отметиной на лбу, свернула вправо на дорогу, ведущую к дому Думиней. Высоко нагруженная вещами повозка, перекатываясь через корни, покачивалась и грохотала. Чего на ней только не было: кадка для капусты, стулья, табуретки, старые ведра и подойники, пучки льна, пряжа, снятые с петель двери, косы, вилы. На самом верху торчало сломанное колесо от телеги. Его, очевидно, подобрали, когда остальные вещи были уже перевязаны веревкой. Колесо на неровной дороге подбрасывало, и, наконец, оно грохнулось наземь. Думинь остановил лошадь, и Юрис догнал его.
— Где же ты, сосед, закупил все это, на аукционе, что ли? — заговорил с ним Озол.
Думинь встрепенулся, и колесо выпало у него из рук; он странно растопырил руки и даже пригнулся, как курица, пытающаяся защитить своих цыплят от налетающего ястреба.
— Собрал на обочинах дорог, — пояснил он неуверенным голосом, пристально всматриваясь в Озола, чтобы убедиться, верит ли тот ему. — Разбросали вещи, словно богатеи. Ах, значит, ты тоже вернулся. Да, лучше, чем дома, нигде не бывает, — пытался он переменить разговор.
Озол видел — Думиню безразлично, что ему ответят, что ему скажут, он занят колесом — как его пристроить на воз с вещами, чтобы снова не свалилось.
— С чего это люди так свои вещи побросали? — Озол внимательно посмотрел на повозку. — Вчера, по пути сюда, я нигде на дороге не видал таких вещей. Неужели кто-нибудь, уезжая, взял с собой дверь, а потом бросил?
Думинь снова растопырил руки и пригнулся. Его даже пот прошиб. Видно было, что ему неловко, как уличенному в шалости школьнику, который всегда умел казаться примерным.
«Чего я с ним тут вожусь! — сказал себе Озол сердито. — Уж потом разберутся».
Даже не попрощавшись, он повернул на дорогу, охваченный невольной неприязнью. Что за человек! Недалеко рвутся снаряды, а он подбирает на дорогах всякий хлам. Старик Пакалн — тот хоть спешит рожь убирать, чтобы у людей хлеб был, а этот разъезжает.
Озол подходил к имению. Еще издали он увидел, что во дворе уже нет подорванных машин. Увезены. «Кто знает, может, Думиню понадобились», — усмехнулся ой.
От озера дорога поворачивала к небольшому двору Лициса. Стройные сосны на берегу озера были сплошь вырублены. Деревья распилены на дрова, которые немцы не успели увезти. Дом Лициса прежде защищала тень леса, теперь он смотрел окнами на бурые пни. На поле во ржи уже хлопотали люди. Женщина косила близ межи, мужчина возился у жнейки. Увлеченные работой, они на заметили Озола.
Озол растерялся. «Как обратиться к ним? — думал он. — Может, сказать — «бог в помощь», — мелькнула у него ироническая мысль, но он сдержался. Салениек мог бы обидеться, приняв это за намек на изучение теологии и карьеру законоучителя. Все же надо было что-то сказать, иначе получилось бы, что он подслушивает чужой разговор. Жена Салениека — дочь Лициса Лайма — подошла к мужу со снопом сжатой ржи, оперлась на грабли и сказала:
— Роби, мы начинаем здесь хлеб убирать, а что если немцы вернутся?
— Не вернутся, — спокойно ответил Салениек.
— Ну, а если все же?
— Тогда мы переедем на другую сторону, — не поднимая головы, ответил Салениек.
— Но ты ведь помнишь, что писали в газетах… — в голосе Лаймы слышалась тревога.
— Это то же самое, что пасторы рассказывают о страшном суде, — угрюмо усмехнулся Салениек.
Озол понимал, что слишком долго остается незамеченным, и прервал их разговор, пожелав доброго утра. На него уставились четыре глаза — два голубых, испуганных, и два серых, смелых и пытливых. Салениеки тоже поздоровались, потом наступило молчание. Озол почувствовал себя виноватым. Раз он подошел, то ему следовало бы первому завязать разговор. Но он не мог найти нужных слов, он даже забыл, зачем он, собственно, сюда завернул, что собирался сказать Салениеку и что хотел услышать от него.
— Хозяин волости вернулся, — наконец нарушил молчание Салениек. В голосе Салениека Озолу послышалось удовлетворение, словно его приезд избавлял волость от опасности.
— Я как раз для того и приехал, чтобы подыскать хозяина для волости, — ответил Озол. — Быть может, вы поможете мне?
— Пойдемте, поговорим. — Салениек пригласил гостя в дом. Он ввел его в свою комнату, извинившись за беспорядок. — Пока мы прятались в лесу, — усмехнулся он, — немцы наводили здесь свой «новый порядок». К счастью, они не нашли ящиков с книгами, зарытых мною в землю, — он указал на три больших ящика, стоявших друг на друге в углу.
— Странно как-то получается, — продолжал Салениек, улыбаясь, — книги — это такие вещи, которые меньше всего хочется потерять, но их все же с собой не возьмешь. Тяжелы, как камень. Приходится отдавать предпочтение хлебу и одежде, хотя и начинаешь сам себя презирать за это — словно бросаешь на произвол судьбы своих лучших друзей. Пока кругом спокойно, ты с ними беседуешь, берешь от них все хорошее, но в минуту опасности бросаешь, думаешь о желудке. Я благодарен вам, что зашли ко мне, — вдруг сказал Салениек, глядя в сторону.
Озол вспомнил о своем намерении, побудившем его прийти сюда к человеку, прошедшему столь пестрый жизненный путь, — в продолжение многих лет он отказывался, от всяких должностей, суливших ему более легкую жизнь, и вернулся к исходной точке — к земле и физическому труду.
— Мне хотелось бы знать, — начал Озол, пытаясь поймать взгляд Салениека, — и я прошу вас быть совершенно откровенным… Считаете ли вы, что все угнанные немцами действительно никак не могли спрятаться? Быть может, они уехали из боязни, что все, что писали и говорили о нас, правда? То есть, они поверили этому?, И почему, например, остались вы? Не поверили немцам, или же из-за безразличного отношения к жизни?
— Вы задаете сразу слишком много вопросов, — Салениек, задумавшись, помял пальцами папиросу, предложил Озолу закурить, после чего закурил сам. — Я могу с-уверенностью утверждать, что восемь десятых жителей вы нашли бы на месте, если бы жандармы с собаками и нашими же шуцманами не выгнали их из домов и лесов. Вера — это очень своеобразная вещь, — усмехнулся он. — Людей трудно отучить от глупости: верить именно тому, чего нельзя доказать и чего они не видели своими глазами. Расскажите кому-нибудь нечто совсем невероятное, и вы увидите, что человек будет пересказывать это другим с такой убежденностью, будто сам все пережил. Пожалуй, прав Анатоль Франс, когда говорит: ничто не является столь долговечным, как человеческая глупость.
— Вы увлекаетесь Анатолем Франсом? — вырвалось у Озола.
— Да, — Салениек сделал вид, что не заметил удивления, прозвучавшего в вопросе Озола. — В связи с этим, быть может, весьма уместно ответить, почему я остался. Во-первых, мне удалось спрятаться, но спрятался я потому, что хотел остаться. Почему я так рад вашему посещению? Я и сам считаю свое положение довольно глупым. Сознаю, что меня преследует тень прошлого. От своего прошлого я освободился, но от его тени — нет. Завидую тому, кто в ранней молодости нашел правильный путь и не сошел с него. Мне кажется, что это часто зависит от случая: посчастливилось ли тебе встретить и выбрать смелых попутчиков. Какая цена человеку, если он один? У него могут быть наилучшие намерения, благороднейшие идеи, но какая от них польза, если он оторван от остальных? В детстве и ранней молодости я был ужасно робок. Отец, церковный староста, превозносил бога, где нужно и не нужно. Лишь значительно позже я понял, что все это было напускным. Сынка, кроткого и послушного мальчика, после окончания школы влекло к естествознанию, но отец хотел видеть его пастором. Смешно признаться, но меня еще в средней школе занимал вопрос, существует ли высшая сила, или нет. Когда мне теперь хочется себя позабавить, я вспоминаю одну ночь, пережитую мною в шестнадцать лет. Осенняя ночь. Налетает небывало свирепая буря. Погода такая, что добрый хозяин даже чужой собаки из дома не выгонит. Но гимназист Роберт Салениек, терзаемый философскими размышлениями, в бурю и ливень выходит из дома, направляется на кладбище, бродит между могилами и ежится от страха, когда тьму прорезает молния и в ее ярком свете жутко сверкают белые, мокрые кресты.
Салениек горько усмехнулся и прервал себя:
— Лучше буду рассказывать в первом лице, а то получается слишком романтично. Глядя на кладбище, я представил себе картину страшного суда: — кресты с треском ломаются, открываются могилы, мертвецы поднимают крышки гробов и вылезают из ям. И хотя в святом писании сказано, что умершие воскреснут в новой плоти, я мог себе представить только скелеты, барахтавшиеся в песке. От этого еретического представления мне делается еще страшнее и я иду к церкви. Она, белая и безмятежная, стоит на темном пригорке. Как глупец, я припадаю к церковным ступенькам и громким голосом молю: «Явись ко мне в эту ночь, если ты существуешь там, в небесах, дай мне лишь ничтожное знамение, и я буду верить в тебя вечно. Вели грому ударить у моих ног! Ведь это тебе не трудно». Но гроза унялась, лишь вдали изредка полыхало. Слабеющие удары грома как бы издевались над моим легковерием и ребячеством. Отец хотел, чтобы я стал теологом, а у меня не хватило смелости пойти против его воли. Но уже в первый год я почувствовал, что в священники не гожусь. Я познакомился с одним пастором, довольно ловко проповедовавшим христианскую мораль — любовь к ближнему, терпеливость, кротость. Он часто с горечью жаловался, что конфирмации, свадебные церемонии и причастие стали пустой проформой даже для зажиточных людей. Юноши после конфирмации напиваются на пирушках, которые устраивают их же родители, хозяева после причастия бранят батраков, осмелившихся в воскресенье отдохнуть несколько часов. Еще в детстве я был очень чувствителен к несправедливостям, причиняемым людьми друг другу. В первую очередь — отец мой. Он отказался отдать часть наследства своей сестре, вышедшей замуж за батрака, потому что она сделала это против воли семьи. Он удерживал у пастухов из жалованья, если скотина заходила в хлеба. Во мне зрело отвращение к алчности и стяжательству. Церковные догмы не давали ответа на терзавшие меня вопросы. Во мне возник нелепый внутренний конфликт. «Кто ты такой? — спрашивал я себя. — Изнеженный интеллигентик, формирующий свой духовный мир так, как этого хочет отец. Вот — сестра твоего отца, простой, необразованный человек, посмела пойти против семьи, против порядка, делящего людей на привилегированную касту имущих и бесправные массы неимущих. А ты даже боишься сам профессию себе выбрать, боишься трудностей, которые могут возникнуть, если отец откажется давать деньги на учение». От этого внутреннего конфликта мне надо было освободиться, но я не мог довести дело до конца. Я перешел на философский факультет, но отцу ничего не сказал. Доктора и профессора засыпали нас идеалистическими философскими мудростями, даже говорили, что задача философии — обосновать сущность религии. И с таким багажом мы вошли в жизнь. Мой обман был обнаружен. Отец, конечно, обозлился. Я стал преподавать этику и даже закон божий, забивая голову молодежи мракобесием, вбитым в свое время в голову мне. Это мое самое тяжелое преступление. Но это я понял лишь в сороковом году, прочитав книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Она рассеяла идеалистический туман, застилавший мне глаза, и заставила глубже познакомиться с задачами, которые ставят перед собой большевики. Благодаря событиям сорокового года я прозрел. Мне стало ясно, что не словами можно улучшить жизнь и общественные взаимоотношения, а уничтожением источника зла — возможности наживаться чужим трудом. Я радовался, может быть, даже злорадствовал, когда у отца вместо ста гектаров земли стало тридцать. Но и это, казалось мне, было слишком много, потому что его сестра получила лишь десять. Но это не так важно. Я чувствовал себя, как путник, пробившийся сквозь чащу к открытому полю. Я удивлялся, почему я блуждал по дебрям, когда рядом была светлая, широкая дорога. И все же я не мог прийти к вам и сказать: «Дорогие товарищи, возьмите меня с собою, я ваш». Я понимал, что вы боролись, чтобы проложить эту дорогу, тайно по ночам ткали знамя свободы. Кем же был я в это время? Сыном богатого хозяина, законоучителем… Свое социальное происхождение никто изменить не может, но признаться в заблуждениях и искать правильного пути, думаю, никогда не поздно. И если вы хотите знать, почему я остался здесь, а не поехал с немцами, то посмотрите, — он указал на ящики с книгами, — оттуда я черпал силы и правду, опровергающую ложь, которую свыше трех лет распространяли немецкие и латышские гитлеровцы. Это произведения Маркса и Ленина.
— Простите, — прервал его Озол, — а каким вы представляете себе ваше участие в событиях нашего времени: пассивным или активным?
Салениек немного помолчал, потом медленно заговорил, точно каждое слово давалось ему с большим трудом:
— Это более сложная проблема. Внутренне я освободился от тени своего прошлого, но внешне она еще долго будет преследовать меня, может, всю жизнь. Признайтесь, ведь и вам приходится сомневаться: верить ли тому, что я рассказываю, или считать это компиляцией красивой лжи? Я мог бы, мне хотелось бы быть активным, но я боюсь, что меня неправильно поймут и оттолкнут, — чего, мол, лезешь непрошеный.
— А если мы вам поверим? — Озол пристально посмотрел Салениеку в глаза.
— Я был бы вам очень благодарен, — ответил Салениек, выдерживая этот взгляд. — Но сперва хочу пройти одно испытание — испытание советского гражданина. Говорят, что через некоторое время у нас будет объявлен призыв в Красную Армию. Вот это даст мне тоже возможность проложить путь к новой жизни. Тогда я почувствую твердую почву под ногами.
— Да, может быть, — Озол погрузился в раздумье. — Во всяком случае, поступайте так, как вам подсказывает совесть. Не буду пытаться уговаривать вас, хотя теперь мне очень нужен образованный человек.
Салениек не отвечал. Видно было, что он уже решился и о другой возможности не думает. Вдруг он стал внимательно вглядываться в проезжавшую по дороге подводу — человек сидел на повозке, свесив ноги, и гнал лошадь быстрой рысью. Человек и лошадь показались Озолу знакомыми, словно он их недавно где-то видел. Он напряг память и узнал Думиня.
— Куда же он торопится? — удивленно воскликнул Озол. — Только что я встретил его в лесу с возом вещей. Говорит, по обочинам дорог подобрал…
— По обочинам дорог? — переспросил Салениек и громко рассмеялся. — Он забирает их в оставленных домах. Только по этой дороге он провез уже возов десять. Наверняка ворует и по другим дорогам.
— Как? Из домов забирает вещи? — не понимал Озол.
— Все без исключения, что можно увезти. Снимает с петель окна, двери…
— Но ведь это свинство! Люди вернутся и захотят жить, где же им сразу найти двери или оконные рамы.
— Смотрите, — указал пальцем Салениек, — на этот раз он едет недалеко, завернул к усадьбе Лидумов.
— Пойдемте со мной, одернем этого ненасытного! — позвал Озол, надевая кепку.
Не успели они дойти до перекрестка, от которого проселочная дорога поворачивала к усадьбе Лидумов, как раздался резкий взрыв. Озол, по фронтовой привычке, уже было хотел прижаться к земле, но сообразил, что здесь нет никакой перестрелки, где-то взорвалась оставленная мина.
— Не в «Лидумах» ли? — предположил Салениек.
Вскоре они убедились, что в «Лидумах» в самом деле взорвалась мина. Фасад дома был разрушен. Когда они вошли во двор, то увидели еще более бедственную картину. У забора садика, сбитый волной, ничком лежал Думинь, а по ту сторону забора в предсмертной агонии барахталась и храпела гнедая лошадка; не будучи в состоянии освободиться от упряжи, она приподнималась, упираясь одной передней ногой, вторая безжизненно лежала вытянутой, видно было, что раздроблена.
— Избавим несчастное животное от мук, — сказал Озол, стараясь быть спокойным, вынул револьвер и выстрелил в ухо лошади.
— А что с Петером? — опомнился Салениек, и они поспешили к садику. Салениек уже хотел было отворить ворота, но Озол стремительно остановил его:
— Обождите, нет ли еще мины? — Он осторожно раздвинул у ворот траву и обнаружил тонкую проволоку, один конец ее был прикреплен к воротам, а другой уходил в землю. Озол осторожно отвязал проволоку и обмотал ее вокруг забора.
— Благодарите меня, что остались живы! — Озол показал Салениеку хитрое устройство. — Чуть было и меня не потащили с собой… — он не договорил.
— …в царство небесное, — добавил Салениек. — Вы бы так пошутили, если бы не вспомнили, что я был…
— …без пяти минут пастором, — закончил Озол. — Вы, в самом деле, боитесь своей тени.
У Думиня была оторвана ступня, и он потерял сознание. Когда его внесли во двор и облили водой, он открыл глаза.
Пока Салениек ходил за повозкой, чтобы увезти покалеченного Думиня, тот окончательно пришел в себя. Он мужественно переносил боль, и лишь когда услышал, что у него оторвало ступню, он побледнел и застонал:
— Ой, боже, значит, придется лечь в больницу! Кто же будет убирать яровые…
Увидев мертвую лошадь, Думинь громко запричитал:
— Господи! Какое несчастье! От немцев уберег, пол-свиньи отдал, чтобы не отобрали, а теперь погибла.
Когда подъехал Салениек и Думиня уложили на телегу, он беспокойно заворочался:
— Надо прислать Яна, чтобы шкуру с лошади содрал. Из мяса можно мыло сварить, — деловито сказал он.
Салениек повез его в военный госпиталь.
Озол медленно пошел домой. Он был потрясен не столько несчастным случаем, сколько тем, что крестьянин может ездить по усадьбам и, как говорит Салениек, забирать все, что можно увезти. В Озоле проснулось необъяснимое озлобление, словно Думинь своим поступком взвалил ему на плечи какое-то бремя, от которого он теперь не мог освободиться. Наладить жизнь в волости казалось ему столь трудным, что фронтовые тяготы по сравнению с этими были пустяками, вызывающими улыбку. Там каждый знал, что возложенную обязанность надо во что бы то ни стало выполнить, и увиливать никому даже не приходило в голову. А здесь, один говорит, что никогда никаких должностей не занимал, а потому и теперь не пойдет. Другого преследуют тени прошлого. Третьего интересует только нажива. Четвертый настолько легкомыслен, что ни на что не способен и его заранее можно «снять с учета».
В лесу Озол свернул к усадьбе Думиня. Надо сообщить жене Петера о несчастном случае. Что он еще наказывал? Ах, да, послать батрака Яна содрать шкуру с лошади. Значит, Ян Приеде, еще задолго до войны работавший у Думиня, до сих пор у него. Бессменный батрак, никогда не досаждавший хозяину. В сороковом году он даже земли себе не потребовал. Надо спросить, не хочет ли теперь сам стать хозяином? Опустевшей земле потребуется много хозяев. Но прежде всего надо найти хозяина волости. Через несколько дней нужно вернуться в уезд. А почему, собственно, Ян Приеде не может быть председателем исполкома? Честный труженик, тихий и спокойный. Возможно, слишком уж тихий, но он может измениться. До сих пор им распоряжался Думинь, но если распоряжаться будет Ян, то и научится самостоятельно думать.
Озол расправил опущенные плечи. Исчезла тяжесть, давившая на сердце. Пусть лошадь Думиня гниет вместе со шкурой, или пусть Думиниете сама с нею справляется, Ян должен заняться другими, более важными делами. Рожь уже осыпается, пшеница и овес тоже поспели, все это надо спешно спасать, складывать в копны и скирды. Фронту нужен хлеб.
4
РАЗВЕ ЭТО МОЖНО ПРОСТИТЬ?
На лугу хозяина «Смилтениешей» — Дуниса расположились около двадцати крестьянских семей, угнанных оккупантами из северной Видземе. Многие из них на своих повозках и со скотом проехали более пятидесяти километров. Здесь они томились от безделья, доили своих коров, а иногда резали барана и под открытым небом варили мясо в подвешенных над кострами котлах. Стояла удивительно Ясная и солнечная погода; лишь ночи были прохладные — первые сентябрьские утренники пощипывали лицо.
Лидумиете, чтобы не сбиться со счета проведенных в скитаниях дней, начала завязывать на шнурке узелки. Каждый узелок — длинный, тяжелый день, полный опасений за сына Эрика, который скрывался в лесу, боясь показываться вблизи большака, ибо по дороге постоянно шныряли немцы, а у Эрика документы не были в порядке. Весною его мобилизовали, но по пути на фронт он соскочил с поезда и вернулся домой. Среди бежавших был также офицер, латыш; он написал ребятам справки на немецком языке и прихлопнул какую-то печать. В бумажке, полученной Эриком, значилось, что ему предоставляется отпуск по болезни. Опасаясь пересудов соседей и преследования шуцманов, Эрик прикинулся хромым. Со времени своего возвращения домой он не брился, чтобы казаться старше своих лет. Загорелый, обросший бородой и хромой, он и на самом деле походил на старичка. Все же надо было быть настороже. Несчастье обычно приходит без предупреждения, сам натыкаешься на него там, где меньше всего ждешь. Лидумиете никак не могла простить себе того, что по ее вине случилось со старшим сыном Яном. Тот еще зимой убежал из Чехословакии или другой какой-то далекой страны и прятался в сенном сарайчике. Чтобы люди не подглядели, он наказал навещать его только тогда, когда будут ездить за сеном. Но она, дурная, все же не стерпела. Лошади уже неделю как были взяты немцами на трудовую повинность для перевозки дров. Она прикинула, сколько хлеба и прочей еды послала в последний раз Янику и высчитала, что у него не осталось ни крошки; а когда вернутся лошади — неизвестно. Уже наступили густые сумерки, когда она, сложив в корзинку съестное, побрела по свежему снегу к сарайчику. Должно быть, сам дьявол подослал на повороте дороги Саркалиса. Она чуть было не перекрестилась, завидев блестящие пуговицы шуцмана. Застыла, как жук перед опасностью, и не могла проронить ни слова, чтобы солгать, когда Саркалис стал допрашивать, куда идет, кому несет корзинку. В ту же ночь Яника увели. Говорят, расстрелять не расстреляли, но услали на фронт, на передовую. «Господи, будь с ним, убереги его от пули и смерти! Будь с нами в эти трудные часы и сохрани моих детей. Если кого-нибудь из нашей семьи захочешь посетить, то накажи меня, по материнской слепоте толкнувшую Яника в такое несчастье. Будь милостив к Алмине, радости заката дней моих…»
Уже прошли три недели и четыре дня с тех пор, как она начала завязывать узелки на шнурке. Может, прошло и больше, так как первые дни проплыли, словно в тумане. Какой это был ужас, — когда в дом ворвались жандармы, разодетые, как черти, на шее — цепи, гремящие при малейшем движении. А с ними — собаки, которые так и рвались с привязи и только ждали, чтобы их спустили на кого-нибудь. И эти злые возгласы: «Век, век, эраус!» Даже в смертный час эти выкрики будут звучать у нее в ушах. В ночной тьме, при свете фонарей, они побросали последние пожитки в повозки, привязали к возам коров и выгнали овец и свиней. Кур складывали в корзинки. Птицы кудахтали и бились. Овцы блеяли, а коровы мычали, как при пожаре. Жандармы не отходили ни на шаг, пока повозки не выехали на дорогу и не влились в огромный поток угоняемого населения. Кругом — плач и стоны! Скотина ревет, невыспавшиеся дети хнычут и зовут матерей. А по обеим сторонам дороги, гремя цепями, словно призраки, шныряют жандармы. Дом остается все дальше и дальше позади, вот уже местечко. Вдруг раздается громовой удар, от которого люди и скот валятся наземь. К небу взлетает огненный столб, какое-то большое здание загорается ярким пламенем. «Церковь, церковь горит!» — восклицает женщина на передней повозке.
— Ой! Чертовы немцы, даже церковь не постыдились взорвать! — кричит хозяйка «Кламбуров», едущая за Лидумами. Дома волостного правления и клуба взорваны и сожжены еще днем.
Лидумиете так потрясена и охвачена ужасом, что сидит на повозке, словно пораженная ударом. Ей кажется, что сейчас с неба должен грянуть страшный гром, что должна разверзнуться земля и поглотить святотатцев. Не может того быть, что господь спит и не видит, как буйствующие прислужники ада разрушают его обитель. Наказание должно последовать немедленно, на месте, а не спустя месяцы или годы. Она даже втягивает голову в плечи, боясь, что случится нечто ужасное, невиданное. Но ничего не случилось. Высокая колокольня лежит поверженная, из церкви через выбитые окна валят густые, полные огненных искр клубы дыма. Жандармы кричат, перекликаются с подрывниками; издеваясь, указывают пальцами на развалины церкви и временами стреляют в какую-нибудь отставшую, выбившуюся из сил свинью или хромую овцу. Позади, где-то далеко, гремят орудия, и, оглянувшись, можно увидеть за чернотой леса отсветы взрывов. Кажется, что земля и воздух полны ужасов и смерти, и как хорошо было бы в эту минуту умереть, чтобы не пережить еще одну такую ночь и не встретить утро.
Лидумиете неспокойно заворочалась. Три недели и четыре дня прошли после той ночи, но каждый вечер страшное огненное видение все мелькает перед ее глазами, а в ушах звучит детский плач. Она приподнимается и протягивает руку, притрагивается к Алмине. Она знает, что дочка спит тут же рядом, но ей хочется лишний раз убедиться, здесь ли она. На сердце как-то тревожно, когда она не видит или не чувствует ее.
Почему бог не покарал разрушителей дома своего?

Эта мысль не дает ей покоя. Почему он разрешил им продолжать буйствовать. Вот и в Гарупе. Там гнали всех, как сквозь строй, отнимали коров, овец, свиней, кур. Оставили каждому по коровке да по две овцы с ягнятами. Все остальное забрали, хотя и самим-то девать некуда было — не съесть же столько и не угнать. Разбрелась скотинка по лесам, кто ее теперь сыщет? Если все же суждено вернуться домой, то как начать жить? Точно погорельцы! Но тогда хотя бы соседи могли помочь: дать теленка, чтобы вырастить; овечку или поросенка можно было бы купить на базаре. Но как же быть теперь, когда все одинаково бедны? Хоть домой бы попасть, может, понемногу опять стали бы на ноги. Но за какие грехи приходится здесь томиться, ночевать, словно дикому зверю, в чистом поле? Хлеб пропадет несжатый. Останется ли еще дом цел? Пришли бы хоть поскорее красноармейцы и не дали бы немцам разрушать и жечь… «Господи, дай их оружию такую силу, чтобы они прогнали немцев!..» — шептала Лидумиете, погружаясь в сон.
Занималось ясное и прохладное утро. У опушки леса на еще не просохшем лугу, низко над травой стлался белый туман. Над ним, словно призраки, проплывали головы людей. То были молодые мужчины, проводившие дни и ночи в лесу и выходившие к своим на луг только к завтраку — так рано немцы еще не шныряли. На этот раз у котла Лидумов собралось едоков больше обычного — Эрик привел с собой двух соседских парней, мобилизованных в легион: Гуннара Каупиня и Арниса Зариня. В последних боях их рота была сильно потрепана; уцелевшим в ожидании пополнения дали отпуск. Кому — на три дня, кому — на четыре, а некоторым — на целую неделю. Эрик старался уговорить Гуннара и Арниса в легион не возвращаться, смешаться с беженцами и отстать. Они в нерешительности пожимали плечами: в лесу, мол, им нечего будет есть, они только станут обузой для остальных. С собой они взяли немного, а ведь кто знает, сколько им еще скитаться, возможно, погонят еще дальше, в самую Германию, и тогда опять будут проверять. Без документов далеко не уйдешь, только наживешь неприятностей. Немцы говорят, что скоро начнется их большое контрнаступление, будто бы изобретено какое-то новое оружие, которое в ближайшее время появится и на этом фронте.
— Что они хвастают! — гневно вспылил Эрик. — Не пройдет и недели, как немцы отсюда смажут пятки. Новое оружие! Как бы они от страха медвежьей болезнью не заболели!
— А как же ты? Останешься с красными? — широко раскрыл глаза Гуннар.
— Останусь на своей земле, — спокойно ответил Эрик.
— Да, семь футов тебе, пожалуй, оставят, — посмеялся Арнис. — Ты что, не читал «Тевии»? Не знаешь, что в Калснавах в первый же день расстреляли всех оставшихся.
— Не расстреляли ли их немцы в свой последний день, — сердито ответил Эрик.
— Тебе, наверно, безразлично, что большевики сожгли твою церковь, — проговорил Арнис, бросив злой взгляд на Эрика.
— Где это? — с любопытством спросила Лидумиете.
— Ну, нашу.
— Что болтаешь, ни одного красного не было поблизости, когда немцы взрывали ее и жгли.
— Ну, если вы не верите мне, то поверьте газете. Здесь черным по белому… — и Арнис вытащил из кармана смятый номер «Тевии».
Семья Лидумов по очереди прочла заметку о том, что красноармейцы сразу же по приходе сожгли энскую церковь. Алма отвернулась, не сказав ни слова. Эрик угрюмо усмехнулся и, сплюнув, пробурчал:
— Они могут писать даже белым по черному, я же буду верить только своим глазам.
А мать долго глядела в газету, после чего с возмущением воскликнула:
— Какая ложь, какая несусветная ложь! Если таковы эти писаки, то я теперь уж большевиков совсем не боюсь. Это все немцы сами натворили, что о большевиках пишут. — И она принялась подробно рассказывать, как их выгнали ночью. Она уже раз десять говорила об этом с соседями и каждый вечер все снова перебирала в своих мыслях. Арнис нервно мял пальцами газету и, как бы нечаянно, запалил ее об откатившуюся от костра головню.
После завтрака у костра Лидумов стали собираться и другие соседи. Первой приплыла мать шуцмана Саркалиса, придерживая подол длинной юбки, чтобы предохранить его от росы.
— Я уж смотрю, смотрю, ведь это защитники земли нашей, — затараторила она, состроив слащавую улыбку. — Ну, русских этих дальше не пускайте, иначе до осени не выгоните.
— Почему же твой сын не идет землю защищать? — сдерживая гнев, спросила Балдиниете. — Другими распоряжаться и на войну гнать — легко, а как самому идти, то становится незаменимым. — Балдиниете так злилась на шуцмана Саркалиса, что была не в силах совладать с собой, хотя и видела, как в карих глазах мамаши Саркалис загорелись зеленые огоньки. Старший сын Балдиниете убежал из легиона и прятался в баньке, но Саркалис пронюхал об этом и угнал его обратно в немецкую армию. Только недавно, в августе, немцы забирали семнадцатилетних мальчиков. Своего Ольгерта она уж ни за что не хотела отпускать и спрятала его в сарае под соломой. И опять Саркалис примчался, как собака, требуя, чтобы ему сказали, где Ольгерт. Она не сказала и после того, как шуцман навел на нее дуло винтовки. Но когда он пригрозил спалить сарай и уже зажег спичку, женщина не стерпела. Не могла же она дать умереть Ольгерту такой смертью.
— У моего сына должность намного труднее, чем быть на войне, — снова слащаво улыбнулась Саркалиене и вздохнула. — Если матери вырастили таких сыновей, которые не хотят защищать землю отцов, то кому-нибудь же надо быть «злым» и напомнить им об их долге.
— У кого же из нас больше этой земли отцов? — язвительно спросил малоземельный хозяин Гаужен.
— Чем меньше земли, тем милее она должна быть, — все так же слащаво ответила Саркалиене.
— О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих… — напевая, подошел седой, почтенного вида человек. Это был Юрис Калейс. Пятьдесят лет он прослужил чиновником, на старости купил себе усадьбу с полуразрушенными постройками, отремонтировал их, надеясь безмятежно дожить свой век. Война развалила его семью. Старший сын, вопреки строгим предупреждениям отца, в первый год Советской власти связался с корпорантской организацией, был изобличен в печатании контрреволюционных листовок и незадолго до войны выслан. Младший сын добровольно вступил в немецкую армию. В последнем письме он писал, что наскочил на свою же мину и потерял обе ноги. Где он был теперь, этого отец не знал. Дочь вышла за актера. После того, как у нее родился сын, она осталась в Риге одна. Муж бросил ее. А последний удар постиг Калейса совсем недавно, уже во время скитаний. Сгорел его дом. Эту весть принес Саркалис, который спустя несколько дней после изгнания населения ездил в свою волость посмотреть, сколько в ней осталось «ожидающих прихода большевиков». Это будто произошло случайно, видимо, какой-то солдат обронил горящую спичку. Ночью в доме Калейса расположились немецкие солдаты и изрядно выпили. Умышленно или нечаянно, но дома больше не было. Не было и сыновей. Все мысли Юриса Калейса теперь устремлялись в Ригу, к дочери, которая непременно хочет уехать, а помочь ей некому. Поэтому старшая сестра напрасно уговаривала его спрятаться вместе с нею. Он не находил покоя, тоска о детях грызла и мучила его, и, чтобы забыться, он пел. Особенно полюбилась ему песенка «О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих».
— Как вы, господин Калейс, еще можете петь? — с недоумением и упреком обратилась к нему Альвина Пакалн из «Кламбуров». — У меня сердце так неспокойно за старика отца: кто знает, где он. А если бы у меня, как у вас… мне было бы не до песен.
— Много сулила, да мало мне дала, но разве не все ли равно тра-тра-ла-ла-ла-ла, — пропел Калейс, повернувшись к Альвине, и улыбнулся, но все видели, чего ему стоила эта улыбка.
— Сколько я ни расспрашивала всех ехавших за нами беженцев, — вернулась Альвина к своей наболевшей заботе, — никто не видел нашего отца. Как мы пришли на выгон Густыня, он словно сквозь землю провалился.
— Отец твой теперь пшеницу жнет, — сказал Эрик. — Тебе хорошо, вернешься домой, а пироги, гляди, уж готовы. А у нас все вороны склюют, пока…
— Где же он жнет, на небесных нивах, что ли? — издевательски перебил его Густ Дудум, хромой, обозленный жизнью холостяк. — Должно быть, слоняясь по своим «Кламбурам», попался чекистам прямо в лапы.
— Разве такому старику чекисты что-нибудь сделают, — рассуждала Альвина. — Я боюсь — не вывихнул ли себе ногу, прыгая где-нибудь через канаву.
— А ты думаешь, что они станут спрашивать твоего отца, сколько ему лет? — усмехнулся Густ холодно и зло. — Не найдут больших преступников, повесят и таких стариков.
— Не пустые ли это разговоры, — усомнилась Альвина. — Не может же быть, чтобы хватали, кого попало, да в яму.
— Так делают только немцы! — прозвучал молодой, звонкий голос, и Густ столь стремительно повернулся на своей здоровой ноге, что хромая нога отстала, и он пошатнулся, но все же успел опереться на трость и не упасть.
— Молчи, Мирдза, — прошептал Эрик, ткнув в бок девушку. Та схватила под руку Зенту Плауде, и обе, едва сдерживая смех, отошли в сторону. Ярость Густа угасла. Он понял, что если обрушится на Мирдзу, то запугает и Зенту, — прелестную мечту заката своей жизни, — бегавшую от него, как бабочка от охотящегося за нею мальчика. Своим настойчивым ухаживанием за Зентой он был смешон и людям и самому себе, но все же не в силах был запретить своему пятидесятилетнему сердцу мечтать о молодой, цветущей девушке. Стоило ему встретить ее — на дороге, на вечеринке или в гостях, — как сердце начинало колотиться учащенно и неравномерно, лысый затылок и щеки багровели, а глаза больше ничего другого не видели, кроме темно-русых кос, обвивавших голову Зенты, кроме ее овального, бело-розового лица, голубых, необычно больших глаз под длинными ресницами и темными дугами бровей. И Густ, обычно бранивший «всяких бездельников и коммунистов», с которыми правительство якобы обращалось слишком мягко, при виде Зенты притихал, становился любезным и смущенно жевал концы своих светлых усов.
— Смотрите, как расхрабрилась моя коммунистка, — сердито кивнула Саркалиене в сторону Мирдзы, — почуяла запах своих. Мирдза, ступай к коровам, нечего шататься вокруг! — крикнула она. Девушка ушла и увела с собой Зенту.
— Тебе-то хорошо, — с нескрываемым возмущением заговорила Балдиниете. — У людей коров отняли, а у тебя вся скотина цела.
— Что же в этом хорошего, — лицемерно вздохнула Саркалиене, — много добра — много забот.
— Вот видишь, как нехорошо немцы поступают, — с насмешливым сочувствием вмешался в разговор
Гаужен. — Твой Вилюм так усердно им служит, а они возложили на тебя такое бремя.
— Кого любят, того и наказывают, — поддержал его чей-то голос.
Густ уже хотел было наброситься на Гаужена и вступиться за Саркалиене — замечания их казались ему уж слишком коммунистическими, они были направлены не только против Саркалиене, но против всех, кто в прошлом и теперь был заодно с немцами, «последним спасением от красных». Но Густ замолчал на полуслове, увидев подходивших волостного старосту Силиса, писаря Янсона и пастора общины Гребера. У двоих были озабоченные лица. Янсон был заметно пьян и глупо улыбался.
Поздоровавшись, они присели подле Саркалиене и справились о Вилюме. Тот уже увез жену с детьми и часть вещей на станцию, чтобы эвакуировать их дальше поездом. Сам же с мамашей, с остальными вещами и со скотиной поедет по направлению к Риге.
— Мы тоже поедем дальше, — вставил Янсон.
— Разве большевики опять наседают? — с опаской спросил Густ.
— Наседать-то наседают, — уклончиво ответил Силис, — но наши дерутся, как звери. Уложили еще десять красных дивизий.
— Откуда у русских берется столько людей? — наивно удивилась Лидумиете. — Каждый день только тут укладывают по десять дивизий, а разве в других местах не воюют?
— Наши отступают по плану, — пояснил Силис. — Уж они-то знают, как далеко следует заманить русских и где сказать им «стоп!» Сил у русских больше нет. Вот, например, за Гауей — по пальцам можно пересчитать, где в какой ямке сидит у них по солдату.
— По дивизии, — поправил Гаужен. — Иначе немцы бы не могли так много уложить.
Силис сделал вид, что не слышал.
— «О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих», — запел Калейс и встал. По физиономиям должностных лиц он догадался о серьезности положения и не хотел терять ни минуты. Он должен был попасть в Ригу, к дочери, иначе потеряет и ее, свою последнюю радость, и останется один, как ствол дуба, у которого обрублены все ветви. Не желая задерживаться, он ни с кем не стал прощаться. Узлы с одеждой он бросил, чтобы легче было идти. Пройдя порядочное расстояние в сторону станции, он все же вернулся — надо было взять кое-что из продуктов, кто знает, есть ли у Интини и маленького Юрита что кушать. Ему было больно видеть, как хозяйки выливали снятое молоко или поили им коров, ведь у Юрита, возможно, не было даже молочной сыворотки. Он пойдет на станцию и попытается, хоть на буферах, добраться до Риги.
— Здесь много моих прихожан, — кашлянув, торжественно начал Гребер. — Некоторые собираются ехать дальше. Неизвестно, когда встретимся снова. Вы знаете, что нашей любимой церкви больше нет. Большевики, для которых нет ничего святого, сожгли ее.
Лидумиете, пораженная, разинула рот. Кому он это рассказывает? Для чего? Почему никто не возражает? Все ведь видели, как это было.
— Поэтому я думаю, — продолжал Гребер, — отслужим молебен в большом храме природы, здесь же под открытым небом. Будем просить, чтобы небо помогло оружию великой Германии…
Люди медленно встали. Мужчины вяло, нехотя сняли шапки. Гребер велел спеть псалом «Господь, ты наша твердыня». У Лидумиете, всегда хорошо певшей в церкви, словно сухой кусок застрял в горле. Она, правда, раскрывала рот, но не могла подладиться к Саркалиене, которая сперва затянула низко, потом взяла чрезмерно высоко и, не выдержав, снова снизила голос.
Затем Гребер начал проповедь: «Господь, покарай нас, но не слишком сурово…»
Эрик незаметно удалился: он беспокоился за Мирдзу. Саркалисы собирались ехать дальше и могли увезти девушку с собой. Он встретил ее у опушки леса, где она пасла коров.
— Мирдза, тебе надо спрятаться, — сказал он, переводя дух: утомительно было притворяться хромым и, кроме того, он волновался, оставшись с Мирдзой наедине.
— Почему? — спросила она, вставая. — Разве Саркалиене собирается натравить на меня своего Вилюма?
— Этого я не знаю, но сегодня они поедут дальше, по направлению к Риге, возможно и в Германию. Тебе надо бы остаться здесь… — запинался он.
— Почему мне н у ж н о остаться здесь? — дразнила Мирдза Эрика, наивно глядя на него широко раскрытыми глазами.
— Да, ну… тебе ведь надо остаться здесь. Вместе поедем обратно домой… Может, твой отец вернулся. — Лицо Эрика стало более уверенным. Мирдзе в самом деле надо ждать возвращения отца, и хотя бы только поэтому она не может ехать.
— Куда же мне спрятаться, Эрик? — спросила она, став серьезной.
— Пойдем со мной, — позвал Эрик. Он уже заранее приготовил план, на случай, если подойдет Красная Армия и немцы погонят выселенцев дальше. В лесу, под кучей хвороста, он выкопал яму на четверых — для себя, матери, сестры и Мирдзы. Скотину и повозки он бросил бы. Пусть пропадают, уж как-нибудь наживут снова: нельзя же дать угнать себя в Германию. Он очень сожалел, что еще до того, как их заставили уйти из дома, не убежал в лес, ведь видел же он на большаке потоки выгнанных из восточных волостей. Но человек по своей природе безрассуден — пока ему самому нож к горлу не приставят, не верит, что так может и с ним приключиться. Ни матери, ни сестре он еще не говорил о своем намерении, опасаясь, что они не захотят бросить еще оставшуюся у них корову и овец.
— Хорошо, Эрик, — быстро решилась Мирдза. — Но что делать с коровами?
— Пусть сами пасутся. Если разбредутся, то Вилюм их выследит. Он на это мастер.
Из-за Мирдзы и коров у Саркалисов получилась задержка. После обеда Вилюм вернулся со станции встревоженный. Ничего не объясняя, он велел матери погрузить на повозку котелки, позвать Мирдзу со скотиной и спешно отправиться в путь. Распорядившись, он побежал к волостному старшине и нашел его сидящим вместе с Янсоном и Гребером под ольховым кустом за бутылкой самогона.
— Совсем обалдели! — воскликнул Вилюм приглушенным голосом. — Нашли время пить. Мы не можем задерживаться ни минуты. Под Валкой беспрерывно идут бои. Если русские прорвут фронт, мы окажемся в мешке.
Силис развел руками и опрокинул бутылку. Самогон, булькая, потек на траву и пролился бы весь, если бы Янсон не подхватил бутылку. Он поднял ее на уровень глаз, прикинул, сколько в ней еще осталось, дрожащей рукой нащупал на земле пробку, заткнул и сунул бутылку в карман.
— Я встретил штурмфюрера, — пояснил Вилюм. — Он говорит, что этой ночью решится. Говорит: мы сидим, как на горячих углях. Вдруг может прийти приказ оторваться. Пускать гражданское население по дорогам впереди себя мы уже не можем. Если кто хочет спастись, пусть попытается сейчас же. Но это относится только к особым лицам. Как далеко они смогут уйти, он не знает. Посоветовал мне ехать этим поездом, — может быть, он последний. Но как же я могу — мать и скотина останутся здесь. Нельзя же допустить, чтобы старушку посадили на кол.
— Не бойся. Где ж взять такой кол, чтоб выдержал твою мамашу, — съязвил Гаужен, шедший мимо и услыхавший последнюю фразу.
— Ах ты, вошь! — прошипел Вилюм сквозь зубы. — Ползаешь по кустам и подслушиваешь.
— Что ж поделаешь; у леса — уши, у поля — глаза, — усмехнулся Гаужен. — Искал местечка поукромнее, а тут господа.
Новость, так встревожившую Саркалиса и Силиса, Гаужен сообщил соседям.
— Ах, боже, может, наконец-то попадем домой, — вздохнула Лидумиете. — Надоело валяться под кустами, словно цыганам.
За каких-нибудь полчаса эта весть облетела весь луг. Матери наказывали детям не уходить далеко от повозок, скоро поедут домой.
— Домой! Мамочка, мы поедем домой, — ликовала Дзидра Пакалн, услышав разговоры. — Поедем к дедушке. И обрадуется же киска, когда увидит меня.
— Ты больше обрадуешься киске, чем она тебе, — улыбнулась мать.
— Мама, разве отсюда до дома так же далеко, как от дома до этого места? — допытывалась Дзидра.
— Нет, доченька, до дома всегда ближе, — ответила мать.
— А не можем мы сходить посмотреть? Хочу видеть, цветет ли еще мой цветок. Отнесем киске молочка. Мне хочется домой! — Дзидра стала нетерпеливой.
— Еще нельзя, доченька! — успокаивала мать. — Немцы еще не пускают.
— А когда они пустят?
— Вот когда Красная Армия их прогонит, — сказала мать и осеклась, увидев приближавшихся легионеров Арниса и Гуннара. — Пойди, присмотри за коровкой, — добавила она. Парни шли медленно и задумчиво. Альвина предложила им молока. Но оба отказались.
— Что, ребята, головы повесили? — спросила она для того, чтобы начать разговор.
— С отпуском у нас ничего не получается, — ответил Арнис угрюмо. — Опять вперед двигаться надо.
— Зачем вперед, поедемте обратно! Я вам дам одежду моего мужа.
— Да, не знаешь, как быть, — Арнис сплюнул. — Документов нет: заберут еще как пленного и будешь висеть на сосне с опаленным боком. Помнишь, что писал во фронтовой газете военный корреспондент Целминь.
Гуннар устало отмахнулся:
— Мало ли что он писал, а что он сам же рассказывал Эдису Рудзиту? Немцы подпалили труп легионера и показывали его, чтобы ребята лучше дрались.
— Рудзиту, Рудзиту, — с насмешкой сказал Арнис. — Тот бы сам перебежал, если бы только мог. Двум парням поручено следить за ним.
Они ушли, но немного погодя Гуннар вернулся, попросил у Альбины одежду и ушел в лес.
С другого конца луга доносились сердитые крики, Саркалиене бранилась:
— Ну, куда же запропастилась эта бездельница? Вся скотина разбрелась! Уж покажу я ей! С парнями шляется. Мирдза, выйдешь ты из леса? Собирай скотину, поедем!
Но Мирдзы не было, и Саркалиене, не переставая ругать ее, сама сгоняла скот. На помощь пришли Вилюм, Силис и Янсон. Коров наконец удалось собрать вокруг готовых к отъезду повозок.
Собрались и Силисы. У Янсона и Гребера лошадей не было. Они положили свои узелки на повозку Силиса. Саркалиене все сновала среди выселенцев, расспрашивая о Мирдзе.
— Подумайте, как же я одна управлюсь с таким стадом? — жаловалась она каждому, готовому выслушать ее. — Если бы невестка не уехала! Вот бездельница, вот бездельница эта Мирдза, прямо хоть плачь. Уж больно храбры они нынче стали, никого не боятся. Я и Вилюму говорю — не к добру это.
А Вилюм в свою очередь искал мать. На его лице можно было прочесть затаенную угрозу — он понимал, что игра проиграна, но не хотел покориться. Он ходил среди людей, стиснув зубы, рыжеватые волосы выбивались из-под шуцмановской фуражки. Свою темно-рыжую бороду он не брил уже много дней. Зеленоватые его глаза никому не смотрели прямо в лицо.
Было уже одиннадцать часов, когда повозки Саркалисов и Силисов с привязанными животными вытянулись на большак. Саркалиене сидела высоко на последней повозке и, оборачиваясь, успокаивала скотину, которая рвалась и мычала на привязи. Они вынуждены были держаться обочины дороги, так как по середине неслись автомашины немецкой армии; впереди — легковые с офицерами в блестящих мундирах, а за ними — грузовики с ящиками и мешками с продуктами и боеприпасами. Позади стреляли орудия. Вскоре дорогу запрудили автомашины, битком набитые пехотой. Машины мчались с бешеной скоростью, стремясь обогнать друг друга. Коровы Саркалисов в испуге рванулись в сторону и повернули телегу с лошадью поперек дороги. Грузовик, уступая путь обгонявшей его машине, врезался в повозку Саркалиене. Раздались крики и грохот, повозка опрокинулась со сломанным колесом. Саркалиене слетела в канаву, лошадь барахталась на земле, в отчаянии храпя и пытаясь освободиться от упряжи. Коровы попадали на колени и рвали прикрепленную к рогам привязь.
В общей сутолоке и шуме моторов, в большой трагедии разгрома эта маленькая трагедия Саркалиене казалась столь незначительной, что восхваляемые некоторыми за рыцарство немецкие офицеры и солдаты даже не сочли нужным уменьшить скорость своего «движения на отрыв» и помочь старой женщине, вырастившей им столь услужливого сына.
Вилюм вскоре понял, что за стихийной лавиной отступающих невозможно угнаться, и свернул на первую попавшуюся проселочную дорогу. Остальные последовали за ним. Оттуда они смотрели, как отступает армия, безжалостно оставляя на милость судьбы и народа своих приспешников, пресмыкавшихся перед ними в течение трех лет.
Не видя повозки с матерью, Вилюм пошел ее искать. Каким-то чудом и у матери, и у лошади, и у коров уцелели все кости. Отвязанные животные перескочили через канаву, из которой уже выбиралась их хозяйка.
Четверо мужчин держали военный совет.
— Через несколько часов большевики будут здесь, — угрюмо сообщил Вилюм.
— Будет благоразумнее, если ты скинешь форму шуцмана, — заметил Гребер. — Они ведь тебя не знают, примут за обычного беженца.
— Форму-то я сниму, но борьбу против красных буду продолжать! — патетически воскликнул Вилюм. — Настоящие латыши уйдут в леса и будут стрелять из кустов.
— А что будут делать женщины? — с опаской спросил Силис.
— Женщины пусть едут домой. На самом деле не так уж все страшно, как мы рассказывали, — Вилюм скривил лицо в гримасу. — У нас остались в тылу осведомители. Они передают, что ни одной семьи никакой черт не трогает. Женщины должны лишь держать язык за зубами. Пусть скажут, что немцы нас в последнюю минуту мобилизовали, — и все.
— А что мне делать с волостными бумагами и печатью? — растерянно пролепетал Силис.
— Что делать? — Вилюм щелкнул пальцами. — Бланки паспортов у тебя есть? Янсон сделает для нас паспорта. Скажем, я буду Альбертом Сарканбардисом, Силис превратится в Карла… Ну, скажем… э, пиши: Карл Карклинь. Гребер будет Грабулисом. Янсон сам может придумать себе имя.
Янсон заполнил бланк паспорта Саркалису, затем Силису и Греберу, прихлопнул печать, и они превратились в Сарканбардиса, Карклиня и Гарбулиса. Он взял еще один бланк и стал придумывать себе имя. Как назвать себя? Э, не все ли равно! Напишет какое-нибудь имя и перестанет быть Артуром Янсоном. Превратится в бродягу без дома, без семьи… Вернется Эльза и поселится на старой квартире, а он не сможет даже к ней прийти. Эльза… как она могла так исчезнуть, не простившись, ничего не сказав. Уехала в Ригу и не вернулась. Даже письма не оставила. Как могла она уйти, бросить его одного? От кого она бежала? Он сумел бы защитить ее — у него связи, репутация солидного человека. До сих пор он не мог привыкнуть к жизни без нее — единственной, прелестной, незабвенной. Ни одной вещички в ее комнате не тронул, даже раскрытая книга «Как закалялась сталь» все эти годы пролежала на столике. С наступлением сумерек он заходил туда, как в склеп, ласково прикасался рукою к незаконченному рукоделию, лежавшему в корзинке, гладил вазу, в которой шелестели высохшие цветы жасмина. Все это осталось с того лета, когда она исчезла. При мысли, что Эльза, может быть, умерла и больше не вернется, ему становилось страшно. После каждого такого паломничества — как он называл посещение комнаты Эльзы — Янсон всегда напивался, зачастую до потери сознания. Теперь, когда Эльза, возможно, уже близко и может через несколько дней или недель вернуться, он должен исчезнуть и потерять ее навсегда. А что если Эльза сейчас спешит, идет пешком издалека, чтобы возобновить прежнюю жизнь; встретит его, бросится к нему в объятия и станет целовать, целовать… Но перед ним бланк паспорта, в него нужно вписать чужое имя, и он больше не будет Артуром, Арицисом, Арцитом…
Янсон оглянулся. Саркалис и Силис отошли к своим повозкам и копались в мешках с одеждой. Он вытащил из кармана бутылку самогона, поднес ко рту и одним глотком осушил ее до дна. Самогон был противен, но тянуло выпить еще. Увидев, что Силис и Саркалис уходят в кусты, должно быть, переодеться, он подбежал к жене Силиса и выклянчил еще бутылку. Янсон не хотел напиться, он лишь хотел приглушить безумную, тупую боль, все больше и больше распиравшую сердце, которому становилось тесно в груди.
Когда Саркалис и Силис вышли из кустов, они увидали, что Янсон лежит, погрузившись в дремоту. Рядом валялись две пустые бутылки, волостная печать и бланк паспорта.
— Ну, что с ним будешь делать? — развел Силис руками.
— Мямля, — выругался Саркалис. — Такой в лесу будет только обузой. Бросим его на повозку, пусть едет домой. Если его не сошлют в Сибирь, то он у нас еще попляшет. А может, он так нам больше пригодится.
На шоссе колонны немецких автомашин начали редеть. Все же по шоссе возвращаться нельзя было… Вскоре могли показаться красноармейцы. Решили ехать проселками. Обоз должна была возглавить Силисиене. На две другие повозки посадили по ребенку, на первой повозке Саркалиса никто не сидел, на вторую взвалили Янсона, на последнюю опять взобралась Саркалиене, Вилюм поучал женщин и детей, что говорить и как вести себя.
— Мы ведь не навсегда расстаемся, — успокаивал Вилюм жену Силиса, всхлипнувшую при прощании с мужем. — Немцы скоро вернутся. А мы будем у себя дома раньше их. Вы только примечайте друзей большевиков, а мы их вот так! — он провел пальцем вокруг шеи, затем показал вверх. — Если встретите Арниса Зариня, скажите, что мы несколько часов будем ждать его в лесу, за белым домом с красной крышей.
На рассвете обоз вернулся на луг Дуниса. Передовые советские части уже продвигались по большаку. Солдаты советовали подождать следующего дня, чтобы не мешать движению наступающих войск, предупреждали, чтобы не сворачивали с дорог, так как разминированы пока только обочины. Советовали быть осторожными и в своих домах, когда будут открывать двери или окна, — могут произойти взрывы.
Вечером люди постарше укладывались на покой со вздохом облегчения — последняя ночь в телеге или под открытым небом. Пусть им за один день и не добраться до дому, но по пути домой можно переспать и на камне. Молодежь собралась на опушке леса и затеяла танцы. К ней присоединились красноармейцы, запевшие веселую плясовую.
Алма Лидум лежала под навесом сарая рядом с матерью. Она никак не могла заснуть, ноги так и просились потанцевать. Вечер был такой радостный — последний вечер скитаний, а завтра — дорога приведет к дому. Разве можно спать в такую ночь, когда хочется радоваться, резвиться, быть молодой? Но мать не пустила ее на опушку леса, к молодежи, жалуясь, что не может спокойно спать, если Алмы нет рядом. Жаль было матери, но сердце колотилось, не давало уснуть.
Алма услышала далеко на западе выстрел, услышала вой мины, затем сильный удар и ужасный взрыв. Больше она уже ничего не услышала. В грудь ударило что-то твердое и острое, в лицо брызнула густая липкая жидкость. Веки закрылись, чтобы никогда больше не открыться.
Взрыв оглушил весь лагерь. Только немного спустя раздались крики перепуганных женщин и детей. Лидумиете приподнялась, потрогала Алминю. Слава богу, спит рядом, тихо и спокойно, наверно, с перепугу.
— Немцы благодарят нас за масло и шпик, — услышала Лидумиете в темноте голос Гаужена.
— Как ты можешь шутить, еще немного и… — упрекнула она. — У меня со страха во рту пересохло. Алминя, дочка, дай водички — кувшин рядом с тобой.
Алма не отвечала, даже не шевельнулась.
Мать недоумевала: как можно так спать, что и пушкой не разбудить?
— Ал… Алминя! — страшнее взрыва тишину пронзил полный отчаяния крик Лидумиете. Она нащупала руку Алмини, холодную, безжизненную, и мгновенно поняла, что между нею и дочерью стала смерть.
Новый вой и взрыв потрясли воздух, землю и человеческий рассудок. Среди криков и стонов громче всех звучал голос Саркалиене.
— Боже, мою коровку убило! Ой, ой!
Красноармейцы вскочили, посоветовали сейчас же ехать по направлению к дому. Немцы, зная, что здесь расположились беженцы, решили, видимо, вызвать панику и не удовлетворятся несколькими минами.
Эрик пошел разыскивать мать и сестру. Мать сидела, обхватив голову руками, покачивалась и причитала:
— Дьяволы, дьяволы!.. мою доченьку… мою единственную… Пусть высохнет грудь матери, вскормившей таких чудовищ. О, дьяволы, дьяволы!
Эрик испугался — не лишилась ли мать рассудка. Опустившись на колени, начал ее успокаивать, но она упала лицом Алме на грудь и так пронзительно зарыдала, что он скорее догадался, чем увидел, что произошло. Он с трудом оторвал мать от трупа сестры и стал настойчиво уговаривать ее уехать, если хочет спастись.
— Не хочу! Пусть и меня убьет тут же. О, господи, если у тебя не камень вместо сердца, то срази меня молнией! — кричала она.
— Успокойся, мать, — умолял Эрик. — Ведь мне и Яну ты тоже нужна.
— Яник, сын мой, где теперь покоятся твои кости? — Напоминание о сыне, который, казалось, уже был потерян, вызвало новый приступ боли.
Только когда все выехали на большак, Эрику удалось немного успокоить мать, и та разыскала одеяло, чтобы завернуть Алму. Гаужен и Мирдза помогли ему положить на повозку доски, застелить их сеном и простынями и уложить тело.
Медленно, словно похоронная процессия, беженцы двигались домой. На лугу, где был их лагерь, бушевала огненная буря. Рвались мины, в воздухе шипело и грохотало. Вспыхнул пожар — горел сенной сарай, в прохладные ночи и дождливые дни дававший приют детям и больным. Пламя, словно страшный гигантский факел, освещало похоронную процессию, в которой, вопреки обычаю, покойника везли без гроба и на последней подводе. Навстречу шли колонны красноармейцев. Они весело приветствовали ехавших на первых повозках, но узнав о происшедшем, притихали.
Беженцы сделали привал, чтобы позавтракать и дать отдохнуть лошадям и чего-нибудь поесть самим. Пускать скотину на луг пастись было опасно, поэтому женщины, нарвав на обочине дороги запыленной травы, кормили коров из рук. Труднее, чем остальным, пришлось Саркалиене, к ней тянулось шесть морд — как же тут управиться.
— Мирдзиня, дочка, — заискивающе обратилась она к своей бывшей батрачке. — Возьми косу с повозки и накоси травки. Смотри, какая там хорошая отава.
— Я ваших коров больше кормить не стану, — ответила Мирдза. — Кончилось мое рабство.
Саркалиене сверкнула глазами, но сама косить не пошла. На лугу могли быть мины, и не рисковать же, упаси боже, из-за скотины жизнью.
С овцами и ягнятами никто не мог совладать. Они перескочили через канаву и бросились к отаве. Изголодавшиеся, они щипали траву и не шли на зов своих хозяек. Пора было отправляться в путь. Чтобы не задерживаться, Гаужен натравил на них собаку. Овцы понеслись обратно на большак, только старая овца Пакалнов упрямо оставалась на лугу и, став в боевую позу, замахнулась на собаку передней ногой. И надо же было тому случиться, — все это видели, но никто не спохватился остановить ребенка, — через канаву перебралась маленькая девочка, это была Дзидра, и побежала мелкими быстрыми шажками, чтобы пригнать непослушную овцу. В воздух взлетел столб пламени и дыма, оглушительный взрыв потряс землю. Когда люди опомнились, они прежде всего взглянули на луг. Посреди зеленой отавы зияла черная яма, а на краю ее билась в предсмертной агонии Дзидра. Не думая об опасности, которая еще могла таиться в земле, несколько мужчин бросилось к ребенку. Матери, потерявшей дар речи, они смогли передать лишь безжизненное тело девочки.
На следующее утро белая лошадь привезла в «Кламбуры» повозку, на которой сидела постаревшая женщина с ребенком на коленях. К повозке была привязана корова, а позади шел мужчина. Ни у кого из них в глазах не было радости возвращения. Она не заискрилась и тогда, когда дедушка, старый Пакалн, завидев и узнав едущих, бросил косу и поспешил к ним навстречу.
— Значит, вернулись! — кричал он еще издалека. — И моя внучка тоже. Ну, и радость же будет ей, киска маленьких принесла… — он сразу замолчал, увидев окаменелые лица снохи и сына.
— Прими, отец, — произнес усталым голосом молодой Пакалн, подходя к повозке, чтобы взять ребенка из рук матери.
Старик взял на руки внучку. Долго, не веря своим глазам, он смотрел ей в лицо, пока, словно во сне, не услышал голос сына:
— Понесем в клеть, там прохладнее.
Сын хотел помочь нести, но дедушка не позволил. Бережно, как самую драгоценную ношу, он понес свою любимицу через двор в клеть и положил на постель. Он стоял перед ней и, не отрываясь, смотрел на бледное, обрамленное светлыми кудрями личико, пока из его глаз не покатились две крупные слезы. Медленно покачивая седой головой, старик прошептал:
— Разве это можно простить?
5
ОПУСТОШЕННЫЕ ГНЕЗДА
Перед возвращением угнанных жителей красноармейцы успели разминировать лишь ту часть волости, которая была освобождена еще до начала большого наступления. Теперь же они проверяли только что оставленную немцами местность; мин было так много, что в одном только местечке, на улицах и в домах, их извлекли уже несколько тысяч.
Когда Густ Дудум, вместе с семьей сестры, уже много лет батрачившей на его полях, свернул на дорогу к своему дому, он увидел трех красноармейцев с миноискателями, приближавшихся с другой стороны.
— Красные мародеры! — прошипел он. — Ходят и разнюхивают зарытое добро. Видишь, какие вилы смастерили, вещи накалывать.
Красноармейцы, увидев приближавшихся хозяев, приветливо улыбнулись и остановились во дворе, поджидая их. Густ на их улыбку не ответил. У сестры Густа, вдовы Эммы Сиетниек, при виде красноармейцев с диковинными вилами перед глазами мгновенно промелькнули все описанные «Тевией» ужасы: она даже было почувствовала, как в ее тело вонзаются острые вилы.
«Уж лучше бы я на мину наскочила, как Дзидриня Пакалнов, — подумала она. — Все же более легкая смерть…»
В ответ на приветствие красноармейцев Густ что-то невнятно пробурчал, Эмма тоже едва слышно что-то прошептала.
— Хозяева, наверно, издалека вернулись, устали? — спросил один из красноармейцев, что был постарше.
— Да. А чего вы тут ищете? — сказал Густ, приосанившись.
— Ищем оставленные немцами «айеры»
[2], — улыбнулся молодой красноармеец.
— Вон что? Боитесь, чтобы латышу не достались? — зло ухмыльнулся Густ.
— Стараемся, как можем, чтобы латышам это добро не досталось, — пошутил в ответ красноармеец. — Петя, проверим дом, чтоб хозяева могли отдохнуть.
Густ хотел было броситься к дверям, но один из красноармейцев преградил ему дорогу.
— Погодите, мы еще не успели разминировать, — раздраженно воскликнул он.
Первую мину извлекли из-под крыльца. Другие были заложены под окнами, с расчетом, что взорвутся, когда откроют окна. Только когда вокруг дома все было тщательно проверено миноискателем, саперы открыли дверь. Густ ходил за ними по пятам, словно немцы могли оставить в доме невесть какие ценности, а саперы покусились бы их забрать. Войдя в комнату, они увидели омерзительное зрелище. В нос ударило зловоние от валявшейся в углу квашни. Отвратительнее всего было то, что немцы, злобно издеваясь, нагадили также в тарелку и поставили ее на стол.
У молодого красноармейца от сдерживаемого смеха передернулись губы, но тот, что был постарше и которого на дворе назвали Петей, серьезно покачал головой и спросил Густа:
— Должно быть, вы здорово насолили немцам? Иначе зачем же они стали бы над вами так издеваться?
Густу стало неловко. Ему очень хотелось колкой фразой дать понять красноармейцам, что немцы культурнее их, но испоганенный стол говорил совсем другое: «Ты, латыш, для нас свинья».
Наконец Эмма тоже осмелилась перешагнуть порог. От вони и противного зрелища у нее захватило дыхание. Она хотела выбежать к оставшимся на повозке детям, но, увидев свою квашню, закричала с таким искренним возмущением и укором в голосе, что, хотя это было сказано по-латышски, ее поняли и красноармейцы:
— Вот скоты, вот скоты, не нашли другого места, где оправляться!
Обезвредив в доме и вокруг него до десятка мин, красноармейцы, пошутив с детьми, простились.
Эмма долго смотрела им вслед, пока они шли к следующему дому; старший шел немного сутулясь, а молодые о чем-то переговаривались и покачивали головами.
— Знаешь, Густ, — задумчиво сказала она, — вначале я страшно боялась этих большевиков. Чего только о них не писали и не говорили. Ты сам каждый день рассказывал ужасные вещи. Но совсем не видно, чтобы они собирались вырывать ногти и выжигать звезды на лбу. Даже с детьми поиграли. Кто любит детей, не может быть плохим человеком.
— Пой, пой, — презрительно пробурчал Густ. — Но не забывай, что это первая партия. Потом придет вторая. Те будут говорить по-латышски и тоже не тронут. Но только соберешь осенью урожай, как заявятся эти косоглазые. Тогда ты иначе запоешь.
— А ты видел, как они вынули все эти адские машины, — не сдавалась Эмма. — Столько мин, всех бы нас перебило.
— Это они берегут людей для мобилизации в свою армию, — злобно отрубил Густ. — А то откуда им брать силы против нового немецкого оружия?
— Густ, Густ, — упрекнула его Эмма, — тебе люди добро делают, а ты…
— Лучше вычисти комнату, — примирительно сказал Густ. — Хотя эту ночь все равно придется спать в сарае. Пусть за ночь запах выветрится.
— Это твои друзья напакостили, — возмущалась Эмма. — Здесь они пили и ели, здесь же ты с ними ворковал — «герр офицер», «герр офицер», — теперь видишь, как они тебе отплатили.
— Ну, это ведь не те, что тогда у нас останавливались, — пытался брат возразить сестре. — После них пришли другие части, и не могли же они знать…
— Кто бы ни были, — не унималась Эмма, — разве образованный человек так себя ведет! Все время только и гоготали — культура, культура, новый порядок. Вот он, этот новый порядок! Квашня и столовая посуда вместо ночного горшка… Тьфу!
— Ну, ну, сама-то не шуми так много, — рассердился Густ не на шутку. — Раскудахталась, словно курица. И никак не уймешься. А ты думала — они оставят русским все чистенькое? Сжечь надо было, когда мы уходили. Чтобы камня на камне не осталось.
— Ты что, в своем уме! — рассердилась и Эмма. — Куда бы ты теперь сам делся?
— Все равно. Под папоротником бы жил, а им бы не досталось.
«Ей-богу, он и в самом деле свой ум под папоротником оставил!» — едва не вырвалось у Эммы, но она сдержалась. Такого упрямца все равно не переубедишь. «Вот дам самому поесть из этой тарелки», — мысленно решила она.
Девочка попросила пить. Эмма отвязала от повозки ведро и пошла было к колодцу зачерпнуть воды.
— Погоди, — воскликнул Густ и заковылял за нею. — Эту воду пить нельзя. Перед отъездом я бросил туда собаку. Тогда так учили газеты, — смущенно оправдывался он.
Балдиниете повернула на проселочную дорогу, по которой было ближе ехать к дому, и вдруг почувствовала, как на ее плечи ложится тяжелое бремя. Пока ехала вместе с другими беженцами, то за разговорами было как-то легче. У всех были одни и те же заботы, каждый думал об одном и том же — попадут ли когда-нибудь домой, каждый не досчитывался кого-нибудь из близких — сына или мужа, и ее горе — потеря двух сыновей, как бы вливалось в общий поток несчастий. Но теперь, когда Балдиниете осталась одна, тоска тянулась за нею, как туго скрученная нитка, и плотным клубком наматывалась на сердце. Что она теперь будет делать дома, одинокая, как пень, у которого обрублены побеги? День еще как-нибудь пройдет, будет много работы, хлеб еще не убран, но настанет долгая ночь, за окном будет завывать ветер и скрипеть старая яблоня… Когда Лаймон и Ольгерт были дома, осенние вечера казались такими приятными. Ну и негодяй этот Вилюм Саркалис… Разве латышу надо было стать такой собакой, отдать немцам в лапы ее сыновей? Где они теперь? Живы ли, или лежат где-нибудь на чужой стороне, без могилы, без цветка? Это горе кололо сердце, как острый вертел, но она знала, что его нельзя вытащить, нельзя притупить. Она не слышала, но чувствовала, как кричит сердце, кричит громко и неутешно. Словно откликаясь на эти вопли, с губ слетел протяжный стон.
Балдиниете увидела, что перед ней на другую дорогу сворачивает повозка с людьми. Вот удивительно, как это она ехала, словно в тумане, и не заметила их раньше. А может, они отдыхали у дороги и теперь поехали дальше. Она хотела подстегнуть лошадку, чтобы догнать попутчиков и не ехать одной, но вспомнила, что коровка устала и не сможет поспеть. Пусть себе едут, ей нужно привыкать к одиночеству, к злой боли в груди. От нее все равно никуда не денешься, как быстро бы ты ни ехала. Там, впереди, ведь тоже были чужие люди, наверное, угнанные немцами из России. На повозке сидели мужчина и женщина, двое мальчиков в ватных стеганках погоняли корову, которая то и дело сворачивала в сторону, чтобы ухватить пучок травы. Мальчик, что повзрослев, подхватил меньшего под мышки и хотел посадить на повозку, но малыш стал сопротивляться, бить старшего и дергать его за волосы, пока тот не спустил его наземь. Несколько минут они возились на обочине дороги, родители, очевидно, не заметили этого, уехали вперед и свернули на ответвление дороги.
Вдруг произошло нечто такое, чего Балдиниете в первое мгновение не могла постичь. Прогремел оглушительный взрыв, над кустами взлетело облако дыма и песка. Мальчики вскочили, побежали вперед и исчезли за поворотом. Затем наступила тишина, и тем ужаснее был раздавшийся детский плач и полный отчаяния крик: «Мама! Мама!»
«Почему же это так, — мелькнула у Балдиниете посторонняя мысль, — ребенок в минуту опасности всегда зовет мать? Ведь отец мог бы лучше защитить. Может, мой Ольгерт тоже звал меня, когда…» — она, хотя и испытывала материнскую гордость, побоялась додумать мысль до конца, ибо ее страшило окончание этой мысли: за недоговоренным «когда» мелькнул облик смерти.
Вдруг из-за поворота дороги ей навстречу выбежали оба мальчика. Старший, лет восьми, беспрестанно кричал по-русски: «Тетенька, тетенька, мама и папа пропали! Пропали! Пропали!» А меньший только плакал, все громче по мере того, как удалялся старший. Балдиниете соскочила с повозки, бросилась к мальчикам, крича переднему: «Ты обожди братишку, не беги так быстро!» Но он уже подбежал к ней, обхватил ее и, не унимаясь, кричал: «Пропали! Пропали!» Она хотела поспешить к малышу, который семенил по дороге и рукавом вытирал слезы, но старший вцепился в нее словно клещами, она чувствовала, как его ноготки через одежду впивались в ее тело.

С трудом подбирая русские слова, она успокаивала, детей. Опустившись на придорожный камень, она посадила на колени и крепко прижала к себе обоих дрожавших ребят.
— Найдем мамочку, найдем, — повторяла она, не зная, как лучше утешить детей.
— Как тебя звать? — спросила она старшего, когда тот умолк.
— Володей, — ответил тот.
— А братишку?
— Ваней.
— Ну вот, Володя и Ваня, вы посидите, присмотрите за моей лошадкой и коровкой, а я пойду, поищу папу и маму.
Мальчики сразу соскочили с ее колен, один стал около лошади, другой — ближе к корове. Балдиниете пошла к месту взрыва, но если бы знала, что там увидит, ни за что не пошла бы. Это было страшнее, чем смотреть на убитого человека, истекающего кровью, даже страшнее того, как погибли Алма Лидум и Дзидриня. Она не увидела людей, хотя раньше их было двое, не увидела лошади, хотя была лошадь. Зияла лишь глубокая черная яма, а поодаль валялась рука женщины, безжизненно простертая, с откинутой кверху шершавой от работы ладонью. И еще увидела она — торчит лошадиная голова, шея которой будто вогнана в землю, рядом с нею — мужская нога в сапоге. Кругом — изодранные клочки одежды и рассыпавшееся зерно, далеко за канаву отброшено колесо от телеги. Это было все, что осталось от двух человек; когда-то они жили в своем доме, но их угнали сюда, и они ютились по чужим углам; в одном месте их принимали приветливо, в другом лишь терпели, а в третьем презирали и бранили. Теперь они спешили домой, эта дорога вела к большаку, выходившему к шоссе, по которому они вернулись бы в родные места.
Показались два советских офицера. Осмотрев место недавней трагедии, они заметили женщину, все еще стоявшую в оцепенении.
— Это ваши? — угрюмо спросил один из них.
— Нет. Я их не знаю, — ответила Балдиниете. — Но остались ребята. Вон там, — она показала рукой. — Два мальчика. Что с ними делать?
— Как, что с ними делать? Растить их надо, вот что! — воскликнул офицер, и Балдиниете почувствовала, как кровь ударила ей в лицо: как это она сама не догадалась, что мальчиков надо взять к себе, заменить им мать.
— Я охотно бы, — запиналась она, подыскивая русские слова, так как знала их не много. — Только сами видите, как мне трудно с языком, — смущенно развела она руками.
— У вас есть свои дети? — спросил второй офицер.
— Есть. Два сына. Только немец забрал. — Балдиниете пыталась сдержать слезы.
— Хорошие были сыновья?
— Хорошие, — ответила она с гордостью.
— Ну вот, воспитайте этих сироток такими же хорошими людьми! Они скоро научатся вашему языку. Дети быстро поймут. Неважно, на каком языке говорит человек, главное, чтобы сердце было хорошее.
Она вернулась к детям. Ребятишки стояли около повозки и говорили что-то лошади. Они уже не плакали. Дети быстро забывают горе и несчастье.
— Садитесь, ребятки, поедем искать маму и папу, — сказала она, стараясь сделать беззаботное лицо. Малыши сразу взобрались на повозку, Володя даже взялся править лошадью, а Ваня улегся на коленях новой матери. Они поехали прямо, по направлению к реке, на берегу которой должен был быть дом Балдиниете. Должен бы — но его не было. Это хозяйка дома заметила сразу же, как только выехала из кустарника и напрягла зрение, чтобы с радостью снова посмотреть на свой дом. Дома не было, только закоптелая труба торчала над голыми, опаленными ветвями яблонь. В эту минуту она благословляла офицеров, подавших ей хорошую мысль — взять детей. Не будь мальчиков — Володи, смело правившего лошадью, и маленького доверчивого Вани, она бы не перенесла так спокойно еще одно несчастье, кричала бы и рвала на себе волосы. А возможно, и нет, быть может, она осталась бы тихой и немой, без мыслей, без чувств. Теперь надо было подумать о том, куда уложить на ночь новых сыновей, — уже наступал сырой осенний вечер. На западе горизонт закрывала темно-серая туча, на небе плыли ладьи облаков. Куда ехать, у кого просить приюта? Как трудно теперь ей, привыкшей всю жизнь жить в своем доме, каким бы он ни был. Ни одной ночи, даже если ее и просили, она не провела под чужой кровлей. А теперь надо было самой идти проситься, обивать чужие пороги и радоваться уголку в чужих сенях.
Куда ехать, к кому обратиться? Тут же, направо, идет дорога в усадьбу Думиней. Ирма даже приходится дальней родственницей — дочь двоюродной сестры покойного мужа. Такая большая усадьба, разве там не найдется места для трех человек, лошади и коровы. Свои поля тоже близко, способнее было бы обрабатывать. В будущую весну, когда надо будет начать строить новый дом, не придется далеко бегать туда и обратно. Нельзя поверить, чтобы Думини отказали в приюте. Они часто жаловались, что построили слишком большие хоромы, зимой не натопишь, летом не проветришь, в зале и в угловой комнате всегда сыро. Вот и будет польза от того, что в доме прибавится жильцов, наконец просохнут стены и выведется плесень.
— Володя, сынок, заверни лошадь вон на эту дорогу, — показала она.
Мальчик понял и, увидев за фруктовым садом дымящуюся трубу, спросил:
— Это, тетенька, твой дом?
— Там мы будем жить, пока не построим себе нового дома, — бодро и уверенно ответила женщина.
Из ворот выбежала собака и с лаем бросилась навстречу.
— Кранц, Кранц! — позвала Балдиниете, и собака смущенно завиляла хвостом. Из кухни распространялся запах горячих блинов. Володя жадно потянул носом. «Бедняжка, кто знает, когда ел, — подумала Балдиниете. — Накормит Ирма ребятишек блинами, и, быть может, не станут сегодня спрашивать о своей матери».
Когда во дворе загрохотала телега и раздалось Володино громкое «тпрр», из кухни вышла хозяйка, поспешно вытирая фартуком руки. Узнав родственницу и соседку, она состроила радостное лицо и даже воскликнула: «Ах, и ты дома!» — но затем, наверное, вспомнив, что у Балдиниете дома больше нет, и угадав ее намерение, — куда же деваться погорелице, — сразу стала серьезной и неловко замолчала.
— Было бы хорошо, если бы мы, как ты говоришь, нашли себе здесь дом, — ухватилась Балдиниете за слова Ирмы.
— А это что за мальчики? — притворяясь, что не поняла, спросила Думиниете.
— Это мои сыновья, — Балдиниете погладила русую головку Володи и нежно посмотрела на Ваню, который, согревшись у нее на коленях, спал.
— Словно бы на русских похожи? — Ирма недоверчиво, со скрытой неприязнью, разглядывала ребят.
Балдиниете отослала Володю в садик, посмотреть на цветы, и, отозвав Ирму в сторонку, шепотом рассказала, что родители детей убиты и она взяла мальчиков к себе.
— Дети еще не знают об ужасном несчастье, — закончила она. — Пусть сперва привыкнут ко мне, а до тех пор от них как-нибудь скрою. Ах, какие же чудовища эти немцы, Алму Лидум убили, дочку Пакалнов… И теперь вот этих — я не догадалась спросить у мальчика, как его фамилия.
— Не гнались бы эти сумасшедшие за немцами, так бы ничего… — брюзжала Ирма, равнодушная к чужому горю. — У нас и того хуже: лошадь убило, а Петеру ступню оторвало.
— Жив остался?
— Жив-то жив. Но подумай, в страдную пору — и такое несчастье. Хлеб осыпается. Нашего Яна этот сумасшедший Озол сделал волостным старшиной, или как их там теперь называют. А лошадь! Лошадей теперь так мало, сколько она по нынешним временам должна стоить, — жаловалась Думиниете.
— Да, да… — протянула Балдиниете, не зная, как утешить родственницу. — Слушай, уже наступает вечер. Будем говорить прямо. Нам ведь не придется ехать к чужим людям искать крова?
— Что поделаешь, осенью нового дома не построишь, — ответила Думиниете, косясь одним глазом на сад, так как мальчик подошел близко к яблоне, под которое валялись опавшие яблоки.
— Дома не построю, но я думала, что вы как родственники на зиму уступите нам угловую комнатушку, — спокойно объяснила Балдиниете. — Все равно пустует.
— Я, право, не знаю… — растерянно отговаривалась Ирма. — Сам еще не вернулся из больницы…
В первый миг она забыла, что комнатка и зал набиты наворованными вещами, но затем спохватилась и энергично замахала обеими руками:
— Нет, нет, у нас никак нельзя! Если бы у тебя еще не было этих русских мальчишек… — избегая взгляда Балдиниете, она наблюдала за ее лицом: может быть, родственница, попав в безвыходное положение, откажется от ребят.
— Мальчики останутся со мной, — решительно сказала Балдиниете.
— Нет, нет, такую обузу — чужих детей к себе в дом не возьму! — еще тверже заявила Ирма. — Разве от них можно будет яблоко уберечь или что-нибудь другое. Если бы они хоть латыши были.
— Я вижу, Ирма, что у тебя в груди нет ни латышского, ни человеческого сердца, — с горечью вздохнула
Балдиниете. — Дай тебе бог прожить свою жизнь так, чтобы не надо было идти к другим проситься, — пожелала она ей, но пожелание прозвучало как предупреждение. Позвав Володю, она велела ему повернуть лошадь. Так они уехали, провожаемые растерянным взглядом Думиниете и запахом горячих блинов.
«Дала бы хоть ребятам по блину, — с досадой подумала Балдиниете, и сама проглотила набежавшую слюну. — Скупа как яловая корова».
— Почему мы уезжаем? — грустно спросил Володя. Видно было, что он не только голоден, но и хочет спать.
— Тут нехорошие люди, — сказала Балдиниете.
Они повернули на прежнюю дорогу и поехали вперед, сами не зная куда. С заросших камышом болот поднимался холодный туман, все гуще и гуще стлался он над землею, окутывая блеклым покрывалом поля, луга и леса. Во влажном вечернем воздухе стук колес отдавался резким эхом по кустарнику и на дороге, и Балдиниете казалось, что не одна она едет, а целая вереница тихих, подавленных людей, у которых немцы сожгли дома и которым свои же соседи не дали уголка, где приютиться. Как же далеко придется ехать в ночь и туман? Не устроиться ли здесь же под какой-нибудь сосной? Но может, там уже притаилась коварная смерть, злорадно стерегущая жертву. И тогда останется лишь рука или нога и обломок колеса. Ну и пусть! Что же еще осталось в жизни? От дома — один пепел. Сыновья… сыновья где-то в далеких краях, за широкой огненной стеной. Им уже не вернуться, нечего надеяться. Какой смысл продолжать путь, всюду и всегда будут только ночь да туман. Солнце ее жизни закатилось. Его восхода — возвращения сыновей — ей не дождаться.
Малыш на ее коленях зашевелился. Он боролся со сном и тер глаза кулачками: проснувшись, сообразил, что телега все еще движется вперед, и спросил:
— Мамочка, почему ты пропала? — и обхватил шею Балдиниете. Затем оторвался и удивленными глазами посмотрел ей в лицо.
— Разве ты другая мамочка? — допытывался мальчик.
— А ты хочешь, чтобы я была твоей мамочкой? — Балдиниете прижала мальчика к груди.
— Ты будешь такая же хорошая, как моя мамочка? — спросил Ваня.
— Постараюсь, — улыбнулась она.
Где-то вдали замерцал огонек. Лошадь сама повернула вправо. Пусть идет. Ради детей надо позабыть стыд и проситься еще к кому-нибудь на ночлег. Дорога как бы знакомая. Днем-то узнала бы, но в темноте порою и свой собственный дом кажется чужим.
Слева от дороги вынырнула темная фигура с косой на плече.
— Эй, кто там едет? — раздался сильный голос Гаужена.
— Гаужен! — воскликнула Балдиниете. — Ну, конечно, это ведь дорога в «Гаужены», в темноте не узнала. Вот хорошо! Ты ведь позволишь переночевать у тебя?
— Разве тебе уже кто-нибудь не позволил, мать?
— Родственники прогнали. Ирма Думинь… — с горечью ответила Балдиниете.
— Тоже выдумала, к Думиням заезжать! — усмехнулся Гаужен и сплюнул. — Какая им от тебя может быть польза? Заезжай ко мне и живи. Таких хором, как у Думиней, у меня, правда, нет. Один сосед с берега реки уже поселился у меня. У них у всех от домов остались одни развалины. Ты не одна. Э, что у тебя там на возу шевелится? Овечка, что ли?
— Это мои новые сыновья. Только что допытывались, буду ли я хорошей матерью, — улыбнулась Балдиниете. Удивительно, куда девалась тяжесть, давившая сердце, на душе стало спокойно и бодро.
Гаужен наклонился, чтобы рассмотреть мальчиков, спросил, как звать, и, посмеявшись, хлопнул Володю по плечу:
— Молодцы ребята! Они тебе помогут дождаться твоих взрослых сыновей.
Лидумиете позвала на похороны дочки всех соседей — близких и дальних, всех, кто только знал ее Алминю. Поминки устроили, как обычно в старые времена. Правда, не было ни свиньи, ни овцы, ни даже теленка, чтобы заколоть, но сохранилась одежда — часть они увезли с собой, а часть сумели так спрятать в земле, что ни немцы, ни Петер Думинь, ни другие мародеры не смогли разнюхать. За штуку домотканого сукна и два узорчатых шерстяных одеяла — рукоделие Алмини — она выменяла у Саркалиене поросенка, и за простыни и скатерть — овцу у Ирмы Думинь. Мука для белого хлеба еще нашлась в мешке. Яну Калинке дала мешок ржаной муки, чтобы изготовил самогон, у него в баньке сохранился аппарат.
Сама Лидумиете мало занималась приготовлениями к похоронам. У нее еле хватало сил подоить корову и подбросить ей охапку травы, когда та возвращалась с пастбища, где паслась вместе с коровами Лициса. Остальное время она сидела у гроба дочери и вслух повторяла одни и те же слова:
— Моя ненаглядная, ох, моя ненаглядная, что эти дьяволы с тобой сделали…
Эрик заботился о приготовлении могилы, варке пива и подыскивал распорядительницу на похоронах. Нужно было замазать в стенах дыры, в окна вставить стекла из зимних рам, уцелевших на чердаке, сколотить скамьи из досок — все стулья немцы изрубили топорами. В большое стенное зеркало, подаренное старшим братом Алмине в день ее конфирмации, кто-то из громил ударил прикладом или топором. Все в сплошных трещинах, оно, как бы издеваясь, смотрело на входивших в комнату. Эрик хотел зеркало убрать, но мать не позволила: оно напоминало и об Янике, и об Алмине.
Так как пастор общины Гребер не вернулся, Лидумиете послала Эрика к Салениеку — может быть, не откажется отпеть Алминю. Но Салениек твердо решил порвать с прошлым — и отказался. Не осталось ничего другого, как обратиться к Августу Мигле, проповеднику распавшейся братской общины, который считал своей обязанностью на похоронах заставить родных как следует поплакать. Начав говорить и заметив в глазах присутствующих слезы, он так увлекался своим красноречием, что слова его не переставая лились, вызывая утомление и одно желание: скорее бы сказал «аминь». Он всем уже надоел, но в случае необходимости люди все-таки прибегали к его помощи.
Ясным и солнечным было воскресное утро. За эти немногие дни после возвращения жители кое-как привели в порядок разгромленные и загаженные дома. Теперь, направляясь на похороны, люди озабоченно смотрели на поля, где перезревшие колосья клонились к земле. У многих домов двери были еще открыты настежь, и ветер гонял по комнатам листы разорванных книг и газет. Хозяева еще не вернулись. Возле дома Миериней, на холме под дубом, вырос желтый глинистый бугорок, с белым, некрашеным крестом. Там почивал Рудис Миеринь: в тот день, когда его хоронили, за кладбищем еще были немцы. Так старик и после смерти остался близ своего жилья, из которого его не могли выгнать даже жандармы.
От семьи Озолов на похороны пришли Юрис и Мирдза, вернувшиеся домой почти одновременно — Мирдза из скитаний, а Юрис — из уездного города, куда ездил после своего первого посещения волости. Мать на похороны не пошла — побоялась смотреть на убитого человека, перед ее глазами предстал бы Карлен, такой же бледный и истекший кровью, как Алминя.
Возвращение Мирдзы вырвало ее из мрачной подавленности лишь на короткое время. Когда она убедилась, что дочь жива и ей ничего больше не грозит, вся ее материнская любовь, печаль и скорбь были перенесены на Карлена. Сегодня утром, когда Мирдза рвала в саду цветы и мать всплакнула: «Ох, кто же возложит цветок на могилу Карлена», — Озол не стерпел, упрекнул ее:
— Уймись же, наконец, и не огорчай девушку! Будь счастлива, что вернулась дочка.
Во двор Лидумов Озолы вошли почти одновременно со старой Саркалиене, которая как раз вылезала из просторной рессорной коляски. Увидев Мирдзу и ее отца, она заметно вздрогнула, но сейчас же притворилась, что не видит их, — завозилась с корзинкой в коляске и приподняла привезенный букет цветов.
Во дворе были и другие. Озолы поздоровались. Саркалиене сделала вид, что только теперь узнала их по голосу. Она стремительно обернулась и с приторно-сладкой улыбкой поспешила поздороваться прежде всего с Озолом.
— Ах, господин Озол, тоже в наших краях! Кто бы мог подумать? Всякое говорили — погиб, погиб, выходит, жена и дети зря убивались.
— Не так-то легко нас прикончить, — усмехнулся Озол. — Выносливое племя.
— Мирдзиня, доченька! — Саркалиене бросилась девушке на шею и, хотя Мирдза уклонялась, все же прижалась губами к ее подбородку. — Как я из-за тебя убивалась там, на лугу Дуниса, сколько кликала, сколько искала. Подумайте, — обратилась она к Озолу, — девушка вдруг исчезла, словно сквозь землю провалилась. Я так разволновалась, думаю, что же я матери отвечу. Смотрю я, все матери счастливее меня — да поможет им господь. К Озолам вернулась дочь, у Лидумиете хоть один сын остался, а я одна, как старая колода, — и она потерла краем платочка сухие глаза.
У Мирдзы так и жгло язык острое словцо, но она сдержалась. Все-таки здесь все были гостями.
— Куда же ваш сын девался? — спросил Озол, пристально всматриваясь в глаза хитрой женщине.
— Мобилизовали. Как и всех. Так же, как вашего Карлена, — был готов у Саркалиене ответ.
— Ну, не совсем так, — вспылил Озол. — Ваш сын разгуливал в немецкой форме и мобилизовывал других. И моего сына…
Он заметил, что у Саркалиене задрожала челюсть и застучали зубы. Но глаза сохраняли каменное спокойствие. Преодолев волнение, она опять начала тереть глаза — они никогда не плакали, и поэтому из них трудно было выжать слезу.
— Вы думаете, Вилюму было легко в эти годы, — вдруг заговорила она изменившимся голосом. — Рыскал, как… — Саркалиене осеклась, проглотив наиболее подходившее здесь слово «собака». — Немцы только и знали, что командовать — давай сюда, давай туда. По пальцам могу сосчитать, сколько дней дома был. А придет — только пьет да спит, — говорит, переутомился от этих работ. Я одна разрывалась с батраками и пленными. Что ж поделаешь, не ради блестящих пуговиц пошел он туда, не хотел идти воевать против вас, господин Озол.
— Но моего сына гнать на войну против меня он пожелал? — спросил Озол, сунув руки в карманы; он чувствовал, что у него начинают дрожать пальцы.
— Ну, тогда ссылайте меня в Сибирь, забирайте меня, старуху! — завопила Саркалиене. — Раньше говорили, что дети расплачиваются за грехи родителей, а нынче мне придется отвечать за то, что сын не хотел воевать за немцев…
«Бесстыдства у тебя хоть отбавляй», — подумал Озол и пожалел, что начал с этой женщиной разговор здесь, во время похорон. Вокруг них собрались гости: было видно, что они не сочувствовали Саркалиене, но все же в разговор никто не вмешался. Обычно, когда покойник еще в доме, принято соблюдать истовость и торжественность.
Эрик пригласил гостей к столу. У переднего конца стола важно восседал Август Мигла, рядом с ним — Ян Приеде, новый председатель волостного исполкома. С другой стороны стоял свободный стул. На него хотел было сесть Гаужен, но Август боком наклонился к стулу и сердито сверкнул глазами. Затем начал усердно ловить взгляд Озола и, поймав его, выпрямился и, указав на стул размашистым жестом вытянутой руки, пригласил:
— Пожалуйста, господин товарищ Озол! Здесь ваше место.
Озол сделал вид, что не слышит. На скамье между Салениеком и Балдиниете оставалось свободное место. Озол занял его. Рядом с Августом Миглой уселась Саркалиене. Страх перед Сибирью ничуть не отразился на ее здоровом аппетите. Из подаваемых ей Августом мисок с холодцом она перегружала к себе на тарелку самые жирные куски, каждый раз приговаривая:
— Это ведь я откармливала поросеночка. Так трудно было уберечь его во время скитаний. Тогда никто не помогал. Хотя бы отведать надо.
После молчаливого завтрака началась церемония выноса гроба. Август Мигла длинно и пространно говорил о небесной обители, в которую рано или поздно должен вступить каждый, о радостях, ожидающих там Алминю, но ни словом не помянул чудовищного врага, вокруг жертвы которого теперь стояли многочисленные присутствующие. Как обычно на похоронах, Август говорил так долго, что даже на глазах матери высохли слезы, менее причастные к горю исподтишка посматривали на часы. Ведь еще надо было ехать на отдаленное кладбище соседней общины, где у Лидумов была фамильная могила, — а осенний день рано клонится к вечеру.
На кладбище он повторил ту же речь. Когда прозвучало долгожданное «аминь», солнце уже опустилось.
Домой возвращались быстрой рысью. Все торопились к теплому дому, где ожидало вкусное угощение. Только сердце матери рвалось туда, где осталась покрытая цветами могила. Но ни живая мать, ни мертвая дочь уже не занимали участников похорон. Озол видел, как люди поднимали кнуты, показывали друг другу на сожженные или разбитые дома, вытоптанную на полях рожь. «Пусть бы ели, жрали, но не топтали ногами», — заметил кто-то. Озол обернулся, — это сказал Гаужен, сидевший на одной повозке с Балдиниете.
За ужином вскоре завязались разговоры. Соседи рассказывали друг другу о пережитом во время скитаний, жалели, что не удалось скрыться в лесу. Надо было забраться в кусты или в болота отдельно, по одной семье. Таких, которые думали, что безопаснее спрятаться по четыре-пять семей вместе, вылавливали шуцманы.
— Я тебе прямо скажу, — Гаужен махнул трубкой в сторону Саркалиене, — плохого сына ты вырастила. Разве немец латышу был когда-нибудь другом? А твой сын помогал немцам последние соки выжимать из наших людей.
Рядом с Гауженом сидела жена кузнеца Саулита. Смелые слова соседа ее так перепугали, что вилка с наколотым мясом упала ей на колени. Чистя платье, она нагнулась и шепнула Гаужену:
— Ой, ой, не говори так с нею! Вилюм тут же в лесах скрывается. Как бы не передала.
Широкое загорелое лицо Саркалиене побагровело. Но она решила не сдаваться.
— Ты, Гаужен, еще не знаешь, что из твоих сыновей получится, — отрубила она, но затем, очевидно, сообразила, что теперь выгоднее будет обороняться, чем наступать, и перешла на примирительный тон. — Это только так говорят, а разве мать воспитывает своих детей. Жизнь воспитывает.
— Все же жизнь воспитала его в твою пользу, — подшутил Гаужен, — натаскал домой еврейских вещей, русские пленные даром землю обрабатывали.
— Какие же из этих пленных работники? — пожаловалась Саркалиене. — Такие заморенные, вшивые.
— Лентяи и бездельники… — не выдержал Густ Дудум. — Такую беду брать в дом! Того и гляди, как бы тебе голову не оторвали.
— Те, что у крестьян работали, — вмешался в разговор Саулит, — еще на людей были похожи. Но каких я в городе видел — просто рассказать нельзя. Одни кости под синей кожей. С ног валятся. Кто упадет — того прикладом по голове. Батрак Августа Миглы, ну, как его… Петер Ванаг, однажды дал пленному кусок хлеба… Тут же и на него набросились и сразу в Саласпилс увезли. Бог знает, вернется ли когда-нибудь, пропал человек из-за своего доброго сердца.
Озол видел, как Густ Дудум нервно жует концы своих усов. Видно было, что человек этот полон неудержимой ненависти.
— Что ты считаешь увезенных в Саласпилс, — от злобы у Густа глаза стали красными, — лучше спросил бы товарища, — это слово он выговорил с особым ударением, — Озола, за что в сорок первом году в Сибирь столько латышей увезли!
Озол хотел ответить, но его опередил Гаужен:
— За что увезли? Да уж, конечно, не за кусок хлеба бедняку. Вот твой сосед Каспар Грислис. Разве ты забыл, как он в двадцатом году застрелил Алму Цируль — внучку старой Лизе? Ты, может, позабыл, но есть и такие, что не забывают.
— Ну и будьте довольны, что Каспар Грислис застрелил эту коммунистку, — иронически отозвался Густ, — иначе теперь не о чем было бы трубить. А разве все остальные тоже стреляли в Алму Цируль, все, кого увезли?
Озол почувствовал, что и для него настало время сказать свое слово. Стараясь сохранить спокойствие — проклятая контузия все еще давала себя знать, — он начал:
— Я вижу, кое-кто не может забыть воплей «Тевии» об «увезенных». Некоторые еще долго будут помнить их, так как верят тому, чему хотят верить. Но тем, кто способен понимать вещи такими, каковы они есть на самом деле, я прежде всего могу сказать вот что: эти статьи были нужны немцам и их приспешникам из латышей, чтобы закрывать вам глаза. Они сами убивали без конца, но вопили, что это делают большевики.
— Вот, вот, как с церковью, — вставила Балдиниете. — Все мы видели, как они насосами качали воздух, чтобы лучше горела, а в газетах написали, что большевики сожгли.
— А у Каупиня нашли зарытым в землю целый ящик с пулеметами, — перебил Озола Гаужен.
— Ну, вот, для стрельбы по зайцам пулеметы не нужны, — подхватил Озол. — Но он ведь все же готовился в кого-то стрелять. И не один. А то не прятал бы целый ящик с оружием.
Озол видел, как Густ, уже и без того подвыпивший, во время этого разговора опрокинул еще три больших рюмки самогона. Так вот откуда эта старая рысь черпает смелость, чтобы щерить зубы и брызгать слюной! Очевидно, Густ сам не верит ни в Сибирь, ни в чека, иначе бы держался тише воды, ниже травы.
— Разве латыш не смеет защищать свою родину? — бросил Густ, не сумев придумать ничего другого в защиту Каупиня.
— Латыш должен защищать родину, — ответил Озол, — только он должен знать от кого: от врага или друга. Если вы с Грислисом и Каупинем считаете немцев вашими друзьями, то это еще не значит, что все латыши думают так же. Я считаю, что мы здесь, кто сочувствует горю Лидумов, думаем иначе.
— Будь он проклят этот немец, — мою Алминю… — заплакала сидевшая на лежанке Лидумиете. Озол пожалел, что затронул у нее самое больное, но ему казалось, что с этими людьми надо говорить о близком для них и осязаемом.
— И моих сыновей… — тяжело вздохнула Балдиниете. — Тебе легко говорить, Густ… — с упреком обратилась она к Дудуму. — Попробовал бы сам воспитывать детей.
— Так ведь детей ваших мобилизовали, — оправдывался Густ. — Русские так же будут мобилизовывать. Война есть война.
— Разве снова будет мобилизация? — встрепенулся Август Мигла. При немцах ему удалось за хорошо откормленную свинью уберечь от мобилизации своих обоих сыновей. Теперь они жили в лесу, в сарайчике, выжидая, что будет. — Да разве латыши еще не навоевались? — продолжал он. — Пора бы заняться мирным трудом.
— Все народы нашей страны истосковались по мирному труду, — ответил Озол, — но разве поэтому можно бросить оружие и разойтись по домам? И разве у латышей нет своих счетов с немцами? Нужно преследовать зверя, держащего в своих лапах сыновей Лидумиете, Балдиниете, Саулитов. Надо скорее освободить тех латышей, которые томятся в немецких лагерях смерти. Чего же вы хотите? Чтобы другие завоевали победу и преподнесли нам на блюде, как пирог?
— Но кто же будет обрабатывать поля? — Густ окинул всех взглядом победителя. — Вот, к примеру, Лидумиете останется одна. Разве ей тогда справиться с уборкой хлеба и картофеля?
— Как же это, — пошлют брата на брата, — подняла голос Саркалиене. — Разве у Эрика поднимется рука, чтобы стрелять, когда на другой стороне будет Ян?
«Хитры, как лисы», — мысленно усмехнулся Озол. Он увидел, что и остальные задумались. Совладев с руками, начавшими снова дрожать, он сказал:
— Но там, на той стороне, и немцы, от мины которых погибла сестра Эрика. Там немцы, на чьей мине подорвалась Дзидриня. Там все те, кто убивал, жег, взрывал, гнал латышей, как рабов, в Германию. Разве им можно дать безнаказанно уйти? Разве можно их простить?
На это, как эхо, откликнулась Лидумиете:
— Христос, правда, говорит: «Любите врагов своих», — но это уж слишком. Да простит мне господь мои прегрешения, но я сама своими руками убила бы этих дьяволов!
— Значит, ты будешь довольна, если Эрика призовут? — от опьянения и злости Густ совсем забылся и даже не постыдился издеваться над убитой горем старушкой.
— Нет таких матерей, Густ, которые бы радовались войне, — заступилась Балдиниете. — Уже от одного этого слова вздрагивает материнское сердце. Но раз немцы напали на нас, то я бы хотела, чтобы мои сыновья надели фуражки с красными звездочками.
— А что делать с теми, кто начинает войну? Врывается на чужую землю и убивает? — пытался Озол постепенно рассеять недоумение, которое он прочитал в глазах некоторых гостей. — Сдаваться без сопротивления?
— Нет, этого никак нельзя, — живо откликнулся Гаужен. — Если бешеная собака забежит в мой дом, то я ее прикончу.
— С войной то же самое, как и со всяким ремеслом, — важно заговорил Август Мигла. — Не каждый годится в сапожники, и не каждый — в солдаты. Человек делает то, к чему его влечет. Крестьянин может по-другому помочь. Выращивать для воинов хлеб.
— Гражданину Мигле я могу ответить его же примерами: если крестьянин может растить хлеб, то рабочий может ковать оружие, портной шить шинели, сапожник тачать сапоги, бухгалтер все это записывать. А кому немцев прогонять? Ангелам, что ли?
— Русские ведь такие храбрые вояки, — с деланной наивностью вмешался в разговор Густ. — Они сами разбили бы этого ничтожного немца. Шапками бы закидали.
Озол почувствовал скрытую ненависть Густа, облеченную в эти бессильные, злые слова. Но он также понял, что говорит не только с одним Густом, — пятьдесят человек слушают, следят за их поединком, и ему надо отвечать так, чтобы все видели, что противник положен на обе лопатки. Нельзя выдавать ни своего волнения, ни возмущения — это могут истолковать как признак слабости. Положив вилку на стол и прижав руки к коленям, он начал отвечать, прислушиваясь к звучанию своего голоса.
Трудно ему было говорить. Казалось, что все рассказываемое им — о внезапности немецкого нападения, о тактике отступления Красной Армии, о дружбе советских народов — давно известные и не требующие доказательств истины. И все же о них нужно говорить, потому что эти люди слышат все это впервые.
Озол обвел взглядом всех гостей, и ему показалось, что многие к его словам остались равнодушными. «Надо найти другие слова, — думал он, — приводить близкие им примеры. Победа, правда, сама говорит за себя, а зубоскальство Густа — это бессильная злоба человека, разбитого вместе с немцами. Надо говорить так, чтобы каждое слово западало в сердца людей и зажигало их огнем. Я, видимо, говорю слишком высокопарно».
— Мне кажется, что господин Дудум сам прекрасно знает разницу между немецкой и русской дружбой, — внезапно услышал Озол голос Салениека. — Немцы оставили ему на столе свою благодать, которой он навряд ли доволен. И хотя ему так и не нравятся русские, они все же спасли ему руку или ногу, а может, и жизнь.
Это замечание вызвало громкий смех и восклицания: «Расскажи, Густ, что это были за пироги в твоей квашне? Какой там был «фриштик»
[3] на тарелке?»
Густ зло сверкнул глазами в сторону сестры и что-то пробурчал о женской болтливости. У него, действительно, был повод сердиться на Эмму — это ведь она рассказала соседям о неприятном случае, и теперь над ним будут смеяться не только в этот вечер, но еще долго и после него.
— Я, правда, не знаю, как другие русские, — вмешалась в разговор Саулитиене, — но те, что стояли у нас, были очень сердечные. Узнав, что наш Арвид мобилизован в легион, только головами покачали и сказали: «Не надо было, мать, пускать. Лучше бы в лес ушел, к партизанам. Теперь бы в почете был». Я всплакнула и говорю: «Глупые мы были тогда, ушел Арвид, как баран на бойню».
— Тогда и умные головы могли одуреть, — добавила Балдиниете. — Изо дня в день только и слышишь: русские отбиты, русские разбиты, всякие «фауи» летят по воздуху, и «тигры» по земле носятся. Если немцы отступят, то русские все сожгут, камня на камне не оставят. Как бы я теперь этих брехливых собак стеганула. Знай я, что русские так скоро придут, я бы своего Ольгерта в землю закопала, две недели как-нибудь выдержал бы без еды.
Пока Балдиниете говорила, за столом освободилось одно место — Саркалиене тихонько улизнула, как кошка, съевшая сметану и испугавшаяся хозяйки.
Гости начали выходить из-за стола и рассаживались группами на лежанке и кроватях. За столом остались Август Мигла и новый председатель исполкома Ян Приеде. Шум беседы был слишком громкий, чтобы слышать все то, что Август говорил Яну. Но лица у обоих были очень серьезные. Август время от времени наполнял рюмки и заставлял Яна выпить. Мигла говорил без умолку, а Ян, соглашаясь, часто кивал головой. Наконец от опьянения голова у него начала качаться сама по себе. Озол озабоченно посмотрел на бездумное лицо Яна Приеде и только сейчас обратил внимание, что тот за весь вечер не проронил ни слова.
«Сможет ли он быть настоящим хозяином волости? — тревожила неприятная мысль. На завтра в волости назначено общее собрание. Лучше будет говорить самому. Ян может напутать. И как это я за ним не уследил — дал ему напиться».
После полуночи люди стали собираться домой. Завтра собрание, регистрация. Да и уборка еще не закончена, поля прямо плачут по жнецам.
Озол и Мирдза простились с Лидумиете, она горячо пожимала им руки и просила навешать, зайти поговорить. Так она хоть на минутку забудет о своем горе. Выйдя во двор, Озол увидел, что вокруг Яна Приеде происходит нечто вроде торга. Ян уже было поставил ногу на подножку линейки своей бывшей хозяйки Ирмы Думинь, но подъехал на своей рессорной коляске Август Мигла и размашистым жестом пригласил его к себе.
— Пожалуйста, господин Приеде, лошадка у меня порезвее. Доставлю к самому крылечку.
— Пусть Ян садится ко мне за кучера, — старалась Ирма Думинь отвоевать Яна себе. — Переспит эту ночь на своем привычном месте. Утром позавтракает. Ведь никто ему, бедняге, не сготовит.
Увидев Озола, Август отстал от Яна.
— Господин товарищ Озол! — воскликнул он заискивающе. — Вы, наверное, пешком? Садитесь оба с барышней, подвезу!
Озол хотел было уже направиться к коляске Августа, но его удержало какое-то внутреннее отвращение к скользкой лести, просвечивающей в каждом слове и каждом движении Миглы. Лицо его, круглое, с мелкими складками от носа до углов рта, с рыжеватыми, дугообразно свисавшими усами и острой бородкой, казалось сальным, покрытым жиром.
Маленькие тюленьи глазки, притаившиеся между вздутыми мешочками век, временами так преданно и заискивающе смотрели на собеседника, словно хотели сказать: поверь мне, такой честный человек не может лгать.
«Нет, он, Озол, не сядет рядом с этим «библейским жеребцом», — так в насмешку издавна прозвали в волости Августа, ханжу, болтуна и в то же время мелочного и жадного человека. И Яна Приеде надо вырвать из зубов этой щуки. После своего возвращения из уезда Озол еще не успел поговорить с Яном, не знал, как тот подготовился к регистрации жителей, как начал вести хозяйство волости.
— Мы с Яном пойдем домой пешком, — произнес он строго. И Приеде, не сказав ни слова, соскочил с линейки, на которую уже успел было усесться, и бросил вожжи Ирме.
Озол с Мирдзой и Янисом вышли через ворота и свернули на тропинку.
— Ты, может, хотел бы поехать? — начал Озол разговор.
— Ничего, можно и пешком, — пробормотал Ян. — У меня только ноги что-то тяжеловаты.
— Не надо было столько пить.
— Да разве я по своей воле? Мне противна эта водка, — оправдывался Ян. — А он, этот Август, знай подливает да подливает.
— Тебе надо быть осторожным. Еще не раз вот такие августы будут пытаться напоить тебя, чтобы потом вся волость пальцем указывала. Ну, ладно, — Озол переменил разговор. — Расскажи, кто у тебя уже работает?
— Кроме рассыльного Рудиса Лайвиня, никого у меня нет. Он и повестки пишет.
— Как никого? Кто же будет завтра регистрировать население? — заволновался Озол.
— Вот и сам не знаю.
— Что? — Озол от изумления даже остановился. — Кому же это знать?
— Где ж я их возьму? — беспомощно спросил Ян и тоже остановился.
— С неба они не свалятся, самому надо найти. И секретаря у тебя тоже нет?
— Нет, — развел руками Ян.
— Значит, завтра с утра надо найти секретаря и канцелярских работников. Есть ли у тебя кто-нибудь на примете? — деловито спросил Озол.
— Да нет, — виновато пробормотал Ян. — Я думаю, может быть, прежний писарь, господин Янсон. Он это дело знает. Что я понимаю в таких делах?
— Ты, Ян, оставь этих «господ», — сказал Озол, отвыкший за эти годы от слова «господин». — А как он себя вел при немцах?
— Так себе, ничего. Что приказывали, то и делал, — ответил Ян.
— Но он ужасно пьет! — возмущенно воскликнула Мирдза.
— Обойдемся и без Янсона, — решил Озол. — Пусть идет в армию, может, там закалится.
— Он не захочет идти, — усмехнулась Мирдза. — Еще при немцах, бывало, говорил, что не может людей убивать, мягкий характер ему не позволяет этого. Он называет себя пацифистом.
— Ничего, ничего, — рассмеялся и Озол. — Если он не любит войну так же сильно, как мы, то пусть поможет поскорее ее окончить. Тем более ему теперь пришлось бы стрелять не в людей, а в фашистов.
— Да, но где же мы тогда возьмем писаря, — не поняв разговора, спросил Ян.
— Папа, нельзя ли — Зенту Плауде? — предложила Мирдза. — Она раньше некоторое время работала в лесничестве.
— А, эту невесту Густа Дудума? — переспросил Ян.
— Тьфу, как ты так можешь говорить! — рассердилась Мирдза. — Зента бегает от Густа, как от черта. Но он, словно дурной, вбил себе в голову, что сможет ее силком заполучить.
— Мирдзинь, дочка, — Озол взял дочь за локти и трижды повернул ее кругом. — Помоги уговорить Зенту прийти завтра работать, за это я тебе в следующий раз привезу конфетку!
6
ВОЛОСТНОЕ СОБРАНИЕ
На другое утро Озол спозаранку отправился в местечко по ту сторону реки, где в бывшем помещении почты обосновался волостной исполнительный комитет. Ян Приеде поселился в том же доме, на втором этаже, в маленькой чердачной комнатушке. Когда пришел Озол, он уже был во дворе у колодца и лил себе на голову холодную воду.
— Что, голова болит? — поздоровавшись, спросил Озол.
— Ну да, болит, — пробурчал Ян. — Я ее, эту водку, больше в рот не возьму.
— Можем мы начать работу? Ты уже позавтракал?
— Да нечего же есть, — махнул Ян рукой.
— Как нечего есть? — не понял Озол.
— Нечего. Вчера последний кусок хлеба съел. Никто не продает. Говорят, будто мельница разрушена, молоть негде.
— А сам ты осматривал? Может, мельницу можно исправить?
— Пожалуй, можно. В мукомольне не было ни взрыва, ни пожара, только шерсточесалка взорвана. Остальное недавно разминировали. Только не знаю, кто унес приводной ремень.
— Наверно, унесли такие же мародеры, как твой бывший хозяин Петер Думинь, — Озол внимательно посмотрел Яну в глаза. — Ну расскажи откровенно, что у него дома понатаскано.
— Откуда мне знать, — Ян отвернулся. — Я работал в поле. Что он делал дома, того я не знаю.
— Ян, тебе надо бы оставить свое равнодушие, — с с жаром воскликнул Озол. — Пойми, ты отвечаешь за все имущество волости. И за благополучие всех жителей.
— Но мельница же принадлежит Лидаку, — оправдывался Ян. — Уехал и бросил все как было. Рассказывают, что сам и велел немцам взорвать.
— Так почему же ты говоришь, что мельница еще принадлежит Лидаку? — вспылил Озол. — Это наша волостная мельница. Нам нужно беречь каждый винтик, а не только ремень.
— Да как же я могу уберечь? — недовольно ответил Ян. — В правлении мне тоже надо бывать.
— Тебе нужно найти мельника, и пусть тот отвечает.
Во двор вошли Мирдза и Зента, румяные от утренней прохлады. Зента вела велосипед. Девушки были веселы, от них веяло молодым задором, что так не вязалось с равнодушием и вялостью Приеде. Одновременно в сердце Озола зашевелились жалость и сочувствие к Яну, который за всю свою жизнь только и знал, что тягость труда на чужих, хозяйских полях и в хлеву. С малолетства он не смел ничего желать. В тысячах людей это возбуждает упрямое стремление сломать такой порядок, но иным беспросветная жизнь надламывает крылья, и, когда такие люди вырываются на волю для полета, ими овладевает усталость. Но, может быть, это временная усталость и Ян Приеде стряхнет ее?
— Папа, я притащила Зенту чуть ли не силой, — весело щебетала Мирдза, держа за руку подругу, словно та собиралась убежать, — поэтому я должна получить две конфеты!
— В таком случае надо выяснить, не убежит ли она сразу же, — Озола заразила веселость девушки, — тогда ты не получишь ни одной.
— Это странно, — Зента состроила капризную гримасу, — я должна работать, как вол, а Мирдза будет лакомиться.
— Ну, если ты будешь хорошо работать, то председатель тебя одним шоколадом кормить будет, — подзадоривала ее Мирдза.
— Откуда я его возьму, с неба упадет, что ли, — проворчал Ян, не поняв шутки.
— Ну, ладно, девушки, — Озол стал серьезным, — шутить — это хорошо, но нам быстренько надо браться за работу. Пойдемте.
— Подождите! — Зента схватила его за рукав. — Подумайте хорошенько, ну какая из меня секретарша — мне ведь только двадцать два года.
— Самое время начинать серьезную работу, — сказал Озол. — На фронте ребята в таком возрасте уже командуют. Так неужели девушки в тылу с бумагами не управятся?
В канцелярии новые работники сразу же столкнулись с трудностями: не было копировальной бумаги, поэтому каждый опросный лист надо было писать и расчерчивать в отдельности. Как ни старались они втроем — Ян из-за своего плохого почерка в этой работе не участвовал, — время двигалось быстрее их рук.
— Так ничего не получится! — Озол нервно бросил карандаш. — Надо найти еще помощников.
— Я могла бы съездить на велосипеде за Эриком Лидумом, — смущенно вставила Мирдза и густо покраснела. — У него четкий почерк.
Зента поняла, почему она покраснела, но, желая поддразнить подругу, с улыбкой заглянула ей в глаза и вполголоса, словно опасаясь, как бы ее не услышали, таким же тоном добавила:
— А я могла бы съездить за Густом Дудумом…
Озол слышал это замечание, но ему было некогда вникать в скрытый смысл девичьих шуток. Он видел на столе кипу еще чистых листов, и ему становилось не по себе — вот-вот начнет сходиться народ, соберется вся волость, после короткого собрания надо будет провести регистрацию, но ничего еще не готово, людям придется ждать, и с полным основанием они будут роптать, что их отрывают от самой срочной работы — от уборки перезревшего урожая.
— Поезжай, Мирдза, побыстрее, попроси Эрика и также Салениека, — скомандовал Озол. — Когда соберутся люди, найдем среди них еще кого-нибудь.
— А ты, Ян, мог хотя бы графить линии, — сдержанно сказал он. Озол чувствовал, что к горлу подкатывает досада на Яна, который спокойно сидит, сложа руки, словно ему нет никакого дела ни до лихорадочной спешки, охватившей остальных, ни до чувства ответственности.
— А где твой Рудис Лайвинь? Почему он не является? — строго спросил Озол, сердясь, что Ян слишком медленно потянулся за листом бумаги, намусолил палец и пощупал, не склеились ли листы.
— Да я же не знаю, — спокойно ответил Ян. — Вчера он на похоронах был. Многовато выпил.
— Берет пример с начальника, — заметил Озол.
У Яна начали дрожать руки, и лист бумаги полетел под стол. Ему казалось, что новая жизнь, новая его должность увлекла его, как волнующееся море, но он плавать не умеет, а Озол, желая научить, так безжалостен, что время от времени погружает его с головой в воду. Ему стало жаль прошлого, когда самому ни за что не надо было отвечать и не приходилось думать о том, что делать сегодня или завтра. Что хозяин велел, то и делал, был кое-как сыт и одет, и что еще можно было требовать от жизни в свои пятьдесят пять лет? Три недели тому назад, когда Озол предложил ему взяться за новую работу, в нем зашевелилось какое-то жившее в глубине сердца чувство обиды. В памяти всплыли спесивые волостные старшины ульманисовского времени, не дававшие ему земли, которой он так добивался. Вся жизнь тогда обернулась иначе, чем он надеялся. Мария, с которой они работали вместе три лета и условились пожениться, ушла к другому. Мельник Лидак, одно время бывший старшиной, даже не отвечал на приветствия Яна — ты, мол, батрацкая душа, не достоин, чтобы я из-за твоего «здравствуйте» рот раскрывал. И Яну казалось, что, заняв новую должность, он стряхнет с себя все былые унижения и оскорбления, на которые жизнь не скупилась для него. Но высокая должность требовала большой ответственности, умения самому руководить и распоряжаться, а этому он нигде не учился. В школу ходил только две зимы, от Мартинова дня до Юрьева дня, и научился немногому. Чего же вдруг захотел от него Озол? Был бы хоть помоложе, мог бы втянуться. Те, что выполняли эту работу раньше, и те, что будут выполнять ее теперь, тоже ведь только люди. А куда он годится теперь — даже пальцы не гнутся, фамилию и ту трудно вывести под повесткой. Когда Рудис Лайвинь накрутит на бумаге свои завитушки, словно поросячьи хвосты, и прочесть путем невозможно, — так себе самому порку подпишешь. Парень только ухмыляется, когда он по складам разбирает его каракули.
— Уволь ты меня от этой должности, — процедил Приеде сквозь зубы.
Озол встрепенулся и посмотрел на него. Ему показалось, что у Яна блеснули слезы, но сразу же исчезли. Он отложил начатый лист и вместе со стулом повернулся к Яну.
— Ты меня совсем неправильно понял, — сердечно сказал он. — Если я с тобой бранюсь, то потому, что мне хочется, чтобы из тебя вышел настоящий советский работник. Ты испытал тяжелую работу и несправедливость и сможешь лучше понять нужды трудящихся и быть справедливым.
— Ну, куда мне, — махнул Ян рукой. — Поставь лучше другого, я сначала погляжу, как это делается.
— Так нельзя, — медленно ответил Озол. — Подумай сам, над тобой смеяться будут, дескать, поработал несколько недель — и на «пенсию». Соберись, напряги силы, от тебя не требуют ничего невозможного. Найди себе хороших помощников. Вот Зента теперь будет здесь каждый день. Сегодня, в самое жаркое время, я тоже помогу. Завтра, правда, мне надо быть в уезде.
Ян хотел что-то возразить, но отворилась дверь и вошли Мирдза, Эрик и Салениек. Все они приехали на велосипедах, от быстрой езды их лица разрумянились.
— Милые мои, народ уже сюда валит! — весело воскликнула Мирдза. — А вы тут баклуши бьете.
— Мирдза, что за выражения, — упрекнул ее Озол, — серьезней надо быть!
— Есть быть серьезней, товарищ отец, — Мирдза торжественно приложила руку к виску.
Новые помощники уселись за столы и начали работать. Только слышно было поскрипывание карандашей и постукивание линеек. Но вот на дворе загрохотала телега, и немного погодя кто-то постучался в дверь и легонько приоткрыл ее, в щелку заглянула хозяйка «Думиней».
— Доброе утро, — поздоровалась она, и, когда все, ответив на приветствие, снова склонились над своими листами, она пальцем поманила Яна, чтобы тот вышел.
— Яник, я ведь знаю, тебе трудновато с едой, — прошептала она, когда Ян вышел к ней за дверь. — Привезла тебе хлеба и кое-какой снеди, не могу же я дать своему человеку с голоду умереть. Работу-то на тебя взвалили, но жди, пока кто-нибудь о еде позаботится. Снеси наверх в свою комнатку, чтобы остальные не видели. Если что будут говорить, так скажи, это твой заработок еще с лета.
Ян взял корзинку с провизией и отправился наверх. Ирма Думинь схватила спрятанный в углу кувшин с молоком и пошла следом. В комнате она сама сняла с корзинки платок и достала каравай хлеба, мисочки с творогом и масло, немного свинины и важно выкладывая все это на стол, беспрерывно приговаривала:
— Вот хлебец. Вот еще кусочек белого хлеба с поминок. Вот и маслица привезла, вот творожок, ты ведь любил его. Вот на обед свинина. Смотри, там, в кувшинчике, — молоко.
Ян отрезал ломоть хлеба и принялся завтракать. После водки, неумеренно выпитой вчера, он сегодня утром чувствовал себя плохо, поискав в ящиках хлеба и не найдя ни корки, он помрачнел и даже новая должность опротивела. Каждый новый кусок пищи рассеивал тяжесть, которую он со вчерашнего вечера ощущал в голове и во всех суставах. Теперь ему казалось, ну что там особенного быть руководителем волости, главную работу ведь сделает секретарь.
— Разве все, что там собрались, будут при регистрации? — допытывалась Ирма.
— Да, будут, — ответил Ян. — Еще Рудиса Лайвиня ждем.
— Вот как. Ну, скажи, что слыхал о поставках? Такие же, как при немцах будут?
— Озол говорил, что будут намного меньше.
— Ах так! Но нам все же трудно все сдать! Ты ведь знаешь, как нам тяжело. Самому ногу оторвало. Лошадь погибла. Работать тоже как следует некому. Одни русские беженцы да глухая Алвите. От стольких несчастий, как у нас, ей-богу, с ума сойдешь! Лошадь надо покупать. Ну, ешь же, Яник, маслица побольше намажь! Пока еще есть. Заберет все новая власть, тогда, бог знает, будет ли у самих.
Ирма оглянулась, приоткрыла дверь, высунула голову и, хотя никого не заметила, продолжала полушепотом:
— Ты, Ян, человек разумный и нашу жизнь знаешь. Не по силам нам сдать все. И так немцам сдали всю годовую норму. Сам видел, у нас на столе одна сыворотка была. А если еще этой власти сдавать за этот год, разоримся совсем. Подумай, лошадь надо приобрести. Сколько это по нынешним временам будет стоить!
— Да, стоить будет немало, — согласился Ян, вытирая нож.
— Ну, видишь, много будет стоить. — живо подхватила Ирма. — Я хотела поговорить с тобой, чтобы четырех коров не записывали. Две ведь почти недойные, к рождеству отелятся, а та, что весной ногу вывихнула, слабенькая. На три литра меньше дает, чем в прошлое лето. А еще одна только для детей дает. Если я от остальных четырех сдам — и то будет достаточно. Сколько же сдадут те, у кого по одной корове осталось? Почему же нам столько сдавать?
Ян чувствовал в речах Думиниете что-то неладное, но не мог сразу сообразить, что именно. Она, прежняя его хозяйка, так смиренно и умильно глядит ему в глаза, что его невольно охватило чувство не то гордости, не то жалости.
— Что я, — махнул он рукой. — Как скажете писарям, так и будет.
— Ну да, Яник, пусть так и будет, — сказала Думиниете, кладя платок в корзинку. — Я уж пойду к лошадке, подожду начала. А ты иди к господам, как бы искать не стали. Положи хлеб и остальное в шкаф, чтобы не увидели, — поучала она его.
К одиннадцати часам у исполкома собралось много народа. Посмотрев в окно и увидев нетерпеливые лица, Озол понял, что больше мешкать нельзя, надо открывать собрание, хотя к регистрации еще не все было готово.
— Ян, тебе надо будет открыть собрание! — крикнул он Приеде, вяло чертившему линии.
— Ну, что же, — пробормотал тот и положил карандаш.
Народ собрался во дворе исполкома. Не было ни трибуны, ни специального возвышения, поэтому Озол и Приеде стали попросту на ступеньки крыльца.
Гул разговоров улегся. Озол ждал, что Ян откроет собрание и даст ему слово, но Ян стоял неподвижно, уставившись глазами в землю. Озол, незаметно для других, тронул его за локоть. Но
только он к нему прикоснулся, как Ян испуганно съежился и так удивленно на него посмотрел, что кто-то даже засмеялся.
— Пора открывать собрание, — вполголоса сказал Озол, как бы не замечая того, что произошло.
— Ну, что же, — снова пробормотал Ян, выпрямился и начал:
— Товарищи…
После этого слова наступила тишина, оглушившая Озола сильнее треска пулемета на фронте. Он услышал тиканье часов в кармане своей гимнастерки и непроизвольно стал считать.
— Раз, два, три… десять.
Досчитав до «тридцати», он опомнился… Тишину нельзя больше затягивать, иначе будет совсем смешно. И Озол начал с того же слова, на котором остановился Ян:
— Товарищи!
Он тоже на мгновение остановился. Окинул взглядом лица слушателей и провел ладонью по глазам, отгоняя видение: ему показалось, что перед ним стоят фронтовые ребята. С теми говорить было легко. Не надо было подыскивать слова. У всех в груди горело одно пламя — ненависть к тем, кто топтал и опустошал родину.
Озол заставил себя вернуться к действительности. Ему надо говорить, убедить этих людей. И он заговорил. Он рассказал о первых днях войны, о вероломном нападении на Советскую страну.
Картина за картиной проплывали перед его глазами, он облекал их в слова, простые и сердечные. Он больше не думал над словами, не подбирал их, не наблюдал, какое они производили впечатление на слушателей. Он еще раз сам шагал по огненным дорогам войны, чувствовал под ногами тлеющие развалины сожженных городов и деревень, где-то вдали видел пылающее зарево. Вместе с друзьями он еще раз останавливался под яблоней, к стволу которой немецким штыком пригвожден младенец. Он спешил в пылающую деревню, где разведчики обнаружили попавших в плен к немцам раненых товарищей, и снова переживал приступ острой боли, убедившись, что пришел туда слишком поздно — сарай уже сгорел, под остатками обвалившейся крыши они нашли обгоревшие, скорчившиеся в ужасных муках тела. «Разве можно простить, разве можно не отомстить за страдания, за бедствия, причиненные фашистами нашей стране, нашим людям?» — он почти выкрикивал эти слова, кончая свою речь.
Наступила тишина, тишина, полная глубоких размышлений. И вдруг, как издевка, как грубая насмешка, прозвучал вопрос, мелочный и практичный, заданный матерью шуцмана Саркалиса:
— Разрешите спросить, как же будет с поставками?
С другого конца двора ее поддержал голос, более тонкий и менее смелый:
— Да, этой осенью надо бы освободить, сами рассказывали, как все разрушено.
И в ту же минуту из толпы раздалось шипение Густа Дудума:
— Ну да, разве кто-нибудь с латышей снимет поставки?
Озол весь задрожал. Вот что приросло у них к сердцу — узкие интересы, горсть семян, кусок масла.
И как последняя капля, переполнившая чашу, — вопрос, заданный, кажется, Янсоном:
— А как с рынком? Будет опять, как при немцах?
Озол спрятал руки в карманы. Надо было совладать с рвавшимися наружу словами, проглотить их, как колючий комок. Не для этих людей говорил он эти пылкие слова, не на них надо рассчитывать в деле восстановления. Вот молчит Балдиниете, у которой немец отнял двух сыновей, — в ее сердце, а не в доме, — его тоже немцы сожгли, — нашли приют два осиротевших русских мальчика. Молчат Пакалны — отец и сын, маленькую любимицу которых немец столкнул в ужасную пропасть смерти. Молчат Лидумиете и Эрик — свежая могила дочери и сестры убедительнее любых слов говорит им о том, кто такие немцы.
Но на вопросы все же надо ответить, ответить спокойно и деловито. В действительности он должен был их затронуть в своей речи, но он забыл, вернее — не представил себе, что Яну Приеде, который должен был их разъяснить, так трудно будет войти в свою новую работу.
Когда он кончил, раздался спокойный голос старого Пакална:
— Правильно. Начинайте-ка поскорее запись населения, надо кончать уборку.
7
РАЗОРВАННЫЕ УЗЫ
Когда Эльза Янсон получила в уездном комитете комсомола задание направиться в свою родную волость и создать там первичную комсомольскую организацию, ей показалось, что у нее земля поплыла под ногами. В первое мгновение она только сообразила — ей предстоит встретиться с Артуром. Она знала, что угнанные жители вернулись; Озол, уже несколько раз обошедший волость, рассказал Эльзе, что возвратился и ее бывший муж. Не встретиться с ним будет невозможно. Он остановит ее даже посреди дороги и станет умолять вернуться. Но для нее нет возврата, а есть только один четко очерченный путь, и по нему она уже идет вместе с Вилисом Бауской, бывшим бойцом латышской дивизии, изувеченным в великих боях. Ее жизнь больше никогда не будет такой спокойной и тихой, какой она была с Артуром; теперь ее увлекают широкие просторы, где ветер треплет волосы, которые больше не лежат приглаженными, с завитыми парикмахером локонами. Она больше не излучает благоухания парижских духов, которые дарил ей Артур, — за время войны ей стал знаком запах пота, и она знает, что без этого не восстановить разрушенного немцами. Ее руки, прежде такие белые и мягкие, огрубели и окрепли на горьковском заводе. Чем была ее прежняя жизнь у отца — учителя, потом у Артура? Ребячеством, — плесканьем в маленьком пруду, без цели, без содержания. «Но ты ведь когда-то была довольна такой жизнью?» — спрашивала она себя и вспоминала необъяснимое томление и беспокойство, тяготившее сердце в часы одиночества. Вспомнила, что всегда чего-то ждала, не умея сказать — чего именно. Ей казалось, что она жаждет какой-то настоящей жизни, но не знала, какова эта настоящая жизнь. Она лишь чувствовала — ей чего-то недостает. Что-то вокруг не так, как хотелось бы. Ей недоставало понимания смысла жизни и своего существования. Дни кое-как заполнялись хозяйством и книгами, которые она, прочитав, спокойно клала на полку — к ним уже больше не влекло; вечера проходили в скучных разговорах о происшествиях дня, иногда она отправлялась на банальные вечеринки, на танцы. Временами казалось, что все так и должно быть, чего еще требовать от жизни. Но часто ею овладевала гнетущая тоска, и тогда она искала ссоры с Артуром, которые были глупыми и мелочными. Он был терпелив, посылал ее к невропатологу, но ей было стыдно обращаться к врачу, тот мог бы принять ее недовольство за капризы бездетной барыньки. Она и не чувствовала себя больной и знала, что врач не поможет ей. Нужно было какое-то большое потрясение, какой-то порыв свежего ветра, который разогнал бы затхлость в ней и вокруг нее. Поэтому она с искренностью, на какую только способна молодость, приветствовала сороковой год, первый год Советской власти, — тогда ей было лишь двадцать два года, — она приветствовала его, еще не понимая всей глубины и сущности великих преобразований. Лишь чувствовала, что происходящее ново, свежо и правдиво, что это захватывает и заставляет расцветать, как весна заставляет расцветать дерево. Эльза вступила в комсомол, не слушая предупреждения Артура: выждать, посмотреть, что будет дальше. Ей хотелось быть деятельной, и она была счастлива, что комсомольцы местечка и волости, эти простые, сердечные ребята, приняли ее в свою среду, не оттолкнули.
Она вспомнила день, когда ее принимали, свое детское воодушевление и чувство горечи, которое вызвал в ней какой-то паренек. «Я сомневаюсь, — сказал он, — хватит ли у товарища Янсон сил, чтобы идти с нами. Ей недостает жизненной закалки». В это мгновение у нее из глаз брызнули слезы, она не знала, как себя защитить, — и что она могла сказать? Рассказать о своих сумбурных стремлениях? К счастью, ей не пришлось этого делать, за нее ответил секретарь комсомольской организации. «Если какой-нибудь строй сменяется новым, более прогрессивным, то лучшая часть интеллигенции переходит на сторону нового строя, — сказал он. — Товарищ Янсон по своему положению в ульманисовское время могла стать членом организации айзсаргов, но нам известно, как далека она была от этих забав дочерей богатых хозяев. Поэтому у нас нет основания оттолкнуть ее, будущая работа ее покажет, достойна ли она быть членом славного Ленинского комсомола».
Тогда Эльза не успела проявить себя. Правда, она взялась за работу с жаром, организовала красный уголок, руководила кружком самодеятельности, но не чувствовала под ногами твердой почвы, она по-настоящему не понимала причин возникновения Советского государства, какие им руководят силы и куда оно ведет своих граждан.
Понимание этого и закалку, в которой тогда усомнился юноша, она приобрела позже, в суровые годы войны, когда работала обыкновенной работницей на большом заводе в Горьком и познакомилась с советскими рабочими. Была первая военная зима, невероятно мрачная, холодная и тревожная. Немцы стояли у ворот Москвы, столица частично была эвакуирована, и часть ее мирного населения проходила через Горький. Небольшая группка латышей собиралась ехать дальше, в глубокий тыл; иные оправдывались перенаселенностью города, иные боялись воздушных налетов, а кое-кто открыто выражал опасения, что Советский Союз не выдержит. Звали и Эльзу. Она не может похвастать, что ни минуты не колебалась. Быть может, все же было бы безопаснее уехать? Об этой возможности она, как бы шутя, рассказала старому рабочему Матвею Емельяновичу. Он серьезно посмотрел на нее, не останавливая токарного станка, сказал: «Кто сомневается, тот не побеждает. Мы в победе нашей страны не сомневаемся. Если мы побежим к иранской границе, то немец настигнет нас уже на полпути. Если же каждый из нас останется на своем месте, то фашист сломает себе зубы вот об этот же кусок стали, который я обтачиваю».
Она осталась на месте, пока партия не направила ее в Киров, на курсы партийных и советских работников. И здесь она поняла все то, чего не могла понять в сороковом году. Она поняла сущность своей прежней среды, разглядела то, чего не видела раньше, когда испытывала смутные стремления к чему-то другому. Советское государство было тем «другим». Это она почувствовала, когда оно было создано, именно почувствовала, но теперь — она знала. И вся ее новая жизнь, все, что она обрела, освободившись от прежнего чувства неполноценности, теперь в сокровеннейшем уголке души было связано с Вилисом Бауской. Артур, как и вся прошлая жизнь, казался ограниченным, незначительным и скучным. Она еще не встретилась с Артуром, но уже одно то, что он остался вместе с теми, кого она с первых дней ненавидела, как воплощение отвратительнейшего зла, проводило между ними резкую грань, перешагнуть через которую не в состоянии ни он, ни она.
Эльза позвонила Вилису в уездный исполком и сообщила о своем новом задании. Она услыхала, как он сперва глубоко вздохнул, что делал всегда, когда хотел скрыть свое волнение.
— И когда ты поедешь туда? — спросил Вилис с деланным равнодушием.
— Завтра утром, — ответила Эльза и добавила: — Сегодня уже поздно.
— Но ты охотно поехала бы и сегодня? — снова, переведя дух, продолжал Вилис расспрашивать в довольно резком тоне.
Эльза не понимала, почему он задал этот вопрос. Она удивилась его волнению и, стараясь понять, замолчала.
— Тебя ведь там очень ждут! — в голосе Вилиса слышалась горечь и ирония.
Лишь теперь Эльзе стало ясно, почему Вилис порою становился мрачным и резким, когда она вспоминала свою родную сторону; он опасался, не воскреснет ли с неудержимой силой прошлое, связывающее ее с Артуром, как только она увидит свой бывший дом и встретит своего бывшего мужа, который ждал ее. «Ждал — и только пил!» — вспомнила Эльза рассказ приятельницы, и верность Артура ей показалась ничего не стоящей. С Артуром и его миром она уже покончила, но как это доказать Вилису, как заговорить с ним об этом? Он никогда не упоминал имени Артура, так же как и она. Вилис, добрый, хороший, наверное, втайне мучился, опасаясь, что она может уйти. Но нельзя же было по телефону сказать слова, которые бы убедили его, и она почувствовала, что ответ получился сухим.
— Ты возвращайся пораньше домой, тогда поговорим.
Вилис в самом деле пришел раньше обычного — часы показывали лишь девять. Но он был замкнут, неразговорчив. Эльза растерялась, и все теплые слова, которыми она готовилась его встретить, растаяли. Они молчали, и чем больше затягивалось молчание, тем тяжелее и мучительнее становилось оно. Эльза поставила на стол ужин, но Вилис не дотронулся до него и даже не ответил, когда она ему предложила есть. Он как бы еще глубже ушел в себя, еще больше ссутулился на своем стуле, оперся локтем здоровой руки о колено, а щеку подпер ладонью. Левая перебитая рука безжизненно повисла и своим бессилием резко отличалась от правой, сильной и волевой. Эльза смотрела на него и думала: почему он временами бывает таким суровым и причиняет боль себе и ей. Разве не было бы лучше сказать все, чем таить на сердце. Артур этого никогда не делал — невольно сравнила она, и это сравнение вывело ее из оцепенения. Она даже покраснела, вспомнив свой разговор с Озолом, когда они вместе возвращались в родную сторону. Почему она, когда Вилис переживает минуты подавленности, сравнивает его с Артуром? Артура она больше не любит, когда она видит его фотокарточку, валяющуюся вместе со старыми документами на дне чемодана, ни одна струнка не дрожит в ее сердце. Но она боится, не виною ли этому застрявшая где-то, еще непреодоленная, тайная тоска по тихим будням, привычному домашнему уюту.
Все ли перечувствованное и пережитое сегодня является искренним, не временное ли это увлечение? Ей стало стыдно за свое мысленное сравнение: Артур так никогда не поступал. Конечно, Артур никогда так не поступал, Артуру никогда ничто не было так дорого, как домашний уют, привычный порядок с точно отведенными часами для еды и сна, от которого его, наверное, не могло заставить отказаться даже такое потрясение, как война. И все же — он начал пить! Представив себе Артура пьяным, она усмехнулась. Эта неуместная усмешка вывела Вилиса из оцепенения. Он стремительно встал, накинул шинель, сунув в рукав правую руку, и взял портфель.
— Куда ты идешь? — испуганно воскликнула Эльза.
— На работу, — Вилис ответил так спокойно, словно ничего не произошло, словно он только для того и пришел домой, чтобы посидеть и отдохнуть.
Дверь за ним захлопнулась, и Эльза съежилась от ее слабого стука.
«Значит, вот какой ты у меня! — подумала она и рассерженная, вскочила со стула. — Ни одного слова не мог мне сказать. Ни одного слова! Не надо было слов, достаточно бы взгляда. Ушел, ощетинившись, как еж. Пусть будет так! Пусть будет, если ты этого хочешь, но потом пеняй на себя».
Она начала убирать со стола, прислушиваясь, как гремят тарелки, ударяясь одна о другую. Идя на кухню, она случайно бросила взгляд в зеркало, висевшее рядом с дверью, и увидела разобиженное, сердитое лицо. «Где она уже видела эти хмурые, выражающие пустое самолюбие черты? Ах, да, однажды еще подростком, она написала школьное сочинение, по ее мнению — очень оригинальное, но учитель назвал его плохой копией с прочитанных романов. И еще — как-то Артур единственный раз задержался на работе позже обычного, и они не смогли пойти куда-то в гости.
— Это остатки от прежней Эльзы, — она сморщилась и отвернулась. — Не станешь ли ты еще требовать, чтобы Вилис тебя баловал так же, как Артур, чтобы застегивал на ботах пуговицы, открывал бы тебе двери, точно у тебя самой нет рук?
— Да, разве я этого жду? — возражала она себе. — Нет, не этого. Я только хотела, чтобы он был со мной откровенен. Чтобы раз навсегда перестал подозревать меня в том, что я увлеклась им на время, до встречи с Артуром.
— Но что ты сделала сама, чтобы рассеять его подозрения? Только ждала, чтобы он первым начал говорить, уверял бы, что без тебя жить не может. Разве ты не ждала этого, ну, признайся?»
— Ждала… — прошептала она. — Все же, наверное, ждала. По крайней мере, мне бы понравилось, если бы он мне сказал, что я ему необходима. Это у меня еще от прежней Эльзы, я вела себя с Вилисом не по-товарищески, а чисто по-женски.
Она не хотела больше задерживаться ни минуты. Надо было увидеть Вилиса. Она надела пальто и пошла в исполком. На улице ее обдало спокойное дыхание осенней ночи. Приветливо мерцали крупные и мелкие звезды. Липы и клены стояли безмолвные и торжественные, словно готовились к бурному «листопаду». «Какая красота, какая бесконечная красота!» — радовалась Эльза, словно впервые видела звезды, осень, словно впервые прислушивалась в тишине к шороху деревьев. Через несколько минут взгляд ее остановился на развалинах сгоревшего дома — закоптелое, призрачное видение. Война. Здесь недавно прошла война. И так будет не один день: рядом с красивым, рядом с новыми посевами и насаждениями — развалины и пепел.
Эльза вбежала в исполком, стремительно поднялась на второй этаж и, не постучав, распахнула дверь в комнату Вилиса. Он как раз говорил по телефону. Увидев Эльзу, поднял глаза — спокойные, приветливые и, не прерывая разговора, кивнул на стул.
— Значит, договорились, — повторил он, — завтра комсомольские и молодежные бригады приступят к уборке урожая. В первую очередь на тех участках, где хозяева еще не вернулись. Мы не должны дать погибнуть зерну. И остальных, кто постарше, тоже надо привлечь. В воскресенье я пойду посмотрю, как у вас дело идет.
Он положил трубку и улыбнулся Эльзе.
— Хорошо, что ты пришла, — сказал он, подсаживаясь к ней. — Ты поможешь им создать первичную комсомольскую организацию. Надеюсь, что справишься. У Озола дочь комсомольского возраста. Ты добейся, чтобы ни одного колоса не осталось в поле. Вообще, с работами надо торопиться. Скоро будет мобилизация, тогда останутся одни старики и женщины. У тебя командировка надолго?
— Приблизительно на неделю, — рассеянно ответила Эльза.
— Значит, ты кое-что успеешь, — снова улыбнулся Вилис.
Эльза вопросительно посмотрела на него. Какая резкая перемена, какой перелом произошел в нем за это короткое время, удивлялась она. Является ли это спокойствие настоящим, или же он обуздал себя, чтобы не расстраивать ее перед поездкой в волость?
«Как бы то ни было, — она решительно вскинула голову, — я все же буду говорить».
— Вилис, — начала она, — я по отношению к тебе не была такой, какой должна быть.
Он нервно махнул рукой.
— А я-то уж совсем не был таким, — перебил он Эльзу, понурив голову. — Как бы это сказать? Я ревновал тебя. Однажды, разыскивая полотенце, я в твоем чемодане увидел карточку, на которой ты вместе с Янсоном. Она мне показалась мостом, которого ты еще не сожгла. Казалось, что ты бережешь карточку, как пропуск для возвращения к нему. Это мое самолюбие, оно мучило меня и тебя, не правда ли?
— Нет, нет! — громко воскликнула Эльза. — Это с моей стороны было самолюбие, остатки моего мещанства.
— Погоди, Эльза, дай мне договорить, — Вилис взял ее руку. — Когда я сегодня вечером вернулся на работу, я переломил себя. Подумав о том, сколько у меня еще работы сегодня, завтра, послезавтра и в течение еще многих лет, я внезапно понял, что отношения между людьми должны быть такими, чтобы они помогали справляться с работой, а не мешали ей, и я твердо решил дать тебе самой решить, останешься ли ты со мной или…
— Вилис! — почти закричала Эльза и закрыла ему рот рукой. — Ты не смеешь так говорить! Для меня нет никакого возврата, никаких мостов, и никаких пропусков я не храню. Эта карточка там валяется только потому, что она мне безразлична. Для меня существуют только ты и работа, и комсомол. Это мне уже давно надо было сказать тебе, но я ждала, чтобы первым заговорил ты.
— Вот как? — Вилис серьезно посмотрел на нее. Но затем его глаза стали задорными и радостными, он взял Эльзу за плечи и привлек к себе.
— Давай договоримся, — сказала Эльза, заглянув ему в глаза, — в будущем запрещается носить за пазухой камень. Если здесь что-нибудь не в порядке, — она прижала руку к сердцу, — то об этом надо сказать.
— Договорились, — Вилис поцеловал Эльзу. — Ну, теперь марш домой, спать, и не мешай мне работать!
Утром к Вилису и Эльзе зашел Озол вместе с секретарем уездного комитета партии Рендниеком.
— Я слышал, что ты направляешься в свои края, — поздоровавшись, сказал Озол. — У меня просьба, — не сможешь ли передать моей дочке и Зенте Плауде посылочку. — Он вынул из кармана две конфетки, которые оставил от чая в столовой.
— Зента Плауде тоже там, на месте? — обрадовалась Эльза. — Мирдза да Зента, — значит, две новых комсомолки мне обеспечены.
— Могу тебе порекомендовать и третьего — Эрика Лидума, — вставил Озол.
— Правда, разве и Эрик согласен? — удивилась Эльза. — У него ведь такая набожная мать.
— Во-первых, — улыбнулся Озол, — я могу тебе посплетничать, что он пойдет туда, куда пойдет Мирдза, а во-вторых, — и он стал серьезным, — эти люди, так сказать, прошли через немецкие жернова. — И он рассказал о том, что видел в волости после своего возвращения, чтобы Эльза знала, кто друг, кто враг. — Во всяком случае, я встретил много хороших людей, которых мы не должны упускать из виду. На таких, как Пакалн, Гаужен, Балдиниете, вполне можно будет опереться.
— Но как ты думаешь, — спросил Вилис, — Салениек говорил от сердца или же это было минутное вдохновение?
— Говорил-то он от сердца, — задумчиво ответил Озол. — Вопрос только — насколько у него хватит выдержки.
— У меня все же нет доверия к этим хозяйским сынкам, — презрительно усмехнулся Вилис. — Мне кажется, все они одинаковы.
— Нельзя так просто решать вопрос, — вмешался в разговор Рендниек. — Несомненно, многие из них прислушиваются к своим классовым инстинктам, но есть и такие, которые видят и трезво оценивают несуразности классового общества. Конечно, нам еще предстоит пережить острую, очень острую классовую борьбу. Она разгорится сразу же, как отодвинется фронт. Сейчас враг только скрежещет зубами, но когда мирные жители останутся одни, то он поднимет голову.
— Мне все же не верится, что он посмеет что-нибудь предпринять, — возразила Эльза. — Главная его опора — фашисты — скоро будут разбиты. На что он может надеяться?
— Не будьте так наивны, товарищ Эльза, — серьезно предупредил ее Рендниек. — Все эти шуцманы, которые в немецкое время наживались на расстрелах коммунистов и евреев, — они ведь сознают, что теперь с них спросят за их зверства. Не все удрали в Германию, их там никто не ждет. Они будут вести хотя и безнадежную, но отчаянную борьбу и так просто не сдадутся.
Когда гости ушли, Эльза собралась в дорогу. Еще накануне вечером она условилась поехать вместе с военными, которые на нескольких машинах направлялись к фронту. Она уселась между двумя бойцами. Одного из них, что помоложе, звали Митей; другой был пожилой мужчина с рыжеватыми усами.
— Как вам нравятся наши края? — спросила Эльза Митю.
— Красиво тут, ничего не скажешь, только скучновато, — ответил за Митю усач.
— Почему скучновато? — удивилась Эльза.
— Да вы посмотрите на эти крестьянские дома, — солдат очертил рукой широкую дугу. — Отбежали друг от друга так далеко, что в рог трубя не скличешь. Кругом заборы, злые собаки, не подходи, мол, сосед ко мне близко. Люди тоже какие-то мрачные, не соберутся вместе, не попоют, не потанцуют. Если захотят посмотреть кино или побывать в театре, — ходят за десять-пятнадцать километров. Сидит каждый в своем доме, как улитка в раковине. У нас все же веселей — работаем вместе, поем, о серьезных вещах толкуем. Тут же вам библиотека, клуб, всякая самодеятельность.
— Зато у нас развита любовь к природе. Каждый старается свою усадьбу по возможности разукрасить садами, цветами, — защищалась Эльза.
— Любовь к природе — это хорошо, но общение с людьми все же больше нужно, — вмешался в разговор офицер. — Цветок или дерево не поймут тебя, а с человеком можно поговорить о всех радостях и невзгодах.
Немного подумав, Эльза сказала:
— Мне кажется, что у каждого народа есть своя особенность. Латыши по своей природе более замкнуты. Зачастую они пытаются скрыть свое горе от соседа улыбкой. Приветливость и внимание они больше проявляют на деле, чем на словах. О характере в настоящий момент трудно судить. Здесь только что прошла война. Почти каждый потерял кого-нибудь из близких. Дома опустошены. Кроме того, людей в течение трех лет запугивали разными ужасами о большевиках. За эти годы они так запуганы, что даже собственному брату не верят.
— Так бывает, когда у человека нет твердых взглядов на жизнь, — сказал офицер. — В круговороте событий он не видит главного. Бояться большевиков может только их убежденный враг или человек, который не слышал о наших целях и не понимает их.
— Трудно очистить голову людей от мусора, которым их начиняли в течение десятилетий, — заметила Эльза, вспомнив свои школьные годы. — Школа, литература, церковь всячески старались притупить сознание, чтобы человек не научился думать.
— Вы советский или партийный работник? — спросил кто-то.
— Комсомольский, — ответила Эльза.
— Тогда вам будет легче работать, — улыбнулся офицер. — В мозги молодежи этот мусор не так въелся.
— Людей старшего поколения тоже нельзя мерить всех на один аршин, — энергично ответила Эльза, вспомнив рассказ Озола о жителях волости. — В партизанах ведь были люди самых разных возрастов. А те, которые не боролись открыто, по большей части вели себя так, что народу за них не стыдно. А работу с молодежью я себе представляю вовсе не такой легкой. Старшее поколение еще может сравнивать с прошлым, а молодежь — нет.
— А времена ульмановского фашизма? — спросил офицер.
— Для несозревших умов именно оно и было самым вредным, — улыбнулась Эльза. — Коммунисты были загнаны в глубокое подполье, встречи с ними были случайными и рискованными. Латышская так называемая классическая литература настраивала молодого гражданина на замкнутость и молчание, современная же все больше воспевала прелести деревенской жизни в кулацкой усадьбе.
— Ну, а такие факты, как безработица и тому подобное? — перебили Эльзу вопросом.
— В данном случае людей убеждали, что это лишь индивидуальное несчастье того или иного человека, — сказала Эльза, подумав. — Ведь проповедовали же, что при наличии предприимчивости и толковой головы, каждый пастушонок может стать миллионером. Трудности испытывали десятки тысяч, но лишь сотни разбирались в настоящих причинах. Правда не доходила до всех. Ей просто затыкали рот.
— Скажите, а как вы узнали правду? — спросил кто-то. — Вы тоже работали в подполье?
— Нет, — ответила Эльза и покраснела. — Правду я узнала в вашей стране.
— Вы в эти годы были там? — заговорил усатый сосед. — А теперь, стало быть, вернулись домой. Семья-то в целости?
Эльза снова покраснела. Как признаться, что муж, молодой, здоровый человек, служил оккупантам? В это мгновение она почувствовала, как сильно ненавидит Артура, презрения одного было мало. Трус и тряпка — и ему она посвятила свои лучшие чувства, первую любовь!
— У меня здесь нет семьи, — холодно ответила она. — Когда-то был муж. Но он остался жить с немцами. В эти годы, когда приходилось видеть так много страданий, так много убитых и искалеченных людей, я часто думала: смогла бы я подать руку кому-нибудь из оккупантов? Мне казалось — нет, казалось, что моя жизнь будет слишком короткой, чтобы все это забыть. И когда я, приехав сюда, узнала, что мой муж сидел за одним столом с оккупантами и шуцманами, пил вместе с ними, то почувствовала, что не смогу подать ему руки даже как обыкновенному знакомому.
— Вы очень горячая, — сказал сидевший напротив офицер. — Мне нравятся такие люди! Не люблю вялых, заржавелых, равнодушных. Любить так любить, а если презирать, то так, чтобы врагу от одного взгляда твоего страшно становилось.
Уже замелькали знакомые места родной волости Эльзы. С интересом она смотрела на ближайшие к дороге дома, пытаясь угадать, остались ли хозяева или уехали с немцами. Какой-то чужой показалась родная сторона, природа изуродована, поля заросли сорняками, дома стояли оголенные — вместо яблонь вокруг них чернели пни, заборы обвалились, цветочные клумбы запущены или вытоптаны. У нее дрогнуло сердце: «Что с тобой сделали, любимая, родная сторонка!»
На большаке она увидела молоденькую, одетую в легкое платье девушку. Энергичная и задорная походка показалась знакомой. Машина быстро нагнала девушку, и Эльза успела посмотреть ей в лицо. Мирдза! Мирдза Озол! Перед войной она была еще школьницей, а теперь выросла в стройную, красивую девушку. Эльза помахала рукой, и Мирдза ответила ей тем же.
— Это ваша знакомая? — спросил один из офицеров. — Подвезем ее немного. — Он велел остановить машину и помог Мирдзе перелезть через борт. Усач пересел подальше, уступив девушке место. Большие голубые глаза ее приветливо улыбались.
— Знакомьте нас, Эльза Петровна, — раздалось сразу несколько голосов.
— Зовут ее Мирдза, — сказала Эльза, — а это…
— А мы — большевики! — перебили ее. — Ну и страшно же вам, Мирдза, а?
Мирдза громко засмеялась. Она понимала по-русски, но говорить стеснялась, боясь ошибок. Поэтому она сказала Эльзе по-латышски:
— Тогда мне своего отца тоже надо было бы бояться.
Эльза перевела ответ — и эти слова сразу сблизили девушку и военных.
Упоминание об отце напомнило Эльзе о переданной «посылочке». Она вынула из кармана одну конфетку и подала Мирдзе, сказав:
— Чтобы не забыть, отдам сразу. Это тебе посылает отец. Наверное, ты у него хорошая дочь.
Бойцы смеялись над смущением и детской радостью девушки, спрятавшей конфету в карман.
— Вряд ли это понравится ей, — поддразнил кто-то, — немецкие офицеры, наверное, угощали шоколадом.
— Плевала я на их шоколад! — возмущенно воскликнула Мирдза.
— Вот молодец, девушка! — засмеялся один из офицеров и положил ей на колени конфету. Теперь со всех сторон к Мирдзе тянулись руки, предлагавшие шоколад, печенье, а усатый солдат вытащил из кармана кусок сахара. Мирдза покраснела. Ей было так хорошо среди этих простых, сердечных людей. Они вели себя с ней, с чужой девушкой, как с товарищем, человеком, младшей сестрой, хотя она с ними и говорить-то как следует не умела.
Машина приближалась к местечку. Эльза жадно смотрела на знакомые, близкие пейзажи. Вот кладбище. Обычно в эту пору года под березками расстилался ковер белых цветов. Теперь березы повалены вдоль и поперек, могилы изрезаны траншеями, кресты разбросаны, памятники опрокинуты.
«Найду ли я еще могилу матери или отца!» — Эльза помрачнела. Для этих немецких громил не было ничего святого и неприкосновенного, они нарушили покой даже на кладбище, превратив его в поле боя. От церкви остались закоптелые стены, а там, где стоял народный дом, даже фундамента не видно было.
Машина переехала через временный мост, построенный рядом со сгоревшим. За рекой начинался более оживленный район, здесь сохранились жилые дома. Встречные с любопытством смотрели на девушек, сидевших между военными. Эльза узнавала некоторых прохожих и здоровалась. Те удивленно останавливались и смотрели вслед, словно не узнавали.
И вот она увидела того, кого так боялась встретить. Она увидела Артура. Он шел по обочине дороги, понурив голову, шляпа съехала на затылок, потертое пальто было расстегнуто. Он пытался ступать твердо и прямо, но то одна, то другая нога отклонялась в сторону, увлекая за собою его стройную фигуру. Артур был пьян.
Когда машина с ним поравнялась, он посмотрел на нее пустыми глазами и его взгляд тупо скользнул вниз. Потом его словно осенила внезапная вспышка воспоминаний, он стремительно повернулся и посмотрел вслед машине, сбавлявшей скорость. Эльза видела, как он, должно быть, не поверив себе, вяло махнул рукой и хотел уже поплестись дальше, но вдруг снова обернулся и стал смотреть на машину и замахал, словно делая знак, чтобы грузовик остановился. Как это ни неприятно было, но пришлось остановиться, так как Мирдза сказала, что они уже доехали до исполкома — их конечной цели.
Тепло простившись с военными, Эльза и Мирдза слезли.
— Приезжайте к нам к Октябрьским праздникам на фронт! — кричали им из машины.
— Тогда вы уже будете в Германии, а у нас нет заграничных паспортов, — пошутила Эльза.
— Хорошие девушки! — услышали они за собой.
Мирдза не повела Эльзу сразу в исполком, думая, что та хочет обождать своего мужа, поздороваться с ним. Но Эльзе казалось, что у нее земля горит под ногами, а воздух сгустился, как летом перед грозой. Она поговорит с Янсоном, скажет ему все — смелости у нее хватит, но ей угрожало это неприятное объяснение на улице, на глазах у людей, с пьяным человеком, которому нельзя дать понять взглядом, несколькими словами, что здесь не место ни для идиллической встречи двух любящих друг друга людей, ни для восстановления разорванных уз. Эльза схватила руку Мирдзы, крепко сдавила, впившись ногтями в ладонь.
— Мирдзинь, пойдем быстрее, — прошептала она, сжимая зубы.
— Ах, так, — наивно сказала Мирдза и стремительно увлекла Эльзу за собой по ступенькам.
В помещении исполнительного комитета, к счастью, не было посетителей. Там сидели лишь Зента и Ян Приеде, которого Эльза не знала. Зента бросила карандаш и кинулась обнимать подругу детства. Эльза целовала Зенту, слышала ее шумные выражения восторга, но слов не могла разобрать, — она настороженно посматривала на дверь — не откроется ли она, не войдет ли Артур.
— Зентынь, — попросила Эльза, — нет ли здесь какой-нибудь свободной комнаты? Хочу переодеться, запылилась в дороге, — наспех она ничего другого не могла придумать.
— Милая, я живу за городом, в своей старой халупке, — развела Зента руками. — Сейчас мы сбегаем на обед. Я для тебя даже баньку истоплю.
За окном мелькнула шляпа Артура, и сразу же на ступеньках послышались его неуверенные шаги, дрожащая рука открыла дверь, и он вошел.
— Не Эльза ли это приехала? — спросил он.
— Ну, конечно, она! — весело ответила Зента, не подозревая о переживаниях подруги. — Примите ее из моих рук, хотя она сначала хотела приготовиться к этому торжественному моменту.
— Эльзинь, Эльзинь, ты… ты… — запинался Янсон, приближаясь к Эльзе. — Как я тебя ждал!
— И пил, — резко перебила его Эльза.
— Да… это только так… от тоски… но не всегда… — оправдывался он. — Эльзинь, дорогая… — Он хотел ее обнять.
Эльза отступила и, защищаясь, подняла руки:
— Нет, чужие люди так не здороваются, — сказала она, отчеканивая каждый слог.
— Чужие… я чужой?.. ты чужая? — заикался Артур.
— Мы чужие, — ответила Эльза и удивилась, какое спокойствие, холодное, безразличное спокойствие овладело учащенно бившимся сердцем и разогнало прихлынувшую к мозгу кровь.
— Как же так, я ведь ждал тебя?.. — не унимался Артур.
— Ты сейчас в таком состоянии, что серьезно говорить с тобой нельзя, — твердо сказала Эльза. — Иди домой, проспись, а завтра поговорим обо всем.
— Иди домой?.. Пойдем домой, Эльзинь! Я привел в порядок твою комнатку… Твои вещи я зарыл в землю. Все уцелело… Теперь они опять сложены, как были. Ты увидишь… Я все помню, где что стояло.
— Это больше не моя комната, и я туда ногой не ступлю, — раздраженно воскликнула Эльза. — Прошу тебя, иди же! — она чувствовала, что жестока, но быть такой ее заставлял жалкий, несчастный вид Артура. Он стоял перед ней отчаявшийся и растерянно мял в руках шляпу, на осунувшемся лице не было ни кровинки.
Он был похож на человека, нуждающегося в помощи, в сильной руке, которая послужила бы ему опорой, а этой опорой могла быть только ее рука, никто другой спасти его не мог. Но тогда ей нужно пожертвовать собой — бросить Вилиса и всю эту полную горения новую жизнь, бурлящую вокруг нее; она должна свернуть с широкой дороги в гору — в узкий тупик. «Он ждет от меня жертв? — Эльза разжигала в себе гнев, чтобы освободиться от жалости. — Но какую жертву принес он сам? Подлизывался на пирушках к шуцманам, чтобы спокойно пережить войну. А там — милостивая судьба вернет любимую женщину. Пацифист ведь не может стать партизаном!»
— Эльза! Ты меня больше не любишь! — воскликнул Артур, вдруг поняв все. Он опустился на стул, голова упала на колени, и все тело начало вздрагивать от безудержных рыданий. Зента и Мирдза застыли, сбитые с толку, случайный свидетель всего этого Ян Приеде не знал, как поступить: уйти в свою комнату, закрыть двери канцелярии? Неожиданно для всех он подошел к Янсону и положил руку ему на плечо.
— Поднимитесь, Янсон, в мою комнату, — предложил он. — Как же так… Могут зайти люди.
Янсон встал и покорно пошел за Яном. Куда — ему было безразлично.
— Не любишь… ты меня не любишь… — уныло шептал он.
Эльза вздохнула. Почему здесь, подле нее, нет Вилиса, доброго, сильного человека, который одним взглядом, одной улыбкой освободил бы ее сердце от тяжести этой встречи.
— Девушки, — Эльза спохватилась, что подруги ждут объяснения, — я знала, что это будет тяжело, но не думала, что так тяжело, так неприятно, но я ведь не могу иначе. Я не могу лгать. Не могу кривить душой.
8
ЧЕСТЬ И КОРЫСТЬ
На следующее утро Эльза встала бледная, но решительная. Она снова и снова думала о вчерашней встрече с Артуром и доказывала себе, что не могла иначе говорить и поступить с ним. Она сожгла последний мост к прошлому, и ей больше не надо будет оглядываться назад. Если вчера, когда она ехала сюда, встреча с Артуром ее пугала, если она еще испытывала нечто вроде сознания вины, то сегодня, после бессонной ночи, она чувствовала себя бодрой, сильной и обновленной, словно после трудного рабочего дня умылась холодной водой. Теперь, если Артур захочет, она скажет ему все, спокойно, но твердо. Встреча уже не могла взволновать ее, она даже начинала казаться ей скучной.
Эльза обтерлась холодной водой. Прохлада вселила в нее радостную бодрость. Пока Зента помогала матери готовить завтрак, она вышла в поле. Пшеница, к концу сентября не скошенная, как бы взывала к осеннему солнцу: где те руки, которые соберут меня? Далее простирались овсы, картофель, наполовину скошенное ржаное поле; посреди него стоял большой жилой дом с каменным хлевом и просторными хозяйственными пристройками. Восточный ветер хлопал дверями, закрывал и открывал рамы. Людей не было. Эльза машинально сорвала пшеничный колос и размяла его в пальцах. На ладони остались зерна — крупные, круглые, как вербные сережки, сильно созревшие. Как они не осыпались до сих пор, словно ждали возвращения хозяев? Нет, нельзя терять ни одной минуты, надо созывать людей и начинать уборку.
Когда Эльза вернулась к Зенте, там уже сидела Мирдза. Завтракая, Эльза исподтишка рассматривала обеих девушек. Кого из них выбрать волостным организатором комсомола? Зента была старше, более зрелой и интеллигентной, окончила среднюю школу и больше читала, но в Мирдзе чувствовалась пылкость, порыв молодости, неудержимое желание быть деятельной. Пожалуй, сельская молодежь поймет ее лучше, она будет говорить на более доступном для нее языке.
— Девушки, сегодня у нас много работы, — начала Эльза. — Во-первых, вы еще не подали заявлений о вступлении в комсомол…
— Ой, боже, как бы я не хотела, чтобы моя дочь вмешивалась в политику! — воскликнула мать Зенты и сердито посмотрела на Эльзу. — Это уж, право, не женское дело — возиться с партийными делами.
— В Советской стране так не водится, чтоб мужчинам было позволено одно, а женщинам другое, — возразила Эльза, улыбнувшись. — Советские женщины во всем равны с мужчинами. И в политике тоже.
— Ну да, тогда оденьте на всех штаны и суньте всем трубки в зубы, — ворчала мать.
Мирдза захохотала и выбежала из-за стола.
— Не бойся, мамочка, — улыбнулась и Зента. — Моей внешности политика не испортит.
— Да разве я говорю о внешности? — не унималась мать. — Ты ведь сама видела, какие времена были. Комсомольцев вешали и расстреливали. Хорошо, что ты до войны не вступила.
— И глупо сделала! — вспылила Зента. — Уехала бы вместе с Эльзой, многое бы увидела и многому бы научилась. А теперь эти три года прожиты, как в яме.
— И зачем Эльзе надо было скитаться по белому свету? Жила бы под крылышком мужа, как на печи. — Мать пытливо разглядывала гостью. Очевидно, ей казалось странным, что та ночевала у них, а не в своем доме, у мужа.
— Я еще слишком молода, чтобы мечтать о печи, — усмехнулась Эльза. — За эти годы я все же кое-что сделала, чтобы прогнать немцев.
— А нам с Зентой еще многое надо сделать, — вмешалась в разговор Мирдза. — Если мы ничего большего не сможем, то хотя бы покажем всем немецким прихвостням, саркалисам и прочим гадам, что мы их не боимся.
— Одним этим вы, девочки, не отделаетесь, — серьезно сказала Эльза. — Вы будете отвечать за то, чтобы ни один колос не остался неубранным.
— Милые! — всполошилась Мирдза. — Так что же мы тут болтаем. Роса уже давно спала. Пошли жать.
— Ах, голова-головушка! — усмехнулась Эльза и в шутку дотронулась до Мирдзиного лба пальцем. — Горячая у тебя голова. Разве здесь один или два человека могут что-нибудь сделать? Зенту ждет на работе Ян Приеде. Тебе же нужно организовать молодежь волости. Разбей их на бригады, предложи им между собой соревноваться. Надо также найти лошадей и жнейки.
— Лошадей, жнейки? — медленно протянула Мирдза. — Это уже будет труднее. Они ведь есть только у богатых хозяев. И кто же даст? Всем самим спешно надо жать.
— Ах, какая ты недогадливая! — упрекнула Эльза. — Надо же что-нибудь придумать. Здесь ведь имеются и порядочные трудовые крестьяне. Надо договориться с такими, которые умеют держать свое слово — сначала вы поможете им с уборкой, потом они помогут вам убрать бесхозные поля.
— Ага! Понимаю! Понимаю! — сообразила Мирдза. — Зента, сегодня велосипед мой? Да?
— Только не сломай, — предупредила Зента.
— Есть не сломать! Скорее сломаю шею, чем твой велосипед! — крикнула Мирдза и выскочила за дверь.
— Огонь, а не девушка! — радостно сказала Эльза и вдруг, словно вспомнив что-то, поспешила проститься. — Я поеду вместе с нею, — крикнула она, когда была уже за дверью.
Жизнерадостность Мирдзы, ясный день и предстоящая работа — все казалось ей сегодня таким свежим и увлекательным, что от всего сердца хотелось окунуться в эту бодрящую волну. Если она пойдет в исполком, там придется смотреть на равнодушное лицо Яна Приеде, возможно, там уже томится Артур, доведенный до отчаяния. Пусть обождет, свыкнется с происшедшим и успокоится.
— А что, Эльза разошлась со своим Янсоном, что ли? — спросила мать Зенту, когда Эльза села на багажник велосипеда и уехала вместе с Мирдзой.
— Да, к этому забулдыге она не вернется, — сердито сказала
Зента.
— Что же она, другого нашла? — допытывалась мать.
— Да, хорошего человека.
— Разве Янсон раньше не был хорошим? — возразила мать. — Только из-за Эльзы он и стал пить. Теперь бросил бы. Но такие уж нынче жены — приглянется им лучший, покрасивее да побогаче, и уходят, — последнее слово она особенно подчеркнула.
— Ну, Эльзу ты, мать, не упрекай, — защищала Зента подругу. — Не ради легкой жизни она предпочла Вилиса. Есть нечто иное, что сближает или разъединяет людей.
— Разве ей с калекой лучше будет? — словно упрекнула мать.
— Лучше с калекой без руки, чем с калекой духовным, — бросила Зента и замолчала.
Выбравшись на большак, Мирдза так поднажала на педали, что непокрытые волосы девушек развевались на ветру, как кудель.
— Куда ты меня везешь? — крикнула Эльза Мирдзе на ухо.
— Сначала к Эрику, потом увидим, — прокричала Мирдза.
Через полчаса она свернула с большака к усадьбе «Лидумы». Эрика они увидели в поле, где он косил перестоявшуюся пшеницу. На соседних участках тоже хлопотали одинокие люди, и это выглядело так тоскливо, что Эльза невольно вспомнила вчерашнюю беседу с бойцами: «Работаем вместе, поем, о серьезных вещах толкуем».
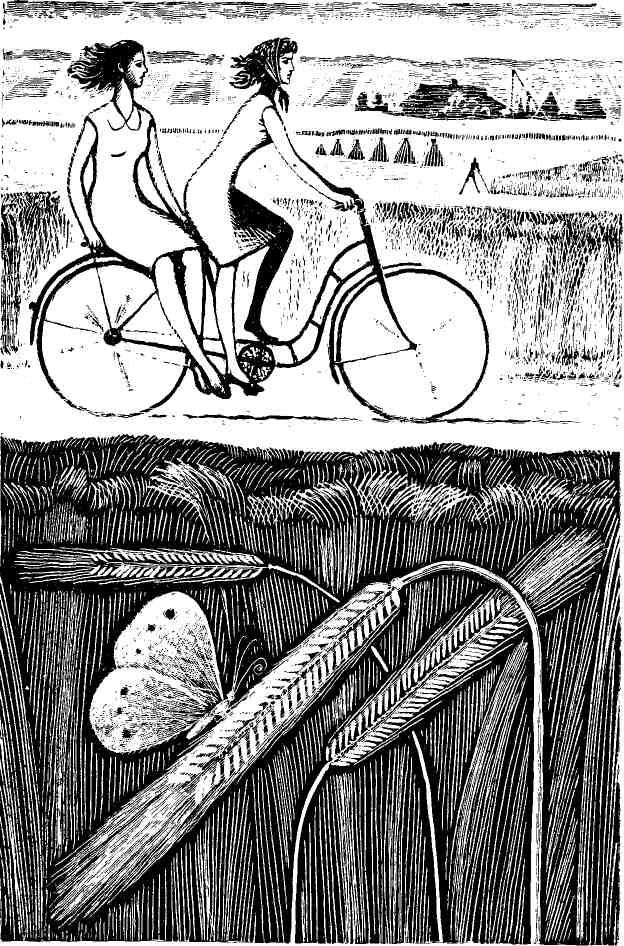
— Здравствуй, Эрик! — крикнула еще издали Мирдза и стремительно соскочила с велосипеда.
Ответив на приветствие, Эрик слегка покраснел.
— Чего ты копошишься, как цыпленок, — усмехнулась Мирдза. — А где твоя жнейка?
— Кто-то увез, пока нас не было.
— И неизвестно куда?
— Нет. Кому же было караулить? — махнул Эрик рукой. — На одного человека есть подозрения, но как тут докажешь?
— На Петера Думиня?
— Говорят, что он все таскал к себе, — медленно ответил Эрик. — Но я ведь сам-то не видел.
— Идем, проверим! — воскликнула Мирдза. — Отец тоже видел, как он шнырял по вашей усадьбе. Здесь же ему и ногу оторвало.
— Как-то неудобно, — отговаривался Эрик. — Ирма раскричится. Может, после сам отдаст.
— А тем временем у тебя весь хлеб осыплется, — вспылила Мирдза. — Чего тут неудобного? Ему не было стыдно у тебя красть, а тебе стыдно спросить у него, чтобы он вернул!
— Ну и пусть, — нерешительно проговорил Эрик. — Если не будет дождя, я помаленьку скошу.
— Машины будут нужны не только вам самим, — вмешалась Эльза. — Без машин не уберем бесхозные поля. Вопрос только в том, как законно произвести обыск и изъятие.
— Вот как, мы будем мудрствовать о законности и дадим хлебу осыпаться! — горячо возразила Мирдза и густо покраснела. — Петер Думинь плевал на законность, когда брал. А нам надо будет ждать постановления прокурора, найти милиционера в белых перчатках и тогда попросить Петера открыть свой сарай.
— Это не совсем так, — попыталась Эльза успокоить Мирдзу, — нам не нужно давать повода говорить, что большевики занимаются самоуправством.
— Но еще хуже будет, — возразила Мирдза, — если скажут, что большевики смотрят на воров сквозь пальцы. Кого настоящие крестьяне больше всего презирают? Воров и лентяев. Если вы не пойдете со мной, то я соберу смелых ребят, и тогда мы найдем закон.
— Мирдза, не так стремительно! — предупредила Эльза. — Обсудим спокойно. Может, поговорим с Ирмой Думинь, и она отдаст.
— А если не отдаст, то я взломаю сарай и вытащу машины. — Мирдзу нельзя было успокоить. — Очень весело получается — я должна отвечать, чтобы в поле не осталось ни одного колоса, но к машинам не допускают. Делайте, что хотите, пусть тогда убирают хлеб вороны да воробьи, а не я. Нет, — быстро спохватилась она, — не так я хотела сказать. Я буду работать: фронту нужен хлеб. Но я все же буду работать на машинах, иначе хлеб останется под снегом. И если вы не дадите мне взять их днем, то я это сделаю ночью.
Эльзе начинало нравиться упорство Мирдзы. Правда была на ее стороне, хотя, может быть, это и не соответствовало букве закона.
— Ладно, я согласна, Мирдза, — уступила она. — Только сделаем это так, чтобы нас самих не прогнали, как бандитов. Ты, Мирдза, поезжай в исполком и получи от председателя записку, что нам поручается взять в пользование машины, пока не будут найдены их владельцы.
— Хорошо, я еду! — и Мирдза повернула велосипед.
— Надо бы найти кого-нибудь, кто подписался бы в качестве свидетеля.
— Зайди к Салениеку, — показала Мирдза рукой в сторону усадьбы «Какты». — И к Пакалну.
Эльза встретила Пакалнов — сына и отца — в сарае, куда они сгружали привезенный хлеб. Поздоровавшись и поговорив с ними, она рассказала о цели своего прихода.
— Нет, нет, — отмахивался старый Пакалн. — За всю свою жизнь я не был в суде и в дела других вмешиваться не хочу. Впутаешься в такое дело, а потом таскайся по судам. Некогда. Работать надо.
— А если бы то же самое случилось с вами и никто бы не пошел в свидетели? — спросила Эльза, задетая безразличием Пакална.
— Зачем тут свидетели, — уклонился Пакалн от прямого ответа. — Если Петер что взял, верните кому принадлежит, и делу конец. Пусть жалуется. Его вещь вы ведь не возьмете. А на то, что краденое заберете, он жаловаться не станет. Не такой уж глупый.
Эльза больше не пыталась уговаривать его. Пакалн по-своему был прав, но все же ей хотелось обеспечить себя свидетелями, чтобы Думини не смогли пустить слух, будто у них отняли их собственное добро. Она простилась и пошла к Салениеку.
Салениек согласился сразу.
— Здесь можно будет сделать интересное психологическое наблюдение: что в Ирме сильнее — честь или корысть, — усмехнулся он.
Когда они вернулись к Эрику, Мирдза уже подъезжала на велосипеде и издали размахивала полученной бумажкой.
— Ну, знаете, этот Ян тоже чудак — боялся подписать, — возмущенно и торопливо рассказывала она. — «Да как же можно, ведь я у них так долго работал», — подражала Мирдза медленной манере Яна разговаривать. — Но я его заставила! — гордо закончила она.
Когда все четверо явились в «Думини», Ирма встретила их недоверчивым и беспокойным взглядом.
— У нас имеются сведения, — начала Мирдза без обиняков, — что Думинь увез к себе в сарай оставленные в поле машины Лидумов.
— Какие машины? — удивилась Ирма. — Нет, нет у нас никаких машин. Муж что-то говорил, будто солдаты забрали.
— Не могу себе представить, чтобы солдатам нужны были жнейки. Они косят немцев из пушек и пулеметов, — иронизировала Мирдза.
— Возможно, ваш муж собрал машины, чтобы они под дождем не заржавели, — пыталась Эльза подсказать Ирме выход из положения.
— Охотно сделали бы это, но некогда было, — смягчилась Ирма. — Я уже самому говорила, надо, мол, присмотреть за домами соседей, приедут люди, захотят жить. А он отвечает: «Хлеб убирать пора, некогда смотреть». Наконец упросила его: «Пойди, присмотри хотя бы за домом Лидумов, чтобы у них не растащили последнее». Там ему, бедняжке, и ногу оторвало, лошадку убило, — закончила она плаксивым голосом и вытерла углом платочка глаза.
— Значит, у вас нет чужих вещей? — строго спросила Мирдза.
— Нет, нет! — заголосила Ирма. — Хоть и бедные мы, да своим обходимся, на чужое не заримся.
— В таком случае, разрешите осмотреть ваш сарай, — нетерпеливо потребовала Мирдза.
— Ах, боже мой, что же вам в нашем сарае смотреть? — сразу вспыхнула Ирма. — Неужто такие времена настали, что каждый может распоряжаться в чужом доме? Я не проверяю ваших сараев, и вы не трогайте мой. Подумаешь, каким комиссаром заделалась! Давно ли в навозе Саркалиса копалась! — Ирма потеряла самообладание.
— Вы с Саркалиене забудьте те времена, когда другие в вашем навозе копались. — Мирдза тоже повысила голос. — Чтобы даром время не терять — вот вам документ от исполкома. Читайте!
Ирма взяла бумажку и стала ее разбирать, держа в вытянутой дрожащей руке.
— Подождите, пока хозяин вернется, — пыталась вывернуться Ирма и стала мять пальцами бумажку. — Усадьба не мне принадлежит, я тут не имею никакого права распоряжаться.
Салениек видел, как Мирдза густо покраснела, и, боясь, что у нее может вырваться что-нибудь необдуманное, заговорил:
— Соседка, чего вы противитесь? Мы ведь все свои люди. Вашего никто не возьмет.
— Как я могу пустить или не пустить вас, — продолжала упрямиться Ирма. — Ключ остался у самого в кармане.
— В таком случае мы взломаем двери, — заявила Мирдза.
— Насильники! — вдруг пронзительно закричала Ирма. — Грабители!
Эрик, все время смотревший в сторону, как бы очнулся, взял Мирдзу за руку.
— Оставь ее, оставь, — нерешительно говорил он, пытаясь отвести Мирдзу в сторону. — Обойдемся как-нибудь.
— Не выйдет. — Мирдза вырвала руку. — Эти машины, которые ты хочешь подарить ей, нужны не только тебе. Они нужны всей волости… Откроете вы по-хорошему или нет? — спросила она Ирму, подступая к ней. — Руганью вы нас не запугаете. Саркалис меня винтовкой стращал, и то не испугалась.
— Она, право, взбесилась, о господи, — бормотала Ирма, медленно ощупывая карманы и выжидая, не удержит ли кто Мирдзу, не отложат ли обыск до другого раза.
— Без полиции раньше этого не делали, — внезапно пришел ей в голову новый довод. — Должен быть кто-нибудь от власти. Откуда мне знать, кто вы такие?
— В документе все написано! — Мирдза начала терять терпение. — Что мы тут так долго возимся, — обратилась она к Эльзе и Салениеку. — Если действовать, так действовать. Вот клещи, — она выхватила их из кармана; рассчитывая на сопротивление Ирмы, она взяла из исполкома с собой клещи. — Эрик, выдерни скобу! Хватит слушать ругань этой… — она чуть не выговорила слово «бабы».
Убедившись, что Мирдза не уступит, Ирма вытащила из кармана ключ, бросила к ее ногам и запричитала:
— Берите, обирайте меня с маленькими детишками! Мужа у меня почти что нет, сможет ли он с одной ногой работать! С голоду придется помирать, а тут еще последнее отнимают…
Мирдза проворно отперла сарай и широко раскрыла двустворчатые двери. Увиденное в сарае поразило даже Мирдзу: половину обширного помещения занимали сельскохозяйственные машины, аккуратно расставленные в три ряда. Тут были три жнейки, четыре косилки, два картофелекопателя, две веялки, пять сепараторов, маслобойки, плуги, бороны, культиваторы, целая груда кос, лопат, вил, грабель. Во второй половине сарая вещи были сложены штабелями — более тяжелые внизу, а те, что полегче, наверху. Чего там только не было: кровати, диваны, столы и стулья, целая груда оконных рам, круги от кухонных плит, коляски, посуда, настольные лампы и даже деревянная игрушечная лошадка.
— Это уж ни на что не похоже! — удивленно воскликнул Эрик.
— Здесь целый склад! — подхватила Эльза.
— Еще несколько тракторов — и готовая МТС, — торжествующе сказала Мирдза.
— Разоряйте нас, разоряйте, — слезливо жаловалась Ирма. — День и ночь трудились, обзавелись всем, кто же мог подумать, что все отберут.
— Прекратите, наконец, эту комедию, — не вытерпел Салениек. — Как можно из-за жадности терять человеческий облик?
— Ага, вот где моя жнейка! — радостно воскликнул Эрик. — И косилка тоже! Может, найдется и сепаратор? Мы спрятали его в мочиле для льна, но кто-то его выудил.
— Вытащим все во двор, тогда разберем, что кому принадлежит, — предложила Эльза.
— Так-то уж нельзя, чтобы все выносить! — Ирма бросилась к сараю, как курица, защищающая своих цыплят. — Пусть Эрик возьмет, что его. Остальные вещи — наши.
— Ого! — усмехнулась Мирдза.
— Ну, докажите, что они не наши, докажите! — словно издеваясь, выкрикивала Ирма. — Может быть, это ваши? Или ваши, господин Салениек? Или, может, госпожи Янсон?
— Мы можем доказать, что они не ваши, — бросила ей Мирдза. — У нас есть свидетель.
— За деньги не трудно свидетеля найти, — не унималась Ирма.
— Найдем и без денег. Кто еще чаще вас самих ходил в этот сарай? — спросила Мирдза и ответила: — Ян Приеде. Он может засвидетельствовать. Как же нам теперь быть? — обратилась она к Эльзе и Салениеку. — Найти владельцев и известить их сегодня не удастся.
— У меня есть предложение, — посоветовал Салениек, — надо составить опись всех найденных вещей, а Думинь пусть подпишется как хранительница.
— Тогда я сейчас же поеду к Яну Приеде, — воскликнула Ирма, как бы хватаясь за последнюю возможность. — Он волостной старшина, пусть скажет, можно ли описывать чужие вещи.
— Как хотите, — бросила ей Мирдза. — А мы начнем опись.
Ирма запрягла лошадь и быстрой рысью поехала в местечко.
— Пусть едет, — улыбнулся Салениек, — сама же привезет нам свидетеля.
— Как бы она по дороге не уговорила Яна? — сказал Эрик с опасением. — Он ведь такой тихий.
— Тогда я сегодня же вечером на велосипеде махну в уезд жаловаться, — заволновалась Мирдза.
Уговорив Яна поехать с ней, Ирма на обратном пути возмущалась, что всякие сумасшедшие запугивают порядочных людей.
— Ты только скажи, что без суда нельзя описывать вещи, и больше ничего, — поучала она Яна. — Ты — власть, от тебя все зависит.
— Н-да, — невнятно бурчал Ян.
— Если тебя спросят о вещах, — продолжала наставлять Ирма, — то скажи, что ты не можешь ручаться, что они не наши. Скажи — у нас раньше кое-что стояло на чердаке и над клетью, а туда ты не ходил. О машинах скажи… да, о машинах этих скажи, что хозяин поставил их в сарай, чтобы в поле не заржавели.
— Н-да.
— Мы тебе этого не забудем, — обещала Ирма и, нагнувшись к нему поближе, тихо продолжала: — Немцы снова отбросили русских к Смилтене. Долго здесь русские не останутся. Плохо тогда будет тем, кто служил нынешней власти. Но мы поручимся за тебя. Все хозяева поручатся.
— Н-да.
— И если у тебя, Янит, когда-нибудь не хватит чего, приходи к нам. Чувствуй себя своим человеком. Так долго вместе прожили, и разве мы когда-нибудь спорили или ругались? — Ирма даже всплакнула. — Я всегда самому говорила, — утерев глаза, продолжала она: — «Ян у нас, как свой человек. На старости, когда не сможет работать, надо будет его поддержать».
При этих словах Ян поднял голову. В его памяти всплыл случай, когда он еще первые годы работал у Думиней. Думинь велел перетаскивать на другое место доски от старого разобранного сарая, и Ян наступил на заржавленный гвоздь. Сперва он не обратил на это внимания, даже не перевязал. Но к вечеру нога начала ныть и напухать и на следующее утро так распухла, что нельзя было ступить. И все же его послали на работу. К вечеру нога посинела. Он накопал глины и приложил ее на ночь к ноге. Боль все усиливалась, его начало знобить, но никто, ни хозяин, ни хозяйка, не обмолвились ни словом о том, что нужно бы поехать к врачу, иначе человек ведь может умереть. Тогда у Думиней ходил в пастухах Петер Ванаг, тот самый, которого немцы угнали в Саласпилс, он был очень строптивый и часто хозяевам правду в глаза говорил. Ванаг сказал Думиню, что нельзя оставить человека без лечения, что за это можно попасть в тюрьму. Ну и рассердилась же тогда Ирма. Чуть было парня не выпорола. Как она кричала: «Такого лодыря, который не работает, а только хлеб ест, не к врачу возить, а из дома выгнать надо!» Сколько уж Ян тогда ел: мисочку похлебки и кусочек селедки не мог проглотить. Он все время хотел чего-нибудь кислого, — ну хоть простокваши, но кто ему давал? Алина Каула, работавшая в то время у Думиней батрачкой, иногда тайком черпала для него сыворотку из ушата для свиней. А теперь Ирма говорит об обеспечении старости! Тогда он, правда, решил у Думиней больше не оставаться, но затем, когда выздоровел и снова начал работать, хозяева стали добрее. Осмотревшись вокруг, он убедился, что у других хозяев было не лучше.
От горечи воспоминаний так пересохло в горле, что Ян не мог даже пробурчать и скупого «н-да».
Приближаясь к усадьбе Думиней, они еще издали увидели, что из сарая вывезено множество машин.
— Разве так можно, — заговорила Ирма дрожащим голосом, — открыть чужой сарай и все вывезти. Разве новая власть законов не признает? Докажи им, Ян, что теперь ты хозяин волости!
Во дворе она привязала лошадь и подвела Яна к сараю.
— Вот вам и свидетель, — язвительно обратилась она к Мирдзе и остальным. — Представитель власти — как скажет, так и будет. Ну, скажи им, Янит, скажи, обломай им рога, — подбадривала она Яна.
Ян остановился в дверях сарая, широко расставив ноги, и от удивления не мог проронить ни слова. Все напряженно ждали, когда он начнет говорить.
— Вот, черт возьми, полный сарай набил вещами! — вырвалось наконец у Яна.
Мирдза расхохоталась и посмотрела на Ирму, но та все еще стояла в воинственной позе.
— Да, сарай-то набит, но где же эти вещи раньше были? — строго спросила Ирма.
— А разве я знаю? — сердито пробурчал Ян.
— Ну, правильно, правильно, — подхватила Ирма, пытаясь истолковать ответ в свою пользу. — Ты ведь на наш чердак и на клеть не лазил, там эти вещи и стояли раньше.
— Да нет, — махнул Ян рукой. — Был я на чердаке. Когда сносили вниз гроб старого хозяина. И на клети. Когда мышеловки ставили.
— И там были эти вещи? — взволнованно спросила Мирдза. Она боялась, «выдержит ли Ян характер», не расстроит ли начатого дела.
— Нет же, — опять махнул Ян рукой. — Это он от соседей натаскал. Меня отсылал в поле подальше, чтобы не видел, а сам разъезжал.
— Ага! — заликовала Мирдза.
— Ах, вот какой ты! — Ирма угрожающе сверкнула глазами в сторону Яна. — Этакий… — она не могла найти слов, чтобы сказать, какой он.
— Дело ясно, — заключила Эльза. — Составим акт. — Ирма, убедившись, что игра проиграна, схватилась за голову и убежала.
— Даже не постыдилась, — усмехнулся Салениек, отворачиваясь. — Корысть у нее все же сильнее чести.
Лишь через некоторое время, когда опись уже приближалась к концу, она появилась вместе с младшим трехлетним сыном.
— Пойдем же, Ояринь, посмотрим, — говорила она ребенку громко, чтобы все слышали. — Пойдем, посмотрим, как наше добро забирают.
У дверей сарая стояла деревянная игрушечная лошадка. Маленький Ояр протянул к ней ручонки и радостно пролепетал:
— Лошадка!
— Пусть уж, сынок, берут эти дяди и тети твою лошадку, — как бы уговаривала Ирма ребенка надломленным голосом. — Их детям ведь тоже нужны игрушки.
— Это ведь лошадка Дзидрини Пакалн, — тихо сказал Эрик, взглянув на игрушку. — Пусть уж остается здесь. А то матери только больно будет…
К вечеру Эрик и Салениек увезли последние машины. Другие вещи пока оставили в сарае, заставив Ирму расписаться, что она отвечает за сохранность, пока найдутся владельцы.
— Подумайте, целый день мы провозились с этой сумасшедшей женщиной, — жаловалась Мирдза. — Когда же организовывать ребят на уборку? Эльза! — внезапно воскликнула она. — Ты доберешься домой без меня? То есть без велосипеда? Я сегодня вечером могла бы исколесить полволости.
— Колеси, Мирдзинь, — улыбнулась Эльза. — Доберусь как-нибудь до Зенты.
Мирдза быстро вскочила на велосипед и направилась к большаку. Эрик пошел к себе. Некоторое время Эльза и Салениек шли молча.
— Я завидую Мирдзе, — нарушил Салениек молчание. — В ней столько энергии, столько пыла, молодости.
— А я уж начинаю сомневаться, — задумчиво ответила Эльза, — сможет ли она быть волостным комсоргом. Очень она горячая.
— Но у нее есть нечто такое, чего многим не хватает, — возразил Салениек. — Она активна по отношению ко всему. В особенности по отношению к несправедливости. В ней нет крестьянского равнодушия, так хорошо высказанного в поговорке: «не мой конь, не мой воз».
Эльза покачала головой, выражая сомнение.
— Ей еще много надо учиться. Пожалуй, разумнее было бы назначить Зенту, хотя бы временно.
Оставшись одна, Эльза медленно шла по большаку, размышляя обо всем, что сегодня произошло. Нечто тяжелое и неприятное давило ее, и она не могла от этого избавиться, как ни старалась доказать себе, что отнятие машин было справедливым и необходимым. Казалось, что к одежде пристали все те грязные слова, которыми бросалась Ирма. И еще присоединились сомнения, поступили ли они законно. Не вовлекла ли их Мирдза своей стремительностью в приключение, за которое можно получить выговор, ведь юридически это изъятие машин оформлено не было. Конечно, правда на стороне Мирдзы, машины нужны для уборки урожая. А Ирма ведь не пойдет жаловаться — она хорошо знает, что за нее никто не заступится. Шум вокруг этого дела уляжется, и это даже одобрят, но можно ли положиться на Мирдзу, не окажется ли она когда-нибудь слишком опрометчивой? Зента — эта три раза обдумает, прежде чем предпримет что-нибудь важное, а Мирдза, словно пламя — загорается и пылает. Салениек правильно сказал — ей свойственна активность, горение, но это она и так сможет использовать в комсомольской работе.
9
РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ
До вечера Мирдза успела объехать даже больше половины волости. Она побывала во всех домах, где, как ей было известно, жили прежние безземельные крестьяне, которые при немцах, конечно, вынуждены были работать у хозяев. Побеседовав с людьми и расспросив, кто чем занимается и как думает устраиваться, теперь — ведь они имеют право на землю, — она просила их помочь убрать урожай и разъяснила им условия: сколько будет выдано за уборку и сколько сдано государству.
К вечеру Мирдза так устала, что охотно бы осталась ночевать у Зенты. Но дома ждет мать, которая ни за что не заснет, если дочка не придет домой.
— Прямо беда с матерью, — досадовала она, накачивая велосипедную шину, и тут же вспомнила, как сама беспокоилась за судьбу матери на лугу Дуниса во время вынужденных скитаний.
Трудно было с матерью — она все продолжала тосковать по Карлену, ни отец, ни Мирдза не могли рассеять ее мрачной подавленности. Это все понятно, но все же тяжело смотреть, как она мучается, ходит, словно лунатик, а иногда даже не понимает, что ей говорят. Да и вокруг горя много, у женщин заплаканные глаза. О чем бы ни говорили, всегда возвращаются к одному и тому же: «Бог знает, вернется ли мой сын… На войне ведь гибнут люди, а не камни». Эрику тоже тяжело. Мать каждый день плачет, то по Алмине, то по Яну. Эрик говорит: «Хорошо, что столько работы накопилось, только это и отвлекает мать, не дает ей постоянно плакать и вздыхать». Может она, Мирдза, плохая сестра, но такая уж есть — плакать не умеет. Она, правда, часто сожалеет, что нет Карлена. Вот хотя бы теперь, — ого, какие у них были бы бригады, и, вообще, они вдвоем бы всю волость перевернули. Эрик, правда, тоже хороший парень и, — ну да, он именно такой, каким ему нужно быть. Но его нельзя так дразнить и сердить, как Карлена. Эрика вообще нельзя вывести из себя. Карлену, бывало, только слово скажи — сразу же искры посыплются. Нет, такой парень не может пропасть, наверно, как-нибудь вывернется. Немцам служить не станет.
Уже было совсем темно, когда Мирдза проезжала мимо усадьбы Саркалисов. В окне старухи был свет, и за занавесками шевелились крупные тени. Казалось, по комнате двигается несколько человек. Со двора выбежала собака и пронзительно залаяла. Тени в окне внезапно растаяли. «Должно быть, Саркалиене перепугалась», — тихо усмехнулась Мирдза и позвала собаку; та узнала девушку, кормившую ее летом, и замолчала.
Как и следовало ожидать, мать еще не спала. При свете коптилки она штопала чулки. Когда Мирдза рассказала о предстоящей завтра работе, мать еще больше ссутулилась над своим рукоделием.
— Все уходят от меня, я всегда остаюсь одна, — заговорила мать, когда Мирдза села ужинать. — Отец ушел, тебя тоже почти никогда дома не бывает. — Она говорила это тихо, без упрека, словно сама с собой. — Хлеб одна убрала. Это бы еще ничего, сколько уж его там было. Но мысли, которые донимают меня, когда остаюсь одна, — что с ними делать?
— Мамочка, тебе надо пойти в наши бригады! — живо воскликнула Мирдза. — Вот и забудешь эти мысли.
— Нет, их нельзя забыть, — продолжала мать, словно не слыша дочери: — Ведь это мысли о Карлене. Я все помню, каким он был, когда родился. Как впервые закричал. Как начал ходить. Все, все. И как немцы увели его.
Мирдза ожидала, что мать снова начнет плакать. Но та не заплакала. И это было особенно тяжело, казалось, что мать придавило камнем, и она обессилела от криков и была так измучена, что больше не чувствовала боли. «Не начинает ли она терять рассудок? — испугалась Мирдза, но тут же прогнала эту внезапную мысль. — Просто она устала, и все».
— Иногда я завидую Лидумиете, — продолжала мать, — она верующая. А ведь это то же, что для утопающего соломинка. Я уже давно не верю, с молодости, когда твой отец мне объяснил все.
— Вот и правильно, — засмеялась Мирдза, — религия — это случайная соломинка, и она еще ни одного утопающего не спасла. Нужен спасательный круг, а его могут бросить только люди.
— Я и жду, жду такого спасения, — сказала мать, не поднимая глаз. — Ни в какие небесные чудеса я не верю, а голова — словно разрывается, — в ней трещит и стучит, и о чем бы я ни думала, всегда возвращаюсь к одному и тому же.
— Мамочка, ты устала. Пойдем спать, — предложила Мирдза, едва сдерживаясь, чтобы не зевнуть.
— Да, пойдем спать, — согласилась мать. — Может, хоть во сне увижу Карлена.
Утром Мирдза встала рано. Она сама хотела руководить бригадой, которая должна была убирать поля бывшего имения. Получилось так, что в первый день им предстояло обойтись без лошадей и жнеек. Проходя мимо усадьбы «Кламбуры», Мирдза взглянула на поля Пакална и увидела, что весь хлеб уже сложен в копны. «Не попробовать ли привлечь и Пакалнов на помощь», — осенила ее мысль, и она завернула на аллею, ведущую к усадьбе «Кламбуры».
Старый Пакалн хлопотал у жнейки.
— Я думала, что у вас уже все сжато, — разочарованно вздохнула Мирдза, пожелав доброго утра.
— У нас-то уже сжато, — ответил Пакалн, — а вот у тебя, дочка, еще нет. Слышал — ты вчера по всем концам искала помощников, но наш двор обошла. Наверно, думала, что такую старую обезьяну, как я, не стоит и звать, у него, мол, и так смерть с косой уже стоит за спиной. Не выйдет! От немцев удрал и от костлявой сбегу.
— Так вы поможете нам? — радостно воскликнула Мирдза.
— Придем оба, с сыном, — просто ответил Пакалн. — На волостном собрании твой отец сказал правильные слова. Всех премудростей нового времени я не понимаю, но то, что он сказал о немцах, дошло до самого моего сердца. Иди, дочка, мы сейчас прибудем. Пока обкашивайте межи.
Мирдза пришла на поле первой. С какого края начинать? Все готово, созрело и перезрело. Ржаное поле посерело, колосья поникли, но еще не ломались. Она взяла колос за стебель и встряхнула его. Зерна не посыпались, еще крепко держались в своих гнездышках. «Надо начинать с хлеба», — решила она и размахнулась косой.
Вскоре начали прибывать другие люди. Пришел Саулит с женой, несколько подростков и стариков, всего человек десять.
— Ну что мы, старики и дети, сделаем на полях имения? — с сомнением заговорила Саулитиене. — Раньше здесь дюжина здоровых батраков в поте лица косами махала, да еще надсмотрщик над душой стоял.
— Где люди вольны, труд свободен, там окрик барский ни к чему, — напомнил Саулит слова из когда-то слышанной песни. — Покажем и мы, старушка, что без господ и надсмотрщиков работа лучше спорится. Эй, быстроглазые, — крикнул он подросткам, — будете вы косить?
— Смотрите, смотрите, он уже сам становится надсмотрщиком, — пошутила Саулитиене над мужем. — Пойдемте, детки, на другую сторону, — предложила она, — мой старик, если расхвастается, то другим пятки пообрубит.
Когда приехали Пакалны со жнейкой, ржаное поле, по выражению Саулита, было уже «окаймлено». Бригада на некоторое время разбилась на две группы: одни сразу стали вязать снопы, другие пошли окашивать края пшеницы, чтобы не задерживать лошадей после того, как покончат с рожью.
В первый день бригада Мирдзы убрала и связала в снопы всю рожь и пшеницу. Все устали — и старики, и молодежь.
— Ну, уточки, — посмеивался Саулит над девочками, — теперь, наверное, не хочется даже и сахарку пососать?
— Только давай!
А ребята в ответ кричали:
— Выходи, поборемся! — Никто не хотел сознаться, что болит спина, что на ладонях натерты мозоли.
На следующее утро Мирдза, проходя мимо имения, увидела, что к спиленному телефонному столбу приколота бумажка. Она начала читать и от возмущения покраснела. «Убирайтесь с полей, которых вы сами не засевали. Немцы отбросили большевиков до Лигатне и в ближайшие дни, используя новое, страшное оружие, займут волость. Несдобровать тем, кто помогает большевикам». Затем следовала подпись: «Латышские патриоты».
— Фашистские прихвостни, а не латышские патриоты! — выругалась Мирдза, разорвав бумажку. — Думают запугать мыльными пузырями!
«Но кто же мог написать и приколоть листок? Может, их расклеили и в других местах? Кто шныряет здесь по ночам и хочет помешать начатой работе?» — спрашивала себя Мирдза, и ей казалось, что по шее и спине забегали холодные мурашки. Враг был где-то рядом, но то, что он оставался невидимым, делало его еще более отвратительным. Где он прячется — в лесу, в домах? Ограничится ли он только распространением клеветы, лаем, или попытается напасть из-за угла и укусить?
Мирдза пожалела, что порвала листок. Надо было показать Эльзе, может быть, передать для расследования. «Э, — махнула она наконец рукой, — возможно, это только баловство мальчишек».
Людей собралось больше, чем вчера. Приехали также Эрик и Салениек со жнейками. Видя, что работа идет успешно, Мирдза решила объехать и остальные бригады. Всего в волости было двадцать пять бесхозных участков. Надо было еще повидать Эльзу, а то как бы она не уехала в город, не поговорив о дальнейшей работе. Если она поручит ей, Мирдзе, создать в волости комсомольскую организацию, то как это сделать, кого принимать, как практически оформить принятие?
Всюду на полях прилежно работали жнецы. Даже толстая Саркалиене сидела на жнейке, двигавшейся вокруг большого овсяного поля. Мирдза удивилась, как быстро у Саркалисов убрали рожь и пшеницу. Не могло быть, чтобы все это одолела одна старуха. Но кто ей помогает? Ни вчера, ни сегодня на ее полях никого не было, даже коровы слонялись на выгоне без пастуха.
Когда Мирдза заехала в исполком, Эльза была занята беседой с бывшим заведующим школой. Мирдза слышала, как заведующий сказал:
— Поймите же вы, что я не могу остаться. Я ведь не могу сказать детям, что то, чему я их в прошлом году учил, — ложь, что меня заставляли это делать. К такому заведующему у детей не будет никакого уважения. Переведите меня в другое место, где меня никто не знает и где никому не известно, чему я учил при немцах.
— Да где же нам взять учителей? — не соглашалась Эльза.
— Будьте так добры и чутки! — чуть не стонал заведующий. — Не заставляйте меня так унижаться. Говорю вам от сердца — буду работать на совесть, но разрешите стряхнуть прах прошлого.
— Что же с вами делать? — Эльза опустила руки. — Может, кто-нибудь из ваших коллег возьмет на себя обязанности директора? Хотя бы временно. Нам надо привести школу в порядок, приступить к занятиям, но без хозяйской руки ничего не получится.
— Хорошим директором была бы учительница Калупе, — вмешалась в разговор Мирдза. — При немцах ее к работе в школе не допускали. Заставили пойти батрачкой к хозяевам, как и меня.
— Вот видите! — воскликнул бывший заведующий с облегчением. — Как раз подходящий человек. Она не запятнана, как я. — В его последних словах слышались и горечь, и разочарование, что без него все же можно обойтись, чувствовалось еще нечто вроде иронии, причину которой он, вероятно, и сам не мог объяснить.
— Мирдза, скажи, могла бы ты найти мне товарища Калупе? — спросила Эльза.
— Да, в течение часа, — откликнулась Мирдза и, изображая опасение, покосилась на Зенту: — Если только Зента не отнимет у меня велосипед.
— Я уже понемногу начинаю отвыкать от него, — пошутила Зента. — Удивляюсь, почему природа при твоем характере не наделила тебя крыльями или четырьмя ногами.
— Что ты хочешь этим сказать? Что у меня характер четвероногого? — Мирдза сделала обиженное лицо.
— Нет, в смысле скорости ты превосходишь всех четвероногих, но только, когда сидишь на моем велосипеде, — смеялась Зента, с любовью смотря на Мирдзу.
Учительницу Калупе Мирдза нашла в одной из своих бригад, в усадьбе «Стендеры».
— Вы тоже на уборке? — удивилась она.
— А что ж поделаешь, — ответила учительница. — Мой хозяин, у которого я работала этим летом, удрал, не уплатив мне жалованья. Надо же на зиму заработать хлебушка.
— Разве вы не собираетесь вернуться в школу? — допытывалась Мирдза.
— Я ведь не знаю, возьмут ли меня, — спокойно ответила Калупе.
— Конечно, обеими руками! Поедемте сейчас со мной в исполком. Отвезу на багажнике! — Мирдза говорила торопливо, словно боялась, что учительница сбежит от нее.
— Спасибо, но у меня свой конь. — Калупе кивнула на велосипед, лежавший в придорожной канаве. — Только как же оставить товарищей по работе? — колебалась она.
— Поезжайте одна, я останусь за вас, — нашла выход Мирдза и тут же схватила три снопа, чтобы отнести их к копне.
— С этим мы не согласны, — запротестовал Лауск, бывший батрак Стендеров, работавший сегодня за бригадира. — Учительница носила за один раз по четыре снопа, а ты, девушка, взяла только три.
Мирдза вспыхнула, но, взглянув в лицо Лауску, увидела, что он шутит, прищуренные глаза излучали добродушие.
— Ну, если так, то я возьму пять снопов сразу! — и Мирдза взвалила три снопа на плечо, а два взяла под мышку.
Через некоторое время жена Лауска позвала людей на обед. Тут же в поле, в золе костра, была испечена картошка. Остальное каждый принес с собой. Мирдза тоже присела вместе со всеми и слушала оживленные разговоры, которые текли, как освободившиеся ото льда ручьи. Никто, сказав откровенное слово, не оглядывался по сторонам, как при немцах, когда боялись, не подслушал бы кто-нибудь.
— Вот мы тут работаем, — с сомнением в голосе вдруг заговорила местная швея Тауринь, — но кто знает, что заработаем. Говорят, немцы придут обратно.
— Кто это рассказывает? — воскликнула Мирдза.
— Так говорят, — неохотно вымолвила Тауринь. — Августу Мигле какой-то офицер рассказывал.
— Ложь! — с жаром возразила Мирдза, вспомнив листовку, виденную сегодня утром в имении. — Это ему не офицер рассказывал, а бандит какой-нибудь.
— Я ведь не знаю, — пожала швея плечами. — Люди говорят.
— Всякое можно наговорить! — сердито сказала Мирдза и пожалела, что не спросила у Эльзы, не получила ли она из уезда сведений о положении на фронте. Получается, что волость живет, как в мешке, — газеты еще не приходят, радио в исполкоме тоже еще не установлено. За это надо бы взяться Яну Приеде, но он, как медведь, — все двигай его да толкай. Зента же совсем зарылась в бумаги. Ей нужно сообщать сведения о жителях, о посеве, о скоте, о разрушениях, надо писать отчет уездным властям. Ян только успевает подписывать. Сегодня же вечером надо попытаться при помощи Зенты получить сводки с фронтов и завтра рассказать всем, чтобы заткнуть рты сочинителям слухов.
Закусив, люди не стали отдыхать. Долготерпеливые хлеба уже не могли ждать больше ни часа. А потом еще надо убирать картофельные поля! Погода ведь тоже не всегда будет такой благоприятной. Уже октябрь.
— Что вы, молодые ребята, словно воды в рот набрали, — крикнул Лауск подросткам, молча связывавшим снопы. — Хоть бы песню какую затянули. Тогда совсем по-другому работа пойдет.
«Эх, елки-палки, вас люблю я», — пискливым голосом затянула Тауринь, бросив вызывающий взгляд на Иманта Лауска, пятнадцатилетнего подростка, работавшего рядом с нею. Некоторые девушки засмеялись и хотели было ее поддержать, но вмешалась Мирдза.
— Эту песенку пели при немцах, и она уже давно опротивела. От нее гнилью несет, — сморщилась она. — Ребята, разве вы уже забыли те песни, которые разучивали в школе до войны?
И молодежь, словно по сигналу дирижера, запела полным голосом: «Широка страна моя родная». Они не забыли ни слов, ни мелодии. Как мощный поток, песня разрушала стены взаимной отчужденности и замкнутости — ведь в течение трех лет родители учили детей держать язык за зубами и не доверяться друг другу.
— Мне все же не нравятся эти большевистские песни, — скривила Тауриня свой ротик. — Звучать-то они звучат, а вот когда поешь, сердца в них никак не вложишь.
— Если сердце в «елках-палках» застряло, тогда, конечно, не вложишь, — усмехнулась Мирдза.
— Да ведь есть и другие песни, — оправдывалась швея, — например, о чувствах…
Словно желая подразнить ее, ребята еще громче и с большим подъемом запели «Москва моя».
Вернулась учительница Калупе и сразу принялась таскать снопы. Мирдза пытливо посмотрела на нее и, не вытерпев, спросила:
— Можно вас поздравить с должностью директора?
— Нельзя, — улыбнулась она. — По-прежнему осталась учительницей.
— Почему же так? — разочарованно спросила Мирдза. — Вы же огорчаете Эльзу.
— Есть такая поговорка: «чего не донесешь, того и не поднимай», — рассуждала Калупе — Я никогда не руководила школой, а за эти годы даже отвыкла от работы рядовой учительницы. Все равно через некоторое время пришлось бы меня снять, как несправившуюся. Какая от этого польза — намучаешься и уйдешь с позором.
— Но вы бы освоились, — запротестовала Мирдза. — Каждый ведь когда-нибудь впервые начинает.
— Это все совершенно правильно, то же самое я всегда говорю другим, но самой мне никто не сумел этого сказать так, чтобы я поверила. Я слишком хорошо себя знаю, чтобы не поверить другому, — пыталась закончить этот разговор Калупе.
— Но как же теперь быть? — удрученно спросила Мирдза.
— Я подсказала товарищу Янсон кандидатуру Салениека, — добавила Калупе.
— Так я его сразу свезу к Эльзе, — заторопилась Мирдза. Сложив в копну охапку снопов, она стремительно вскочила на велосипед и вскоре исчезла за бугорком. Ей и в голову не пришло спросить Калупе, хочет ли вообще Эльза говорить с Салениеком.
В бригаде, что работала на полях имения, дело спорилось хорошо. Тремя жнейками сжали ячмень и овес. Когда Мирдза прибыла туда, лошади уже были запряжены в сани, на которых хлеб свозили к скирдам.
— Вы разъезжаете, как в старину цари: летом на санях, — пошутила Мирдза.
— Как на помещичью землю попали, сразу вельможами стали, хотя с виду и крестьянами остались, — пошутил в ответ старый Пакалн, поглаживая бороду.
— Раз у вас тут так все механизировано, то не беда, если я заберу одного человека. — Мирдза сразу же приступила к делу. — Эльза… товарищ Янсон хотела поговорить с товарищем Салениеком. Мне надо доставить вас в исполком. Велосипеда у вас с собою нет? Нет. Отвезу на багажнике.
— Лучше уж наоборот. Я не так воспитан, чтобы позволить даме себя обслуживать, — улыбнулся Салениек, забирая у Мирдзы велосипед.
Когда Мирдза с Салениеком вошли в исполком, Эльза удивленно посмотрела на них, но тут же постаралась скрыть свое удивление. Калупе ей подсказала, что Салениек мог бы руководить школой, но Эльза хотела об этом еще подумать, может быть, посоветоваться в уезде, потом уже поговорить с Салениеком. «Мирдза проявила очередную торопливость», — подумала она, но теперь уж ничего нельзя было сделать.
— Вам, наверное, уже известно, о чем я хочу с вами говорить, — начала Эльза.
— По дороге товарищ Мирдза мне в нескольких словах уже сказала, в чем дело, — признался Салениек.
— Так, может быть, у вас ответ уже готов?
— Нет, не готов, — медленно ответил Салениек. — У меня было другое намерение. Повоевать на фронте.
— Воевать можно всюду — и на фронте, и в тылу. Мы не делаем большой разницы между фронтом и тылом, — говорила Эльза, пытливо всматриваясь в собеседника. — И в тылу необходимы люди, и поэтому многие работники бронируются. А раз это делается, значит, работа таких людей считается столь же важной, как и борьба на фронте.
— Я подумаю, — понемногу сдавался Салениек.
— Но в принципе вы не возражаете, чтобы взять на себя руководство школой? — спросила Эльза. — Таких сомнений, как у товарища Калупе, у вас нет: не умеет, мол, выступать на собраниях, не знакома с административной работой, не может проявить настойчивости в учреждениях и быть требовательной к своим коллегам?
— Нет, этих сомнений у меня нет. На собраниях говорить смогу, остальное тоже не считаю китайской грамотой, — как-то торопливо ответил Салениек. — Но мне ведь не обязательно давать ответ сразу же? — добавил он.
— Было бы хорошо, если бы вы ответили до послезавтра, тогда я поеду обратно в уезд, — закончила Эльза и встала. — Между прочим, вам нужно решать быстрее, в ближайшее время может быть мобилизация. Если вы согласитесь и отдел народного образования вас утвердит, то это нужно срочно оформить. Подайте свою автобиографию.
Салениек простился и ушел, отклонив предложение Мирдзы поехать на велосипеде. Очевидно, он хотел остаться один и по дороге обдумать сделанное ему предложение.
Наступило молчание, и Мирдза почувствовала, что она сделала что-то не так. У Эльзы на лбу залегла глубокая складка.
— Разве не надо было привозить его сюда? — виновато спросила Мирдза.
— Чего теперь спрашивать, надо было или не надо, — ответила Эльза. — Только может неприятность получиться: мы его пригласили, а уезд вдруг не утвердит. Лучше расскажи, как идут дела в твоих бригадах? Успеют ли сжать до мобилизации?
Мирдза немного воспрянула духом. Если она и допустила промах, поторопившись пригласить Салениека, то работой бригад все же может гордиться.
— Если погода продержится еще несколько дней, то весь хлеб будет в копнах, — говорила она улыбаясь. — Останется только свезти его в сараи и выкопать картофель. Однако беда в том, что у некоторых начинают появляться сомнения. Кто-то распространяет разные слухи. Говорят даже, что немцы идут обратно. Надо бы ежедневно снабжать нас информацией о положении на фронтах, иначе мы не знаем, что сказать в ответ.
Теперь и Эльза спохватилась, что вот уже несколько дней не читала сводок Информбюро. Из-за спешки в работе и личных своих осложнений она об этом как-то забыла. Казалось совершенно естественным, что Красная Армия идет вперед, и ей даже на ум не приходило узнать, как далеко она ушла. Может, уже Рига освобождена? А ведь узнать было легко. Ежедневно через местечко проезжали армейские машины. У солдат были, по крайней мере, фронтовые газеты. Скоро воинские части восстановят и телефонную связь между уездом и волостью. Представитель управления связи уже налаживал в доме исполкома почтовое отделение. Постепенно будут восстановлены все
жизненные нервы.
— Хорошо, Мирдза, ты права, нужно обеспечить население информацией, — рассеянно сказала Эльза. — А теперь поезжай домой и больше ко мне никого не приводи.
Если бы Эльза знала, как это замечание заденет Мирдзу, то она бы его не высказала. Девушка проглотила слезы, даже улыбнулась прощаясь, но, проехав кладбище, расплакалась. «Я ведь желала только добра, — оправдывалась она перед собой, — чтобы все поскорее уладилось».
В тот же вечер она пораньше поехала домой и принялась помогать матери. Пригнала с выгона корову и овец, нарубила дров, принесла воды. Вечером, уже в постели, рассказала, сколько дел успела сделать.
— Так ты выбьешься из сил, — тихо упрекнула мать. — Работала бы хоть на одном месте, и тебе от этого польза была бы. А то словно ветром тебя носит.
— Мамочка, может, ты этого не поймешь, — воскликнула Мирдза, — но мне хочется везде побывать, все самой видеть! Если бы это было возможно, то я работала бы во всех бригадах, сидела бы в исполкоме, привела бы в порядок школу. Мне хочется, чтобы скорее все было, как до войны. Было ведь хорошо, правда? И опять будет? Если бы мне доверили организацию комсомола, то вся волость скоро бы заликовала в труде и песнях!
— Не знаю, кому нынче так радостно, чтобы петь, — грустно сказала мать.
— Но радость необходима, мамочка! Жить без радости, все равно, что без солнца, даже работа не спорится.
— Может, и хорошо, когда все можно так легко переносить, — в голосе матери послышался упрек, и Мирдза съежилась, «Разве мать не может хотя бы немного совладать со своей печалью, скрыть ее глубже в сердце? — подумала она с горечью. — Ей, наверное, после потери любимого сына казалось бы естественным, если бы реки перестали течь, а солнце светить. Вне дома день проходит незаметно, работаешь, двигаешься, разговариваешь с людьми. Но как только придешь вечером домой, то даже улыбнуться не смеешь. Хуже, чем в монастыре», — она с досадой повернулась на другой бок и долго еще не могла уснуть.
В тот же вечер Эльза настойчиво убеждала Зенту взять на себя обязанности комсорга:
— Ты видишь, какая Мирдза, — она ни о чем как следует не подумает, раз — и готово. Пусть потом другие расхлебывают, что она заварила.
— А мне не хватает подвижности и предприимчивости, — отговаривалась Зента. — Я многое задумываю, но оставляю невыполненным.
— Поручай Мирдзе задания, а руководство держи в своих руках, — советовала ей Эльза. — Будем считать этот вопрос решенным. Я не стала бы возражать, если бы отец Мирдзы был здесь, он мог бы помочь девушке. Но раз он занят в уезде, то его оттуда не отпустят.
Пришла мать Зенты — она вместе с другими убирала хлеб в брошенной усадьбе «Айзупи».
— Ну и напели же мне о моих девушках, хоть уши затыкай, — сердито говорила она, развязывая платок.
— Что же нового? — Зента весело посмотрела на мать, а Эльза покраснела, предчувствуя, что «о моих девушках» относится и к ней.
— Одна собирается за Яна Приеде замуж выходить, а другая своего мужа в Сибирь сошлет, чтобы не путался под ногами, — проворчала мать, кладя платок на комод. — А он, бедняжка, с горя и со страху выпил яд и теперь помирает.
Зента безудержно захохотала, но Эльза стала серьезной, ей вспомнился разговор с Янсоном в комнате Яна Приеде на другой день после приезда. «Я умер, Эльза, я умер…» — словно простонал он напоследок. Медленно, как побитая собака, поплелся он по улице домой. С тех пор она его не видела и пыталась совсем забыть. Теперь злые языки кумушек снова напомнили ей о нем, и Эльза чувствовала себя, словно ее на улице перед людьми раздели. У нее было лишь одно желание — поскорее отсюда уехать, быть опять с Вилисом и чувствовать себя под его защитой. Завтра, если подвернется попутная машина, она уедет. Она провела здесь лишь четыре дня, но каждый день казался годом. Может быть, и Вилис эти дни терзается из-за нее в сомнениях; его спокойствие и рассудительность перед ее отъездом, возможно, были показными?
— Вот это, действительно, смешно! — вдоволь нахохотавшись, сказала Зента. — Удирая от Густа Дудума, я наскочила на Яна Приеде! И везет же мне — женихи все такие, за которыми уже смерть ухаживает!
— Ну, ты стариками-то не очень кидайся, — упрекнула мать, сдерживая улыбку, — не получилось бы, как в песне о разборчивой невесте. У одного жениха недостаток, у другого изъян, и в конце концов пришлось пойти за хромого и рябого отставного солдата.
— Захочу — выберу и такого, — пошутила Зента, — а кумушки уж меня ни с кем не сосватают.
— И третья ваша подружка тоже хороша, — продолжала мать рассказывать слышанные за день сплетни. — Будто бы вытряхнула из шкафов Ирмы Думинь все ее приданое. Все описала, оставила Ирме только то, что было на ней. Теперь всем только остается вещи в землю закапывать.
— Неужели и такие слухи пущены? — насторожилась Эльза.
— Так сообщали наши «живые газеты», но там на месте был хозяин сепаратора, вытащенного Мирдзой из сарая Думиней. Тот заткнул сплетницам рты. А об этом яде, что Янсон принял, некоторые ребята шутят, что они сами кружками пили его, но никто не помер. Тем более Янсон не умрет. Он при немцах чуть ли не бочками вливал его в себя.
Хотя по рассказам матери Зенты понятно было, что сочувствие к Янсону не всеобщее, все же Эльза не могла отделаться от неприятного осадка. Несомненно, ее личная жизнь и судьба Артура некоторое время послужат пищей для пересудов и имя ее будут склонять на все лады.
— Эльза, ты, кажется, слишком близко к сердцу принимаешь эту болтовню? — воскликнула Зента, которая только теперь заметила удрученный вид подруги. — Меня эти сплетни должны были бы с лица земли стереть. Сколько уж раз я с Густом Дудумом помолвлена, сколько раз с ним по ночам встречалась! Лай собак меня больше беспокоит, чем такая болтовня.
— Все же я только теперь по-настоящему чувствую, насколько противна эта мещанская среда, — сморщилась Эльза. — После того, как все эти годы я дышала чистым воздухом, мне теперь кажется, что грудь сжимается и цепенеет.
— Ты слишком чувствительная, — сказала Зента, став серьезной. — Раньше ты всегда жила под чьей-нибудь защитой. А там, где ты была эти годы, защиты не требовалось, не надо было защищаться от обывательской мелочности, потому что ее там, наверное, и не было. Мещанским сплетням я противопоставляю свое презрение к ним.
— Ты, конечно, права, — Эльза грустно посмотрела Зенте в глаза. — Я слишком чувствительна, но это пройдет. Рассудком я понимаю и спокойно могу утверждать, что Артур сам во всем виноват. Разрыв у нас назревал уже в сороковом году. Все равно это должно было когда-нибудь произойти. Но все же мне неприятно и даже больно, что Артур совершенно теряет человеческий облик. Мне было бы значительно легче, если бы он гордо перенес свое несчастье, если только это можно так назвать. Но он, как тряпка, выпрашивает сочувствия у меня и у окружающих. Как это злит! Сам ничего не делает и мешает другим работать. Все сейчас трудятся в поте лица, а он лежит дома и снабжает кумушек пищей для сплетен.
— Перестань сердиться, Эльза, — пыталась мать Зенты успокоить ее, — не все деревья в лесу одинаковы, так же и люди. Раз решила, что ошиблась в нем, ну и пусть живет себе, как хочет. Не надо из-за этого убиваться. Прямо жалко смотреть — так побледнела и похудела за эти дни. Идите, детки, спать, и чтобы я не слышала шушуканий и вздохов. Мне завтра рано вставать. Лучшее лекарство против всех недугов — это сон.
Эльза легла, но сон не шел. Она лежала с широко раскрытыми глазами и думала, как трудно дается будничный героизм, когда ты одна, и как станет легко, когда она вернется домой и почувствует опору Вилиса. Потом она начала терзаться из-за того, что потратила слишком много времени и энергии на свои личные дела, в других вопросах почти ничего не успела — и вот хочет уехать, не научив Зенту, как начать работать. Что она сделала за эти дни? Если бы не было энергичной Мирдзы, хлеб до сих пор оставался бы в поле. «Ты сама ничего не сумела бы организовать, — упрекала она себя, и вдруг ей показалось, что она была несправедлива к Мирдзе, не сумела оценить девушку, и это может отразиться на всей дальнейшей комсомольской работе в волости. — Зента хороша, но ведь, сидя в канцелярии, она вряд ли сумеет объединить и воодушевить молодежь. Как же быть теперь? Сказать Зенте, что за ночь передумала, что обязанности комсорга поручит Мирдзе? Получится несерьезно. Вот не выдержала первого испытания, не хватило закалки», — с горечью подумала она и дала волю слезам.
В эту ночь еще один человек не мог уснуть. Выйдя из исполкома после беседы с Эльзой, Салениек на некоторое время почувствовал большое облегчение. Ноги шагали быстро и легко, хотелось улыбаться каждому встречному. Но когда он вышел из местечка, им овладела прежняя мысль, которая после разговора с Озолом уже несколько недель не давала ему покоя. «Ты ведь говорил об испытании советского человека, и разве тебе не будет стыдно отказаться от него?» Да, тогда какие-то благородные побуждения заставили его это сказать, ему казалось, что он не сможет освободиться от тени прошлого, если не пойдет на фронт и не испытает трудностей, перенесенных всеми честными советскими людьми. Казалось, что только так можно заслужить право на советский паспорт. Но со временем неведомый искуситель стал нашептывать ему на ухо другое: «Война близится к концу, после победы начнется новая, прекрасная жизнь. На фронте ты можешь погибнуть, и тогда ты этой жизни не увидишь. Дома у тебя дети. Они захотят жить полной жизнью, получить образование. Если ты их отец, то у тебя по отношению к ним есть обязанности. У тебя обязанности по отношению к жене». — «А разве тем, кто уже погиб или еще погибнет, не хотелось и не хочется жить? Разве у них не было и нет жен и детей?» — ответил он. — «Никому не хочется погибнуть, — возражало его второе «я», — кто может, тот уклоняется». И сегодня Эльза произнесла слова, выбившие у него из рук оружие, которым он боролся против своего второго «я». «Мы не делаем разницы между фронтом и тылом», — сказала она, предлагая ему работать в тылу. «Что же, Эльзе лучше знать. Зачем ты сопротивляешься?» — говорило ему второе «я», и с ним хотелось было согласиться.
От внутренней борьбы Салениек устал. Вернувшись домой, он взял бумагу и чернила и принялся писать свою биографию. Нет, он ничего не хочет скрывать, он искренен и не ищет никаких оправданий своей прежней деятельности, наоборот, он осуждает ее. Но не скрывается ли в этом маленькая хитрость, слабый отзвук старого учения: «покарай сам себя, и другие не станут карать тебя». Ему хотелось быть искренним, чтобы другой решил его будущее, и, если ему обеспечат безопасную жизнь, то пусть не останется неприятного привкуса, будто решение это принято на основании его лжи.
Когда настало утро, Салениек поставил последнюю точку, погасил коптилку и пошел к колодцу умыться. Было холодно, но он долго мылся и растирался, словно за ночь сильно вспотел или покрылся копотью. Он намеревался сразу же, как только спадут роса и туман, выйти с бригадой убирать хлеб, а до этого отправился в местечко, чтобы повидать Эльзу и сдать ей свои документы.
Он встретил ее у исполкома, возле подъехавшей военной машины. Эльза разговаривала с офицером, расспрашивая его о положении на фронте.
— Скажите Мирдзе, что наши вчера освободили Ропажи! — крикнула она Салениеку. — И передайте ей привет, — я сейчас уезжаю, хорошо, что вы поторопились прийти.
Зента выбежала из исполкома с кипой бумаг.
— Будь любезна, отвези в уезд, — попросила она Эльзу, — и скажи, пусть поторопятся с почтовой связью. Иначе нам придется какого-нибудь парня тренировать на длинные дистанции.
— Поручи это мне! — крикнула подъехавшая Мирдза, соскакивая с велосипеда. Она была возбуждена, хотела скорее узнать, кому Эльза решила доверить обязанности комсорга. Если бы ей, то она еще сегодня переговорила бы со многими ребятами, и они непременно вступили бы в комсомол.
По лицу Эльзы, по ее глазам, смотревшим на нее приветливо, но как-то виновато, Мирдза поняла, что ей не доверили этого большого дела. Шумная и смелая Мирдза внезапно притихла, преобразилась в скромную, молчаливую девочку, которая даже слова не вымолвит без того, чтобы не покраснеть и не запнуться.
Машина должна была скоро тронуться. Эльза поспешно простилась и села. Она смотрела на все отдалявшихся от нее трех человек: Зента улыбалась и махала ей платочком, Мирдза стояла оцепеневшая, Салениек опустив глаза. Затем машина миновала дом, который Эльзе был так хорошо знаком и который она многие годы называла своим, но теперь охотно объехала бы. Занавеска на окне немного приоткрылась, и за нею мелькнуло бледное, обрюзгшее лицо; Эльза видела его только одно мгновение, но в нем ей почудилось что-то зловещее, и она невольно вздрогнула.
10
РАЗМОЛВКА
Когда машина, на которой уехала Эльза, исчезла за поворотом, все трое — Зента, Мирдза и Салениек — встретились взглядом, словно спрашивали друг друга: ну, а что дальше? Первой опомнилась Зента и, улыбнувшись, сказала:
— Ну, сиротки, теперь нужно будет обходиться без материнской заботы.
Улыбнулся и Салениек, только Мирдза еле сдерживала слезы. «Я сделала что-то очень плохое, непростительное… — сверлило у нее в голове. — Эльза перед отъездом была так холодна. Зента, наверное, знает, в чем моя вина, да ведь она не расскажет. Считает теперь, что с таким человеком и говорить не стоит, не то что дружить». Растерянная, она повела велосипед к исполкому и прислонила его к стене.
— Я пойду на работу, — совладав с собой, заявила она, пытаясь казаться спокойной.
— Пешком? — удивилась Зента.
Мирдза кивнула головой.
— Мирдза — и без велосипеда? Не могу себе представить такой комбинации, — засмеялась Зента.
— Я и так уж слишком долго пользовалась твоим велосипедом, — виновато ответила Мирдза. — Теперь он тебе самой может понадобиться. Возможно, еще больше, чем мне.
— Что с тобою случилось? — спросила Зента, заметив резкую перемену в подруге.
— Ничего. Абсолютно ничего, — стала уверять Мирдза, ничуть не меняя выражения лица. — Мне пора идти. Все уже, наверно, собрались на жнитво.
Салениек предложил Мирдзе подвезти ее, но она отказалась. Хотелось остаться одной, разобраться в угнетавших ее мыслях и выплакать накопившиеся слезы.
В бригаду Мирдза пришла тихая и подавленная; здороваясь, она не шутила, как обычно, и не отвечала на шутки других. Эрик заметил, что она выискивает работу потяжелее и нарочно поднимает более тяжелые охапки скошенного хлеба, нежели другие. Но случилось так, что Эрик потом оказался в другом конце поля и не мог даже поговорить с расстроенной девушкой, приласкать ее взглядом. Он чувствовал, что вместе с Мирдзой притихла вся бригада, молодежь не перебрасывалась шутками, старики при встречах не замечали друг друга.
Эрик услышал, как старый Пакалн спросил Салениека:
— Что это с нашей дочкой приключилось? Или с фронта плохие вести?
— Ах, я чуть было не забыл, советские войска заняли Ропажи, — воскликнул Салениек. Он передал эту новость Мирдзе. Девушка просияла, но затем она недоверчиво спросила:
— Откуда вам это известно?
— Эльза сказала и просила передать вам, — ответил Салениек.
Мирдза помрачнела. «Даже этого она не сочла нужным сказать мне, хотя я сама вчера просила ее», — с горечью подумала она, и новость эта больше не радовала ее. В другое время, услышав это, она подбросила бы в воздух платочек, закричала бы «ура!», обежала бы все бригады, чтобы нанести удар клеветникам, сновавшим по волости в поисках легковерных слушателей.
— Это хорошо, — безразлично сказала она, схватила большую охапку овса и понесла к скирде, предоставив Салениеку самому решать, что с ней случилось.
«Пусть сообщает об этом Зента, если нужно, — продолжала Мирдза свою мысль. — Может, я вовсе не имею права вмешиваться в ее дела. Вдруг опять наделаю глупостей».
По большаку ехала автомашина. Поравнявшись с жнецами, она остановилась, и какой-то мужчина в штатском спросил, в местечко ли ведет эта дорога и как далеко до него. Рядом с ним сидела молодая девушка с интеллигентным лицом, с темными, гладко зачесанными волосами, которые покрывала сделанная со вкусом шапочка. На плечи у нее был накинут серый плащ. Девушка украдкой внимательно рассматривала крестьян, которые обступили машину, указывали им дорогу и спрашивали, куда направляются путники.
— Люди добрые, — добродушно заговорил мужчина. — Мы едем налаживать вам почту и телефон. Сможете опять посылать письма невестам, — улыбнулся он парням, — а вы будете ждать от них писем, когда уйдут на фронт, — сказал он, обращаясь к девушкам. — Но когда вас здесь волостные старшины будут дурачить, то обращайтесь к моей помощнице, вот к этой барышне, она соединит вас с работниками уезда, и вы сможете им выложить все, что у вас на сердце. Совсем как в мирное время, как в мирное время! — еще прокричал он, когда машина уже тронулась.
Почтовое отделение расположилось в том же доме, где помещался исполком. Начальник отделения Зелмен, скромный одинокий человек, поселился в комнатке на втором этаже, рядом с Яном Приеде. Телефонистка Майга Расман в тот же день нашла «чудесную» — по ее выражению — комнатку у парикмахерши Лисман.
«Почтовая барышня» — так вскоре в местечке, а потом и в волости прозвали Расман — оказалась уживчивым и общительным существом. В первый же день она зашла в исполком познакомиться с соседями. Не совсем уверенно поздоровалась с председателем Яном Приеде, дружески улыбнулась Зенте и с некоторым задором подала руку посыльному Рудису Лайвиню. О себе рассказала Зенте, что она уроженка Риги, дочь фабричного рабочего, комсомолка, сберегла билет и во время оккупации пряталась в деревне у родных. О судьбе отца и матери ей ничего неизвестно. Поведав об этом, она замолчала и тихонько вздохнула, и у Зенты сложилось впечатление, что Майга очень тяжело переживает неведение о родителях и в то же время старается этого не показывать, чтобы своим горем не докучать окружающим.
— Нынче всем тяжело, — добавила Майга после некоторой паузы. — Война и немцы испортили жизнь миллионам людей.
Вначале почту отправляли и получали не каждый день. Редко происходили и телефонные разговоры — только иногда из уезда звонили в исполком и наоборот. У Майги оставалось много свободного времени, и она частенько заходила к Зенте поболтать. У нее всегда было о чем поговорить. Майгу интересовала жизнь всей волости — как люди жили прежде, у кого в первый год Советской власти была отчуждена земля, как такие люди вели себя при немцах и где они теперь. Ей хотелось знать, сколько в волости «наших», то есть сторонников Советской власти, нет ли таких, которые тоскуют по немецким временам. Зенте новая приятельница нравилась все больше, и они постепенно сдружились. Мирдза со времени отъезда Эльзы в исполкоме больше не показывалась, даже отчет о работе бригады она прислала с Эриком. Несколько раз Зента думала о том, что надо бы самой съездить к Мирдзе, но как-то не удавалось. Часто по вечерам приходилось засиживаться в исполкоме, чтобы наверстать не сделанное днем из-за бесед с Майгой. В воскресенье рано утром к ней пришла Майга и попросила помочь ей сшить рабочий халат. Сама Майга, как оказалось, в шитье ничего не понимала.
— В этом виновата школа буржуазного времени, — оправдывалась она, — учили всякому вязанью, а на то, что необходимо трудящемуся, не обращали внимания.
Халат она шила из плотного темно-синего атласа. Зентина мать заметила, что из такой ткани грех шить рабочий халат, из него вышло бы великолепное платье. Майга ответила, что теперь самое почетное место для человека — это там, где он работает. Каждое утро, при выходе на работу, у нее такое же праздничное настроение, как в детстве, когда ее впервые повели в оперу. Этот отрез мать подарила ей еще до войны, и теперь, когда она потеряла мамочку, хочется каждую минуту чувствовать поблизости что-нибудь, напоминающее о ней.
Халат получился очень изящным. Майга надела к нему розоватый воротничок из брюссельских кружев, к которому приколола простую на вид, но дорогую брошку. Явившись на работу в халате, она была так хороша, что даже прищуренные глаза Яна Приеде расширились от изумления. Зента без всякой зависти восторгалась тонким вкусом подруги, умевшей одеваться скромно, но в то же время элегантно. Ей даже как-то стало стыдно, что она приходит на работу в чем доведется, чаще всего в домотканой юбке и в вязаной кофте с заштопанными на локтях рукавами. Из-за скудных достатков матери она еще с детства приучилась беречь одежду, новое платье было в ее жизни настоящим событием, которое случалось не часто. Но теперь ей казалось, что Майга правильнее поняла отношение советского человека к труду. Труд не будни, а праздник, в который рабочий надевает лучшее из того, что у него есть. И она достала из шкафа свое единственное платье из покупной ткани песочного цвета, с коричневой отделкой. Хорошо, что мать уже ушла в поле, иначе наверняка выругала бы ее за небережливость — надевать на работу праздничное платье, где это видано! Зенте платье казалось красивым, но когда Майга осмотрела его со всех сторон и признала, что оно слишком «в деревенском духе», что коричневый воротничок не идет к голубым глазам, ей также стало ясно: без переделки его, нельзя носить даже на работе. Майга обещала найти в своем чемодане подходящие кружева или кусочек шелка и подумать, как переделать платье.
Начальник почтового отделения оказался добродушным человеком, называл Майгу и Зенту дочками и всегда искал кого-нибудь, с кем бы вместе выпить «только одну четвертинку». А так как его ближайшим соседом был Ян Приеде, то обычно с ним «четвертинка» и распивалась. Зелмен мог разом выпить пол-литра водки, и никто бы по его виду и поведению не определил, навеселе ли он или просто в хорошем настроении. Зато у Яна уже от двух рюмок стекленели глаза и немел язык, а мысли становились такими мрачными, что хоть плачь. Если Зелмен заходил распить «четвертинку» в обеденное время, Зента напрасно ждала председателя в канцелярии. За подписью приходилось подниматься наверх к нему в комнату, а Ян тогда обычно ворчливо бормотал, отмахиваясь обеими руками: «Да я ведь уже говорил Озолу, чтобы меня уволили. Чего я тут сижу? Не гожусь, совсем не гожусь. Если бы можно было начать жить сначала… Теперь уже поздно. Как сгнивший пень. Какой от меня толк…»
Зенте тоже казалось, что Ян не годится для такой должности. Ни одного вопроса он не решал сам, всех посетителей направлял к ней, и в последнее время к нему даже перестали обращаться. Богатеи отпускали колкие замечания, называли Яна ворчливой иконой, которая только для вида помещена в переднем углу волостной канцелярии. Зента жалела, что не переговорила с Эльзой, — разве нельзя было вместо Яна подыскать более сильного человека, например, Гаужена. Но, когда она об этом поведала Майге, та стала защищать Яна: он происходит из пролетариев, и уже только поэтому ему надо остаться во главе волости, так сказать, представлять Советскую власть, если даже он ничего и не делает. Выпивки не могут быть помехой, так как маленькие человеческие слабости только сближают с народом. На издевательства кулаков нечего обращать внимания, они только свидетельствуют о том, что Ян им не по вкусу, и одно это уже говорит в пользу председателя.
И поэтому, когда однажды Эльза спросила по телефону, как идут в волости дела, Зента ответила, что все в порядке. Только пожаловалась на Мирдзу, что больше не показывается в исполкоме; рассказала также о новой почтовой работнице Расман — комсомолке с сорокового года. Эльза посоветовала найти Мирдзу и поговорить с ней по душам. Вообще нужно укреплять комсомольскую организацию, так как вся тяжесть полевых работ должна будет лечь на комсомольцев и молодежь. Пусть еще скажет Салениеку, что он утвержден директором волостной неполной средней школы. Ах, и чуть было не забыла самого главного — вчера взята Рига!
Все новости Зента, конечно, в первую очередь поспешила сообщить Майге. Долгожданная весть об освобождении Риги не вызвала в Майге взрыва радости, из ее глаз вдруг брызнули слезы обиды. В ответ на вопрошающий взгляд Зенты, она поспешила объяснить:
— Я боюсь, оставили ли они что-нибудь от нашей красавицы Риги? Если здесь, в таком маленьком местечке, все взорвано и сожжено, что же тогда в Риге. И мои бедные старики…
Зенте надо было составить для военного комиссариата список жителей волости, подлежавших мобилизации. Майга обещалась помочь. Оказалось, что она очень хорошо знает русский язык, которому Зента в школе не училась. За работой наступил вечер, и Зента так и не попала к Мирдзе с радостной вестью — Рига наша! Мирдза узнала об этом только на следующий день от Салениека, которому какой-то красноармеец дал фронтовую газету. В тот день бригады на общую работу не вышли. Каждый торопился выкопать свой картофель. Мирдза с матерью тоже, гнулись над бороздой, когда подошел Салениек и сообщил эту новость. Мирдзу захлестнула волна такой ликующей радости, что нельзя было вытерпеть, надо было с кем-нибудь поделиться. А мать выглядела такой поникшей, такой подавленной, что Мирдза сдержала свои чувства, но они бушевали в сердце, прорываясь в стремительных движениях и блеске глаз. Нет, вечером она непременно побежит прежде всего к Эрику, хотя бы обменяться несколькими словами, потом возьмет у него велосипед и помчится к Зенте. Ее она стиснет так сильно, что та будет кричать и отбиваться. Такая весть! Рига наша! Об этом надо сообщить по всей волости, хотя бы извещением каким-нибудь. Знает ли об этом сама Зента? Зарылась в бумаге, как мышь. О, теперь Мирдза над ней посмеется. Возьмет да напишет Зенте какое-нибудь послание канцелярским языком. Ну, вроде: «Мы, нижеподписавшиеся, жители волости, доводим до сведения уважаемого секретаря волисполкома, что 13 октября сего года, столица Советской Латвии Рига освобождена от немецких захватчиков». Потом выведет разные подписи, а кое-где поставит крестики. Вот будет смеху.
Ну, а если Зента сама знает? Говорят, что восстановлена телефонная связь с уездом и можно звонить ежедневно. Не верится, чтобы столь важную весть не сообщили из уезда… А Зента даже не сочла нужным прийти и сказать об этом. Горькая обида подкатилась к сердцу, и Мирдза почувствовала, как волна радости схлынула, оставив осадок грусти. «Зента ни одного шага не может сделать мне навстречу. В конце концов, ни Эльза, ни Зента не сказали мне, кто комсорг волости. Об этом мне нужно догадываться самой. Кто я в их глазах — девушка на побегушках или равноправный товарищ?», — сомнения, одно язвительнее другого, нашептывали ей обидные обвинения, и Мирдза была не в силах бороться с ними.
Вечером, засыпав в погреб последнюю корзину картофеля, она решила пойти к Эрику. Умыв запыленное лицо и измазанные землею руки, она надела чистое платье. Дойдя до березовой рощи, она почувствовала, ноги тяжелеют, их как бы тянет назад. Что она скажет, чем объяснит свой поздний приход? Скажет, что Рига освобождена? Покажется невероятным, что девушка только для того и пришла к парню, чтобы сказать два слова, которые он, наверное, уже слышал от Салениека. Что подумает мать Эрика, увидев столь позднюю гостью? Ноги все тяжелели и, наконец, остановились… Нет, это было бы очень глупо, если бы она все же пошла к Лидумам. «Добрый вечер!» — скажет она. «Добрый вечер!» — ответят Эрик и мать. «Вы знаете, Рига взята!» — «Да, Салениек говорил…» Настанет молчание и останется сказать: «До свидания!» «Да она не совсем нормальная!» — подумает мать Эрика, а он долго не сможет разобраться, зачем она приходила, что хотела сказать.

Мирдзой вдруг овладело отчаяние, она почувствовала себя ужасно одинокой, обхватила стоявшую на обочине дороги березу, прижалась к ней головой и разразилась тяжелыми, безудержными рыданиями…
Осенний ветер со свистом раскачивал сосновые ветви, от моха поднимался сырой запах гнили, какая-то большая птица ударилась о ветви крыльями и с шумом улетела. «Осень и одиночество, как все это не ко времени, ведь теперь должна начаться новая трудовая, радостная жизнь. Куда идти? С кем говорить? Мать?.. Она — как живой труп. В конце концов, я ей безразлична. Мое возвращение ее не воскресило. — Мирдза еще плотнее прильнула к березе. — Моя дружба с Зентой осталась безответной. Эрик? Но что я знаю о его чувствах ко мне?» Она внезапно так встрепенулась от своего вопроса, что даже перестала плакать. Да, что она знает о чувствах Эрика? Он ведь ничего, совершенно ничего не сказал. Он хорошо относился к ней. Вообще — он хороший человек, но это еще не означает… «Да, чего же? Чего же ты хотела? — начала она у себя выпытывать. — Значит, ты надеялась, что он тебя… любит!» — Ей хотелось выкрикнуть это желание, настолько ей в эту минуту нужен был человек, близкий друг, который помог бы ей избавиться от охватившего одиночества, такого нелепого и совсем несвойственного ее характеру.
Если все же пойти к Эрику? Ну, ладно, она не скажет ничего, кроме этих двух слов: «Рига взята!» Скажет их так, как недавно сказала бы прежняя Мирдза, шумливая и веселая. Она увидит Эрика, и уже от этого весь вечер, а может быть, и завтрашний день, будет легким и светлым.
Твердой походкой она пошла вперед, но, когда стала приближаться к опушке березовой рощи, услышала шаги человека, шедшего ей навстречу, и испугалась. Бежать назад было уже поздно. Спрятаться за деревья — глупо. Да и зачем ей удирать. Кто может знать, куда она идет? Она ускорила шаги, будто она спешила по какому-то делу, и через мгновение чуть не столкнулась с Эриком.
— Мирдза! — воскликнул тот, пораженный.
— Она самая! — Мирдзу обдала волна радости, и к ней вернулось прежнее хорошее настроение.
— Ты куда идешь? — неуверенно спросил Эрик.
— Так просто, прогуливаюсь, — смутилась и Мирдза. — А ты?
— Я тоже — так просто.
Оба замолчали. Они слушали, как ветер, завывая, колышет рощу, как стая птиц, вспорхнула с качающихся ветвей и полетела искать более надежный ночлег, но этот ветер, казался порывистым вешним шквалом, который развеивает последнее оцепенение зимы, расковывает ручьи, растопляет снег и поднимает от земли влажный запах моха и тлеющих листьев.
Эрик бережно взял руку Мирдзы, и ей было приятно, что эта жесткая, мозолистая рука может быть такой нежной.
— У тебя есть немного времени? — спросил он.
— Да, — ответила Мирдза.
— Может, лучше погуляем, чем так стоять, — сказал Эрик и легко взял Мирдзу за локоть. — Ты, наверное, будешь смеяться надо мной, — начал он немного погодя, и Мирдза почувствовала, как трудно ему говорить.
— Нет, я никогда над тобой не смеюсь, — серьезно сказала Мирдза.
— Я уже третий вечер хожу по этой дороге, но ни разу у меня не хватило смелости дойти до твоего дома.
Мирдза молчала. Было бы неуместно спросить его: «Почему?»
— Я скоро уйду на фронт и поэтому хотел бы знать, будешь ли… будешь ли ты меня ждать? — большего он не осмелился спросить.
— Я буду ждать тебя, Эрик! Еще больше, я… — горячо начала Мирдза и не договорила.
Эрик остановился и, насколько это позволяла звездная осенняя ночь, пристально и долго смотрел девушке в глаза.
— Мирдза, у меня не хватает слов сказать, как я тебя люблю, — проговорил он наконец. — Я знаю, что с фронта могу и не вернуться. Или вернуться искалеченным.
— Эрик, молчи! — воскликнула Мирдза. — Ты не смеешь говорить о смерти. Я не могу этого слушать. Потому что слишком люблю. И каким бы ты ни пришел — без рук, без ног, — я навсегда останусь с тобой.
— Какое счастье, что я тебя встретил сегодня вечером, — тихо и радостно сказал Эрик.
— Ты не знаешь, почему это произошло? Я ведь хотела идти к тебе, — произнесла Мирдза.
— Ты? Ко мне?
— Но не дошла бы. На опушке леса у меня снова не хватило смелости, — засмеялась Мирдза. — Эрик, я становлюсь себе смешной. Я сегодня такая сентиментальная. Ни за что не узнала бы себя, если бы кто-нибудь изобразил меня в таком виде.
— Что же тогда мне сказать? — Эрик заразился ее веселостью. — Я уже третий день сентиментален.
— Да, но я ведь комсомолка, и мне, наверное, надо быть более уравновешенной, — сказала Мирдза серьезным тоном.
В ту ночь они долго гуляли по дороге, то в одну, то в другую сторону, и оба чувствовали, что хорошо и без слов, без обещаний. Блеклое небо часто прорезали падающие звезды, и Мирдза вспомнила давнишнее поверье: когда падает звезда, надо что-нибудь пожелать и это исполнится.
«Хочу, чтобы ты, любимый, вернулся целым и невредимым с поля боя! — пожелала она себе и посмеялась над собою: ведь это только суеверие. — Ну, ладно, пусть уж в эту ночь моя сентиментальность дополнится верой в приметы, — простила она себе. — Переболею сразу всеми болезнями и завтра буду совсем здоровой».
Сырость начала проникать сквозь одежду, и Эрик забеспокоился, как бы Мирдза не простудилась. Обняв за плечи, он проводил ее через рощу и тихо, но твердо сказал:
— А теперь тебе нужно идти домой.
Мирдза поняла, что твердость в голосе относилась больше к нему самому: разве ему легко будет одному возвращаться через рощу, по которой они только что шли вдвоем? Она легко обхватила его голову руками, погладила холодные щеки. Непроизвольно их губы соединились в первом поцелуе. После этого они больше не сказали друг другу ни слова. Каждый ушел в свою сторону, полный счастьем первой чистой любви.
— Я должен вернуться. Я вернусь, — говорил себе Эрик, медленно шагая через рощу.
— Что со мной случилось? — удивлялась Мирдза, приглаживая влажные волосы. — Завтра же я пойду к Зенте и стану прежней Мирдзой.
Хотя утро было сырое и облачное, Мирдза проснулась веселой и ликующей. Было еще рано, мать спала.
— Пусть поспит, бедняжка, — решила Мирдза и тихо выскользнула из комнаты. Сняв с изгороди подойник, она направилась в хлев доить корову. Пусть мать отдохнет — ей хотелось кого-нибудь пожалеть, быть доброй, сделать больше, чем в другие дни.
Когда Мирдза с полным подойником вернулась на кухню, мать уже встала и натягивала толстые шерстяные чулки.
— Что ты сегодня так рано поднялась? — спросила она. — Ведь вчера так поздно легла. Как ты можешь ходить так легко одетой. Прямо дрожь пробирает, когда на тебя смотришь. Такое пасмурное утро.
— Мамочка, ведь за тучами солнце. Когда это знаешь и не забываешь, то от этого может стать тепло, — ответила Мирдза, процеживая молоко.
— Хорошо, пока человек молод, — вздохнула мать. — Если и бывают заботы, то они быстрее проходят. Как грозовой дождь. То льет так, что кажется, весь мир затопит, то засверкает солнце еще ярче прежнего. А заботы в старости — как осень. Начнет моросить — день, два, неделю и месяц подряд.
— Мамочка, милая, — обняла Мирдза мать и помогла ей подняться. — Сердце надо сохранить молодым, тогда человек никогда не состарится.
— Я уже и так сердита на свое сердце, — болезненно улыбнулась мать. — Себе надоела, не говоря уже о других. Иногда я думаю: неужели все эти слезы, пролитые матерями за войну, когда-нибудь не отольются ее зачинщикам?
— Это так и будет, — ответила Мирдза. — Им гибели не избежать.
— Хотя погибших сыновей мы уже не вернем, — продолжала мать, — а все-таки как бы легче станет. Воздух станет чище.
— Мы сегодня будем картошку копать или отдохнем? — вдруг спросила Мирдза, вспомнив вчерашнее решение пойти к Зенте.
— Много ли там ее осталось, — ответила мать. — Последние борозды закончу завтра. Хотела сегодня, в воскресенье, связать отцу перчатки. Наступит зима, на руки нечего надеть.
— Тогда я, может, сбегаю к Зенте? Давно уж с нею не виделась. Я отлучусь ненадолго. — Мирдза и просила, и извинялась, чтобы мать не подумала, что дочь от нее бежит, оставляет одну.
— Иди, иди, дочка, к молодежи, — спокойно согласилась мать. — Я уж подомовничаю.
За усадьбой Саркалисов Мирдза встретила парикмахершу Лисман с корзинкой в руках. Как всегда, улыбающаяся, приветливая парикмахерша остановилась и принялась рассказывать, что почтовая барышня послала ее к Саркалиене за продуктами. Дала письмо, деньги и список, что ей нужно.
— Нынче на рынок никто ничего не возит, говорят, что все отбирают, как и при немцах, — говорила Лисман, — где же девушке на чужой стороне раздобыть? Говорит, видела в списках в исполкоме, что у Саркалисов коров больше, чем у других, может, продадут чего-нибудь.
— Возможно, — ответила Мирдза, желая поскорее избавиться от болтливой женщины.
Встреча с Зентой все же получилась не такая, как Мирдза надеялась. У Зенты была гостья. Она перед зеркалом укладывала Зенте косы то выше, то ниже, стараясь создать модную прическу. Зента поспешила познакомить Мирдзу с Майгой Расман, почтовой работницей, третьей комсомолкой в волости. С первого взгляда Мирдзе что-то не понравилось в новой приятельнице, она и в Майге как бы почувствовала неприязнь к себе. Мирдза украдкой наблюдала за Майгой и, перехватив ее взгляд, заметила, что Майга тоже следит за ней.
— Как вам нравится новая прическа Зенты? — спросила Майга Мирдзу. — По-моему, намного лучше, чем раньше, правда?
— Зента теперь выглядит более чужой, — откровенно ответила Мирдза.
Не только прическа, но и сама Зента казалась ей какой-то другой, словно Майга преобразила ее, не столь уж заметно, но все же преобразила. Зента поднялась, и стало видно, что у нее переделано и платье, притом тоже во вкусе Майги. Зенте это не шло. Юбочка едва достигала коленей и даже открыла их, когда Зента шагнула; плечи были высоко подняты, вокруг шеи и на груди — непомерно пышная отделка из розового шелка, словно Зента яркими пятнами пыталась привлечь к себе внимание.
— Мне кажется, что раньше платье было лучше, — сказала Мирдза, воздерживаясь от резкого замечания.
— В каком смысле лучше? — поинтересовалась Майга, благодаря настойчивым советам которой платье стало совсем другим. — Почему молодые девушки должны ходить, как деревенские мамаши — в длинных юбках, со сползающими плечами и с какими-то помятыми тряпками вокруг шеи? Мы, комсомолки, обязаны воспитывать у молодежи хороший вкус.
— Что идет одному, не идет другому, — пыталась возражать Мирдза. Она чувствовала, что Зента бессильна против навязчивого влияния приезжей, потеряла самостоятельность и во всем подражает ей. — И разве мы, деревенские девушки, совсем уж не имеем вкуса? Это не так, — добавила Мирдза. Глубоко вздохнув, она продолжала: — Кроме того, мне кажется, что у нас, комсомолок, — последние слова она особо подчеркнула, — сейчас есть другие, более важные задачи, чем обрезать у платьев подолы и взбивать прически.
Это было сказано довольно резко и недвусмысленно. «Пусть обижается, если ей угодно, — подумала Мирдза. — Пусть не думает, что сможет всех здесь обвести вокруг своего наманикюренного пальца».
— В свое свободное время мы можем поухаживать за собой, — совершенно спокойно ответила Майга, словно резкое замечание Мирдзы относилось не к ней. — В уставе комсомола ведь не сказано, что нам нужно ходить с трауром под ногтями.
Это было явной издевкой над Мирдзой, над ее мозолистыми руками. Еще вчера до сумерек она копала картофель, и как потом ни терла свои ладони, как ни чистила, они все же не стали белыми.
Зента заметила, что обе девушки, неизвестно почему, невзлюбили друг друга, хотя обе были ее подругами и комсомолками. Опасаясь, как бы скрытая неприязнь не перешла в открытую вражду, она попыталась переменить разговор, но не смогла быстро сообразить, с чего начать.
— Мирдза, ты знаешь, Рига взята! — вдруг сказала она, считая, что нашла удачный выход.
— Только что? — иронически переспросила Мирдза.
— Ах, ты уже знаешь? — протянула Зента.
— Да, узнала не от тебя, ты, наверное, забыла мне сказать! — Мирдзе, как прежде, хотелось поддразнить Зенту, но она чувствовала, что ее шутки теперь не получаются такими теплыми, дружескими и невинными, как раньше.
— Вот что, Мирдза, — вспомнила Зента, — вообще-то я уже опоздала, надо выделить уполномоченных десятидворок или бригадиров. Ты не возьмешься быть одним из таких уполномоченных?
— От работы я никогда не отказываюсь, — ответила Мирдза, — но мне кажется, что серьезные разговоры сегодня неуместны, вы ведь заняты уходом за собой. Приду в исполком в рабочие часы. — Ей хотелось поскорее уйти с глаз Майги, которые, затаив вражду и иронию, наблюдали и оценивали каждое ее движение. С Зентой надо поговорить наедине, предупредить ее, пусть не слишком доверяется советам горожанки. Люди еще начнут смеяться. Мирдза простилась и ушла, подумав, что раньше Зента никогда так легко не отпускала ее, находила десятки разных причин, чтобы задержать.
— Интересная девушка, — сказала Майга, когда Мирдза ушла. — Довольно бойкая. Хотя по твоим рассказам я себе представляла ее более интеллигентной.
На следующий день, когда Мирдза пришла в исполком, Зента, правда, поговорила с ней, на кого можно было бы возложить обязанности уполномоченного или бригадира, какие дворы отнести к тому или иному десятку; и это было все. Мирдза ждала, чтобы Зента первой разоткровенничалась, высказалась бы о вчерашнем столкновении с Расман, и тогда, наконец, могла бы и она открыто излить все, что накопилось на сердце и от чего так хотелось освободиться. Но Зента даже не вспоминала о вчерашнем дне, закрыв для Мирдзы путь к откровенности и искренности. Когда деловые разговоры кончились, настало неловкое молчание. Зента улыбалась, но это не была прежняя дружеская улыбка, когда они понимали друг друга без слов, по усмешке, по взмаху ресниц. Эта улыбка сердила Мирдзу, она ей казалась вуалью, которую Зента накинула, чтобы нельзя было заглянуть в ее лицо.
— Да, опять звонила Эльза, говорила, что надо укрепить ряды комсомола, — воскликнула Зента, довольная, что снова нашла потерянную нить разговора. — Пока что ко мне обратился только Рудис Лайвинь. Как ты думаешь, принять его? Парень он ничего, но стоит ему попасть в компанию пьяниц, как теряет чувство меры. Майга, правда, говорит, что его надо принять. Именно тогда он, может быть, станет серьезнее.
«Чего она вечно с этой Майгой! — вспыхнула Мирдза. — Что у нее своей головы нет!»
— Зачем же ты меня спрашиваешь, раз Майга так говорит? — насмешливо сказала она, стараясь быть спокойной. — Я даже не знаю, кто у нас в волости комсорг. Может быть, Майга?
— Ты не знаешь? — Зента укоризненно посмотрела на Мирдзу.
— Никто мне этого не говорил, — упрямо ответила Мирдза, выдерживая ее взгляд.
— Ну, хорошо, тогда я скажу: я комсорг, — голос Зенты
прозвучал необычайно твердо.
— Рада познакомиться! — Мирдза попыталась улыбнуться и сама почувствовала, что улыбка получилась деланная. Ей так хотелось броситься Зенте на шею, потормошить подругу и искренне воскликнуть: «Ну, что мы, Зента, дурачимся, как глупенькие?» Потом бы они обе, конечно, всплакнули, и все было бы по-старому. Но прилив упрямства как бы сковал Мирдзе руки, они остались неподвижными, отказываясь от объятий. На лице застыла деланная улыбка, и губы не хотели произнести нужных слов. А в глазах так и не растаял ледок, не давший прорваться теплому взгляду.
— Сегодня я, наверное, тебе больше не нужна? — спросила Мирдза, стараясь избавиться от мучительной напряженности. — Могу пойти копать картошку?
— Да, я все сказала, — ответила Зента и начала читать какую-то бумажку.
Мирдза ушла, даже не подав руки. Но, дойдя до кладбища, она стала замедлять шаг. Упрямство ослабло, его вытеснил стыд, заставивший Мирдзу покраснеть. «Как глупо, как некрасиво такое столкновение между комсомольцами… — думала она. — Разве так надо начинать работу? Что со мной случилось — или я ревную Зенту к Майге? Но Майга ведь тоже комсомолка, почему Зента должна ее отталкивать? Так нельзя начинать работу, так работа не пойдет!» Вспомнилось, как они с Зентой были окрылены в первые дни, когда приехала Эльза и предложила организовать бригады жнецов. Почему так не могло быть и теперь? Уж не представляет ли она себе комсомольскую организацию двусторонним союзом с Зентой или же узким кружком друзей, в который они принимали бы лишь избранных? Например, ей хотелось, чтобы Эрик был комсомольцем (он им станет в армии, в этом нет сомнений!), но если бы он даже остался дома или война скоро кончилась, это бы не была молодежная организация. Нет, ей немедленно надо вернуться, пока ссора не пустила корни, пока ее можно пресечь несколькими откровенными словами да еще слезами в придачу.
Словно человек, который наконец решился и знает, как дальше поступать, она повернула назад и пошла в исполком. «На этот раз я не уступлю наплыву чувств», — твердо говорила себе Мирдза, повторяя это до самого исполкома. Но когда она открыла дверь комнаты, где сидела Зента, эта решимость рассыпалась, как зажатая в ладони горсть сухого песка, когда раскрывают пальцы. У Зенты сидела Майга. Обе они так безудержно хохотали, что Мирдза почувствовала себя задетой до глубины души. «Наверное, Зента рассказывала обо мне, и у них было над чем посмеяться…» — мгновенно решила Мирдза. Ей показалось, что она отгадала причину их веселости. Это как бы подтвердилось еще тем, что Майга, первая заметившая появление Мирдзы, подмигнула Зенте. Та сразу замолчала и, как почудилось Мирдзе, была неприятно поражена ее возвращением.
— Я… я… — растерялась Мирдза, не будучи в состоянии сразу придумать что-либо путное, чтобы оправдать свое возвращение, — я… забыла спросить, каковы будут обязанности уполномоченного десятидворки, — вдруг придумав, быстро выпалила она.
— Я могу дать тебе инструкцию, — Зента смущенно начала рыться в какой-то папке. — Может, спишешь и дашь остальным.
— Кому, например?
— Например, старому Пакалну и Гаужену, которые также будут уполномоченными, — ответила Зента, преодолев растерянность.
Взяв инструкцию, Мирдза задержалась и не уходила. В последний раз она хотела заставить себя сделать то, на что решилась. Она старалась поймать взгляд Зенты, но та смотрела в сторону, и глаза Мирдзы встретились с карими глазами Майги, в которых сквозила насмешка победительницы и наглый вопрос: «Чего тебе еще надо, почему не уходишь?» Не сказав ни слова, Мирдза повернулась и пошла.
«Нет, я больше не стану унижаться, не буду искать ее, — она снова загорелась упрямством, на этот раз более осознанным и не так легко одолимым. — Я буду делать свою работу, пусть Зента справляется со своей».
11
ВОСКРЕСНИК В ШКОЛЕ
Призывникам вручили мобилизационные повестки. Сначала им надо было явиться в уездный город на врачебную комиссию. Вернувшись оттуда, ребята хвастались, что из всей волости никого не «забраковали». Но произошел случай, бросивший тень на волость: на комиссию не явился Янсон, хотя и расписался в получении повестки. Вначале думали, что он попросту напился в этот день, но затем пошли слухи, что дом Янсона пуст, а самого нигде не видно.
В напряженной работе прошли несколько дней перед отправкой мобилизованных в город. Проводов никто не устраивал, — как это было принято раньше. Еще в последний вечер, до самой темноты, по дорогам скрипели повозки с хлебом, рядом с ними шагали люди, которые завтра начнут другую жизнь, наденут форму бойца Красной Армии и возьмут в руки оружие, чтобы участвовать в последнем этапе великой битвы.
Пакалн обещал отвезти Эрика вместе со своим сыном. Рано утром Мирдза пришла к Лидумам почти одновременно с Пакалнами. Старик отвел Мирдзу к клети и с таинственным видом вытащил из кармана какую-то бумажку.
— Хотел показать только тебе, дочка, — начал он, — ты больше понимаешь в этих делах. Видишь, какой листок подсунули нам сегодня под дверь.
Мирдза начала читать и невольно вздрогнула. Не потому, что листовка могла повлиять на кого-нибудь и увлечь в лес, нет, в листовке не было ничего нового, о чем бы не писала в свое время «Тевия», — это уже почти никого не пугало. «Латышские патриоты» подписали и тот листок, который она обнаружила на телефонном столбе, значит, враг обитает где-то здесь, поблизости, значит, это не баловство мальчишек. Все здоровые мужчины уходят на фронт. Хорошо, что в волости еще стоят саперные команды, часто проезжают военные машины.
— Что ты, дочка, призадумалась? — спросил старый Пакалн. — Скажи хотя бы, куда девать бумажку.
— Куда девать? — переспросила Мирдза. — Лучше всего бросить в печку. — Но внезапно ее осенила мысль. — Нет, если будет время, сходите к моему отцу и отдайте ему. Если же его не будет, то какому-нибудь другому работнику. Им виднее, что делать.
Затем они уехали. Эрик простился с Мирдзой коротким рукопожатием — свою любовь они условились хранить в тайне, наивно полагая, что «никто ничего не заметил». Что это было не так, обнаружилось сразу же, как только подводы исчезли за поворотом дороги. Лидумиете, потеряв из виду сына, которого все время провожала глазами, бросилась к Мирдзе и со слезами припала к ее груди.
— Мирдзинь, доченька, — всхлипывала она, — как бы я хотела, чтобы ты уже жила в нашем доме. Не обижайся на меня, старуху, что вмешиваюсь в дела молодых, но я материнским сердцем сразу угадала, что ты Эрику суженая. Забегай почаще ко мне, тогда у меня хотя бы будет с кем вспомнить о сыночке.
Мирдза поцеловала старушку и почувствовала, что сердце готово разорваться. Дома — горюет ее мать, здесь — горюет мать Эрика, обеим хочется, чтобы их утешали и жалели.
— Я часто буду приходить и помогать вам, мамочка, — пообещала она и осмотрелась кругом, не нужно ли что-нибудь сделать сейчас же.
После отъезда Эрика и Пакална Салениек пришел домой мрачный, отказался от завтрака и не ответил жене, когда та спросила, поел ли он в гостях, или оставить еду на после. Не сказав, куда направляется и когда будет дома, он сел на велосипед и поехал к большаку. «Эрик ушел. Юлис Пакалн ушел… Он призадумался. У одного осталась дома старуха мать, у другого отец и жена, ожидающая ребенка. И все-таки ушли. Не прикидывались больными, как при немцах, не искали бронированной службы».
Больше всего Салениек досадовал на себя за то, что в нем все же тайно теплилась радость — он избавился от ужасов и трудностей фронта. Нехорошо было и то, что еще совсем недавно он так патетично говорил с Озолом о долге советского гражданина, который намеревался выполнить. Озол теперь будет насмехаться: дескать, хозяйский сынок, интеллигент, философ, разве такой пойдет на фронт. Больше всего его мучила мысль о встрече с Озолом. Будь Озол здесь, предложи он сам ему броню, Салениек, наверное, от нее отказался бы и ушел вместе с Эриком и Юлисом, как трудно бы ему это ни было. Просто не смог бы смотреть Озолу в глаза. И он снова почувствовал, что доволен и благодарен Эльзе Янсон за ее слова: «Мы не делаем разницы между фронтом и тылом». Если так, то он не нарушает слова советского человека. Начиная с этого момента, он каждый день, каждый час будет помнить, что тоже находится на фронте, то есть не принадлежит одному себе, не смеет ни одной минуты проводить без дела. Немедленно же он направится в исполком, а оттуда в школу, посмотрит, что нужно сделать, чтобы можно было приступить к занятиям.
В исполком уже прибыли документы из уездного отдела народного образования об утверждении Салениека в должности исполняющего обязанности директора школы. В первое мгновение его слегка задела формулировка «исполняющий обязанности», он воспринял ее как выражение недоверия, как выжидание. Но привкус горечи исчез, когда Зента, очевидно, заметив его смущение, пояснила:
— Пока что мы все являемся исполняющими обязанности.
Он направился в школу и, войдя в нее, обомлел: это был хлев, а не школа. Только теперь он вспомнил, что в прошлую зиму дети занимались лишь три месяца, затем были выгнаны, и школу немцы заняли под военный госпиталь. Госпиталь оставил в память о себе запах карболки и осколки разбитых бутылок и пузырьков, разбросанных в комнате, на дверях которой сохранилась надпись: «1 класс»; очевидно, эта комната служила аптекой. Летом немцы эвакуировали госпиталь, после чего в школе расположились солдаты. Все классы были забиты соломой, которая заплесневела и воняла. В библиотеке книги были разбросаны по полу, разорваны и растоптаны. В учительской жили офицеры, о чем определенно говорило огромное количество бутылок в углах, под столами и железными койками, об этом же свидетельствовали пустые консервные банки, бумажки от печенья и шоколада и портрет Гитлера на стене.
— Его они оставили, он несъедобен, — брезгливо сморщился Салениек и сорвал со стены портрет. Он потащил его в смежную комнату и бросил лицом в кучу загаженной соломы. Через разбитые оконные стекла врывался ветер, играя с листами разорванных книг, в их шелесте как бы слышалась насмешка: «Культура, культура, новая Европа…»
Один человек тут ничего не мог сделать. Здесь нужна была помощь. Не задерживаясь, Салениек поспешил обратно в исполком. Там он посоветовался с Зентой, как лучше организовать население, чтобы привести в порядок школу.
— Надо будет привлечь родителей, — рассуждала Зента.
— Может, у вас уже есть список детей школьного возраста? — спросил Салениек.
У Зенты такого списка не было. Но она считала, что выход можно найти — разослать извещения и пригласить родителей на воскресник по уборке школы. За два дня — в пятницу и в субботу — Рудис Лайвинь разнесет извещения уполномоченным десятидворок, а те сообщат населению.
Салениек пошел разыскивать учителей, чтобы поговорить с ними: кто и какой предмет раньше преподавал, как теперь распределить уроки.
В субботу после обеда Салениек случайно встретил Мирдзу.
— Надеюсь, что завтра вы явитесь на воскресник со всеми своими десятью дворами, — пошутил он.
— Что за воскресник? — удивилась Мирдза.
— Как, разве вас не оповестили? — забеспокоился Салениек. — Школу хотим прибрать.
— Почему же вы говорите об этом так поздно? — упрекнула Мирдза.
— Но ведь исполком должен был разослать извещения, — оправдывался он.
— Никакого извещения я не получала!
Они зашли к Пакалну, но и тот ничего не знал.
— Как же теперь быть? — развел Салениек руками. — В будний день никто не захочет прийти, а ждать еще неделю…
— Как — что делать? Надо оповестить сегодня вечером. Я возьму велосипед Эрика и объеду, если не полволости, то хотя бы ближний конец.
Мирдза сразу же прикинула, в какие дома стоит заезжать и какие следует объехать стороной. К Саркалиене, например, нечего и заглядывать. К Думиням все же нужно завернуть — у них двое детей школьного возраста. Ирма, услышав, что необходимо пойти помочь, сразу же начала размахивать руками — им, право же, некого послать. Сам с одной ногой, у нее дети и скотина на шее, Алвите должна картофель копать, из-за всех этих хлопот с работами задержались. Мирдза, не дослушав ее жалоб, поспешила к Гаужену и Лауску. Потом к Эмме Сиетниек, сестре Густа Дудума, у которой двое ребят пойдут в школу.
Во дворе она чуть было не сбила с ног самого Густа, который неожиданно, хромая, вышел из садовой калитки. Не ответив на приветствие, он встал в калитке, словно охраняя свое жилье от непрошеной гостьи.
— Хозяйка дома? — спросила Мирдза.
— Здесь еще нет хозяйки, — буркнул Густ.
— Простите, а я думала, что уже обзавелись, — насмешливо сказала Мирдза. — Секретарша исполкома Зента Плауде послала меня пригласить вашу семью на воскресник по уборке школы.
Мирдза произнесла магические слова. Густ немедленно отошел от калитки и жестом пригласил Мирдзу войти.
— Проходите, — он заторопился по ступенькам наверх, чтобы отворить дверь, — скажите, когда это будет? Мы во всяком случае придем. Как же, школу надо привести в порядок, — быстро говорил он, словно боясь, что Мирдза может уйти.
Не желая на этот раз обидеть незадачливого вздыхателя, Мирдза пошла за ним в комнату. Эмма накрывала стол к ужину.
— Эмма, еще один стакан для гостьи, — скомандовал Густ сестре. — Садитесь, пожалуйста, ближе к столу, — он быстро снял со стула свой пиджак.
Мирдза села. Ей было смешно, что Густ так вежливо ухаживал за ней. «Разве я не знаю, что все это — ради Зенты», — подумала она и сказала:
— Простите, что я так поздно ворвалась к вам. Зента еще вчера разослала извещения, но его почему-то не передали.
— Ничего, ничего, — успокаивал Густ. — Ах, уже вчера? Наверное, опять этот Рудис Лайвинь виноват. Я думаю, трудно все же приходится Зенте, ведь наш председатель такой… — он не договорил. — Зачем ей так маяться? Могла бы легче жить. На ее месте даже мужчине было бы нелегко.
— Что поделаешь, если мужчины не берутся, — ответила Мирдза, только ради того, чтобы поддержать разговор. — Зента ведь очень энергична. Все ее уважают, никто не может попрекнуть, что у Советской власти плохие работники.
Светлые усы Густа дернулись.
«Я-то понимаю, как трудно тебе воздержаться от того, чтобы не обругать большевиков, — усмехнулась Мирдза про себя, — попробуй, раскуси этот орешек — скорлупа претвердая, а внутри — Зента».
— Эмма, принеси гостье меду, — снова скомандовал Густ. Не только меду, птичьего молока он приказал бы принести, чтобы только подольше задержать Мирдзу и поговорить с нею о Зенте.
Когда Мирдза ушла из дома Дудума, уже стемнело. Как ей хотелось поехать сейчас к Зенте, переночевать у нее и посмеяться, рассказать, как Густ угощал ее медом.
На следующее утро Мирдза привязала к велосипеду вилы и поехала в школу. По дороге она нагнала старого Пакална, который с таким же оружием шагал по направлению к местечку. Поравнявшись с ним, Мирдза соскочила с велосипеда и спросила, куда он направляется.
— Как куда? — ответил Пакалн вопросом. — Сама вчера звала помочь, а теперь смеешься над стариком.
— Но разве вам обязательно идти? — упрекнула его Мирдза. — У вас дома ведь нет школьников.
— Через шесть-семь лет будет! — Пакалн гордо тряхнул бородой.
В местечке к ним присоединились Гаужен и Балдиниете с четырьмя мальчиками. В школе собралось порядочно людей с вилами, лопатами, метлами, ведрами и тряпками. Дудум и Эмма Сиетниек приехали на лошади, Лауск сдержал слово — привел с собой десяток подростков, батрачивших при немцах у хозяев, а теперь желавших опять учиться.
— С какого конца будем начинать? — спросил Пакалн, стоявший в дверях и оценивавший взглядом замусоренное помещение. — Учителю бы надо распоряжаться, он здесь хозяин.
Салениек уже заранее решил, что правильнее всего будет выкопать глубокую яму и свалить туда весь мусор, чтобы он сгнил в земле и ничем бы не напоминал о годах немецкого господства. Место для ямы выбрали за дровяным сараем. Мужчины сразу же взялись за лопаты. Женщины и дети ссыпали в ведра осколки бутылок и таскали их к яме, чтобы бросить их туда раньше остального мусора.
Яма была почти уже вырыта, когда явилась Зента и поздоровалась с работавшими. Салениек вопросительно посмотрел на нее, ожидая, что она сейчас объяснит, почему она не оповестила всех, как обещала. Но Зента вела себя так, словно все было в порядке, и, когда Салениек спросил ее, она очень удивилась.
— Как же тогда люди догадались, что надо прийти? — спросила она наконец.
— Этим мы обязаны Мирдзе, — ответил Салениек. — Она похлопотала.
Для Зенты это явилось полной неожиданностью. Она тут же нашла виновника недоразумения — Рудиса Лайвиня, осунувшегося и бледного. Кто знал его, сразу же мог догадаться, что парень вчера опять выпил и его мучает головная боль. Зента набросилась на него — почему не разнес извещений. Чуть ли не со слезами на глазах Рудис божился, что извещения он потерял. В пятницу утром он прежде всего зашел на почту спросить у почтовой барышни, нет ли писем, чтобы заодно можно было отнести; после этого он направился в другой конец волости и, только пройдя порядочное расстояние, спохватился, что извещений нет. Вернулся, искал на дороге, но не нашел. Думал, может, оставил на почте, но и там не оказалось. В этот день он ничего не сказал, пошел домой к матери, надеясь, что извещения найдутся. А назавтра он уже не решался признаться Зенте в пропаже, так оно и осталось.
— Ну, тебя следовало бы выпороть! — воскликнул Пакалн. — Так обращаться с государственными бумагами. Ведь можешь невесть какие важные документы потерять.
— Не понимаю, дурак ты или только прикидываешься? — Зента тоже очень рассердилась. — Ну что там такого страшного — взял бы копию извещений или попросту передал бы уполномоченным устно.
— Я думал, что так нельзя, что нужно обязательно отнести бумагу, — оправдывался Рудис, наивно тараща глаза.
— Лучше возьми-ка, сынок, лопату и искупи свою промашку усердной работой, — разрешил Лауск спор. — Ведь собрались мы, что же еще.
Когда яма была готова, в нее сперва свалили битое стекло, потом вилами начали бросать загаженную солому.
Раздался громкий хохот: это ребята накололи на вилы измазанный нечистотами портрет Гитлера и потащили его к яме, выкрикивая «хайль».
— Вот он наконец получил свой «раум»
[4], которого так хотел! — воскликнула Мирдза, бросив в лицо «фюрера» охапку грязной соломы. — Из школы мы его вымели, надо думать, что время выметет и мусор, оставленный им кое у кого в голове. — Она метила в Густа Дудума — на воскреснике он был единственным из всех богатых хозяев. Но от него не было никакой помощи, он только и знал, что вертелся около Зенты да временами покрикивал на сестру:
— Эмма, выгреби из этого угла! Эмма, пройдись вот здесь метлой!
Было похоже — он только для того и приехал, чтобы командовать сестрой, словно она самостоятельно ничего не умела делать. Смешнее всего было видеть, как он, заметив, что Зента нагибается к мусору, сейчас же посылал туда Эмму. Зента, избегая этой помощи, переходила в другую комнату, но Густ находил ее всюду и сразу же раздавался его голос:
— Эмма, иди сюда!
Наконец Мирдзе удалось остаться с Зентой в отдаленном уголке и спросить:
— Почему же наша третья комсомолка не пришла на воскресник? Или тоже не знала?
Зента покраснела: ее тоже беспокоил этот вопрос, впервые возбуждая некоторое недовольство Майгой. Ведь Майга здесь могла поближе сойтись с людьми и показать, что комсомольцы, все равно — крестьяне или горожане, не боятся никакой работы.
— Она знала, — ответила Зента чуть погодя. — Сейчас я пошлю за ней Рудиса.
Но Майга уже входила сама в школу. Все лицо у нее было закутано в платок, выглядывал только нос. Глаза, прятавшиеся в тени платка, были грустные, как у человека, страдающего от сильной боли. Оказывается, что у Майги еще ночью разболелся зуб, она промучилась до утра, затем достала у хозяйки порошок и уснула. Поэтому она опоздала, и это ей очень неприятно. Зуб и теперь еще ноет. Пусть ей дадут самую трудную работу, она постарается выполнить свою норму.
Зенте стало жаль Майгу, она старалась уговорить ее, чтобы шла домой. Мирдзу также мучил стыд, ведь она всегда старалась видеть только плохие черты Майги. А тут человек настрадался, превозмогая боль, пришел на работу, а она с такой язвительностью спрашивает Зенту о третьей комсомолке. Словно стараясь загладить свою вину, Мирдза, как и Зента, искренне принялась упрашивать Майгу пойти домой. Но Майга и слышать не хотела — энергично искала метлу или тряпку. Только когда вокруг нее собрались чуть ли не все участники воскресника и стали уговаривать, она нехотя уступила.
Зента радовалась и гордилась, что Майга все же пришла в школу. Появление Расман и ее желание работать произвели на всех хорошее впечатление.
К вечеру школьное помещение и двор, чистые и убранные, прямо блестели, только пустые рамы да обломанные деревья говорили о войне.
Мирдза возвращалась домой недовольная собой и Зентой. Сегодня представлялась возможность поговорить с молодежью, узнать ее отношение к комсомолу, но ни она, ни Зента этого не сделали. Мирдза винила себя: она знала слабость Зенты, знала, что та не любила первой подходить к людям, но ждала, чтобы к ней подходили, так сказать, предлагали свою дружбу. Так у нее получилось с Майгой. Но местная молодежь стеснялась Зенты, считала ее образованной, занимающей высокую должность, стеснялась и даже как бы боялась ее. Мирдза сама могла переговорить с ребятами, но после размолвки с Зентой она чувствовала себя как бы отвергнутой, их дружба дала трещину. Больше всего она осуждала собственное упрямство. Как это было глупо, из-за упрямства тормозить комсомольскую работу, и все же она не могла перешагнуть через личную обиду. «Как же я смогу принять комсомольский билет? — с болью упрекала она себя. — Не лучше ли написать Эльзе, что она во мне ошиблась, что я не достойна быть членом комсомола? Но как же так, — она вдруг вздрогнула, — быть оторванной от комсомола?» Нет, этого нельзя перенести, нужно преодолеть свое самолюбие. Ах, если бы кто-нибудь помог, хорошенько бы выругал, пронял бы ее, а потом свел с Зентой и сказал: «Постыдитесь, девушки, и перестаньте капризничать! Разве вы не видите, что мелочность, словно ржавчина, покрывает ваши сердца, которые должны быть молодыми и чистыми!» Но где же встретить такого человека, когда все заняты делами более важными, чем ссора двух девушек! Надо будет самой собраться и съездить в уезд, может быть, поговорить с отцом, встретиться с Эльзой. В самом деле, как только закончатся осенние работы, она поедет в город. Каждая встреча с отцом, с Эльзой вызывала в ней подъем, побуждала к работе, к борьбе. Возможно, Эльза вовсе не сердилась на нее, когда уезжала, возможно, ей это показалось. Ведь часто так бывает, думаешь, что вот жизнь запуталась в каком-то шальном круговороте и нет больше выхода, а через некоторое время приходится чуть ли не смеяться над собой — круговорот-то оказался в собственной голове, а не в жизни. «Ах, Мирдза, Мирдза, когда же ты, наконец, станешь более разумной?» — она усмехнулась и дернула себя за ухо.
12
ЗЕМЛЯ
— Видал, Петер, как умно поступил Ян Калинка? — упрекала Ирма Думинь мужа, который уже вернулся из больницы. — Отдал свой дом в пользу волости, а сам пролез в какую-то комиссию по нарезке земли.
— Что же ты хочешь, чтобы и я свой дом отдал? — ответил Думинь вопросом, — Яну нечего было терять. Еще несколько лет, и крыша обвалилась бы ему на голову.
— Но что же мы теперь будем делать? — не унималась Ирма. — Тридцать гектаров у нас отрежут. Попробуй, обойдись тогда с оставшимися тридцатью. Все время ты надрывался, возделывал, а теперь заберет другой, кто раньше по свету шлялся. Год у одного, другой — неизвестно у кого. Нет на свете справедливости.
— Надо поговорить с Яном Приеде, может быть, сумеем оставить побольше, — сказал Думинь. — Книги в волости сгорели, кто же узнает, сколько у нас земли было.
— Поговорить-то можно, — махнула Ирма рукой. — Но я после того случая, когда он помог у нас вещи забрать, плохо ему верю. Кажется, что ему стоило показать в нашу пользу, — не захотел. Хорошо еще, что в суд не потащили.
— Ну, это он тогда по своей глупости выболтал, — успокаивал Петер. Вдруг его охватила досада: — Ты сама была виновата. Зачем сарай открывала. Сказала бы, пусть приходит суд или полиция, и все. Пока бы их разыскали, все было бы шито-крыто. А теперь срам на всю волость.
— Ты посмотрел бы, как они на меня набросились! — вспылила Ирма. — В особенности эта Мирдза Озол. Сущая бесстыдница. Теперь она чего-то притихла, но поначалу показалось — всю волость перевернет.
— Как ты думаешь, — внезапно спросил Петер, — если бы Алвите потребовала от нас участок земли?
— Как Алвите? — удивленно воскликнула Ирма. — Как же ты ей, глухой и полунемой, растолкуешь такое дело?
— Чего там много толковать? Напишу, а она пусть поставит три креста, и все, — нашел Петер выход.
— И что тогда? — не понимала Ирма. — Отдадут Алвите, а нам все равно не достанется.
— Ничего ты не соображаешь! Что она с землей станет делать? Даже не узнает, есть у нее земля или нет, будет по-прежнему на нас работать.
— Ах, вон что! — обрадовалась Ирма. — Но сколько же ей дадут — тридцать пурвиет, а шестьдесят все равно заберут.
— Так много не заберут, — спокойно возразил Петер. — Кто же помнит, сколько у нас было. Болото — пусть берут, все равно там ничего не родится. Знаешь что, приготовь-ка мне корзинку со шпиком и еще чего-нибудь. Я схожу к Яну Калинке. Ему все пригодится. Прибавь пару бутылок самогона.
Старая Саркалиене, пытаясь сохранить всю землю, взяла к себе в дом свою дочь Мальвину, которая раньше жила с мужем в соседней волости. У Мальвины сгорел дом со всем добром. Вновь строиться теперь и думать нечего, а ютиться в какой-нибудь баньке не было смысла. Куда же скотину поставишь и как ее прокормишь? Тридцать гектаров земли все равно не оставят, ведь муж Мальвины при немцах шуцманом был, а теперь во главе волости поставлен человек, который тогда по лесам бродил. Говорит, что научит кулаков работать. Так что, если все взвесить, Мальвине выгоднее просить надел в своей волости. О налогах Саркалиене уже разузнала. Новоселов в первый год от сдачи хлеба освободят совсем или возьмут у них самую малость, а она сама уже в таком возрасте, что налога с нее не спросят. На ее имя можно переписать всю скотину, оставив за дочерью только одну корову. Десять гектаров еще следует перевести на племянника мужа Мальвины. Он, правда, собирается в Ригу учиться, но это ничего, пусть едет. Урожай, слава богу, весь убран, все сложено в сарае и в погребе. Рискованно, правда, было для Вилюма и его помощников по ночам жать и возить хлеб, иногда для отвода глаз приходилось и самой садиться на жнейку; копать картофель Саркалиене нанимала в местечке поденщиков и русских беженцев. Всяких запасов хватит на несколько лет. С Яном Калинкой она уже обо всем договорилась. Этот человек умеет сам жить и другим не мешает. Как он скажет, так и будет. Калинка хвалился, что руководитель уездного земельного отдела приходится ему родственником: Сам теперь безземельный и вроде большим коммунистом стал. При немцах он пострадал, поэтому теперь власть иметь будет. Как хорошо, что Вилюм выручил Калинку, когда немцы посадили того за спекуляцию. Когда-то соседи посмеивались над Калинкой, что на старости с сумой по миру пойдет, а он, словно кошка, — бросай, как хочешь, все на ноги станет. И совсем не так глуп, как некоторым кажется. Когда Саркалиене поехала к нему с корзинкой провизии и с мешком муки, чтобы выпросить себе больше восьми гектаров, которые могли ей оставить, как матери шуцмана, Ян сказал:
— Мамаша, раскинь мозгами. У тебя будет восемь, у дочери десять и у родственника — десять. Будь тише воды, ниже травы. Такие уж теперь времена. Хорошо, что еще так: землю с собой никто не унесет, если немцы вернутся, опять все твое будет. А если никто против тебя бурчать не станет, оставим тебе и все тридцать гектаров.
Саркалиене думала: разумный человек, Вилюм тоже говорит, чтобы спрятала язык за зубами, а ухо держала востро. Чтобы против Озолиене и Мирдзы тоже ничего плохого не говорила. Лучше и их чем-нибудь задобрить. И вообще надо задабривать всех, кто имеет отношение к большевистской власти. Потом можно будет с процентами вернуть. Калинка попытается излишки поделить между малоземельными хозяевами, и никто чужой не влезет к ней в дом.
Густ Дудум тоже передумал всяко. У немцев он не состоял ни на какой службе, в айзсарги не пошел только потому, что ими руководил Вилюм Саркалис. С Вилюмом у него были свои счеты еще с давних времен. Когда-то оба они были страстными охотниками. Однажды Густ выгнал из своего леса козулю, долго преследовал ее на земле соседей, наконец подранил ее в лесу Саркалиса. Но когда он хотел взять добычу, кто-то выстрелил из кустов и попал ему в ногу. Пуля перебила сухожилие, и Густ на всю жизнь остался хромым. Не было сомнений, что стрелял Вилюм, но Дудум не посмел никому ни сказать, ни пожаловаться, так как охотился в запрещенное время, да еще на чужой земле.
Итак, Густа никто не мог обвинить в активной поддержке немцев, и за неприкосновенность тридцати гектаров ему не надо было беспокоиться. Но до сих пор он владел пятьюдесятью. Десять из них можно было переписать на Эмму, но как сохранить еще десять — этого он не мог придумать. Он предложил Зентиной матери, но та отказалась. Что они, две женщины, станут делать с землей. Но он и не допускал мысли, чтобы Зента надрывалась на тяжелой работе. Землю он бы обрабатывал, как и до сих пор. Эмма ухаживала бы за скотиной, а на полевые работы нанял бы людей. Мать Зенты, если бы захотела, могла бы помогать по дому. А если бы Зента жила с ним под одной крышей, то со временем привязалась бы к нему. Он ведь еще не так стар, да и не так уж некрасив. Нередко молодые девушки выходили и за более пожилых мужчин. Мысли эти были столь соблазнительными, что кончики его светлых усов задирались кверху. Но он сейчас же одергивал себя: ведь это лишь мечта, ни: Зента, ни ее мать пока — он не мог допустить, что это окончательно, — к нему не придут, и надо подумать, нельзя ли каким-нибудь иным способом сохранить этот излишек земли. Ни за что нельзя было выпустить из своих рук хотя бы один гектар, ему казалось, что это уменьшит его достоинство в глазах Зенты. Он ничего, не мог придумать — и концы его усов опускались вниз. Отдать часть земли этим голодранцам, каким-то батракам или пастухам? Нет, будь что будет — уж лучше вслед за Янсоном уйти в лес. Но что он, хромой, станет делать в лесу, Густ не думал, да и вообще это не было серьезным намерением, а только хвастливой угрозой, которой, как он и сам чувствовал, никого нельзя запугать. Он сознавал, что никуда не уйдет. Хотя он и раньше ненавидел большевиков, да и теперь не примирился с ними, все же с тех пор, как Зента поступила на службу, эта ненависть начала затихать. По крайней мере, он больше не ругал их, как вначале, потому что тогда ему, волей-неволей, надо было прийти к выводу: а как же с Зентой, тогда надо ругать и ее?
Сколько раз он давал себе слово не обращать на нее внимания, притвориться холодным и равнодушным. Если подумать: что она из себя представляет — ничтожная девчонка, дочь мелкого ремесленника. В свое время он мог жениться на любой хозяйской дочке, получить в приданое усадьбу не хуже господского имения. Но тогда ему казалось, что, женившись, он лишится свободы, молодости, должен будет отказаться от кутежей с друзьями и женщинами в городе, куда он ездил осенью, если удачно продавал пшеницу, свиней или яблоки. Жена и дети казались ему бременем, с которым можно примириться позже, когда в жизни ничего более привлекательного уже не будет. Теперь, думая о детях, он ежился. Не потому, что смотрел на них по-прежнему, как в молодости. Нет — он охотно нянчил бы младенцев, подаренных ему Зентой. Но Густ вспоминал, что у него уже были дети, которые вместе со своими матерями, бывшими его батрачками, скитались по свету.
Все это так. Было да сплыло. Что же делать теперь? От своих надежд и мечтаний о Зенте он не в силах отказаться. Это он знал — куда бы ни пошел, что бы ни делал, перед его глазами стоял образ Зенты, молодой, светлый, радостный. И он не мог отогнать соблазнительной мысли, что когда-нибудь Зента будет улыбаться только ему, он сможет ее обнимать и называть своей женой. Но для того чтобы это сбылось, чтобы он смог обеспечить Зенте беззаботную жизнь и надолго сохранить ее молодой и красивой, он не смеет ничего терять из своих достатков. Что работа и заботы преждевременно съедают женщину, это он видел на примере своей сестры Эммы, которая в тридцать пять лет уже походила на старуху. Конечно, она сама была виновата. Словно дурная, она сразу же после конфирмации убежала к батраку Сиетниеку. Не помогли ни слезы матери, ни угрозы отца лишить наследства. Отец не уступил — и дом, и имущество отдал Густу. Прижив с Эммой троих детей, Сиетниек умер. Старшего сына Эммы, ходившего у хозяев в пастухах, убила лошадь. После смерти родителей, Эмма вместе с меньшими детьми перешла к брату вести хозяйство, дети пасли у него скот. Жалованья он ей не платил — она и так должна считать себя счастливой, что нашла постоянное место, где можно приклонить голову и не скитаться с детьми из дома в дом. Поэтому можно смело передать Эмме часть земли, своего хозяйства она заводить не станет: где же ей взять деньги на постройку дома, где взять лошадь, корову, плуг?
С нею все уладилось бы, но еще десять гектаров, куда их денешь? Если бы Калинка не втерся в комиссию по распределению земли, как-нибудь обошлось бы. Ни Ян Приеде, ни Лауск понятия не имеют, сколько у него земли. Но Калинка знает, и именно он не даст Густу скрыть ни пяди. Живя по соседству, они издавна грызлись и судились и так возненавидели друг друга, что даже не здоровались. Всегда виноват, конечно, был Калинка. За все время он даже не удосужился сделать загон для своих коров. Они бродили по полям, по клеверу Густа, чуть ли не каждый день ему приходилось выгонять их из своих посевов. Пойти теперь просить Калинку? Нет, этого Густ не сделает, все равно, будь что будет.
В конце концов, как долго большевики будут здесь хозяйничать? Вернутся немцы, и тогда он свою землю получит обратно. Как и после первой дележки. И тогда он сможет взять Зенту под свою защиту. Куда она еще денется, кто другой ее спасет. Э, еще не конец света, времена могут измениться к лучшему.
Густ успокоился. Взял бумагу и карандаш и написал от имени Эммы Сиетниек заявление волостной земельной комиссии. В заявлении излагалась просьба выделить Эмме Сиетниек десять гектаров земли, принадлежавшей Густаву Дудуму, на полях которого она долгие годы работала, а дети ее пасли скот. После этого он разыскал чернила, позвал сестру и велел ей переписать.
Эмма читала свою просьбу — и крупные слезы капали на белую бумагу, обещавшую вернуть ей права на наследование отцовской земли.
Перед глазами проплыл ряд лет, начиная с той весны, когда в их дом нанялся батраком Эдвард Сиетниек, бледный и тихий юноша с добрым сердцем. Оба они были молоды, и с тех пор, как появился Эдвард, ей больше не нравились ни танцы, ни грубые шутки хозяйских сынков, хотелось быть в поле, где пахал Эдвард, на лугу, где он косил, и даже в хлеву, где он сгребал навоз. Эдвард бы никогда не осмелился просить руки дочери гордого и богатого Дудума. Она сделала это за него и, напутствуемая проклятиями отца, пошла мыкаться по свету. Она, никогда не работавшая на других, временами испытывала нечто вроде сожаления: не поступила ли она опрометчиво? Но когда Эдвард заболел, надорвавшись на непосильной работе, она терпеливо ходила за ним до последней минуты.
Почему тогда, в молодости, отец или Густ не могли отдать им эти десять гектаров, может, все сложилось бы иначе. Кем она была у Густа? Батрачкой без жалованья, на которую он кричал еще больше, чем на других батраков, потому что на ней было ярмо — двое детей, которых совсем не легко таскать за собой по свету; это знает каждый, кто месил грязь на чужих дворах. А теперь у нее наконец будет своя земля. Детям не придется мыкаться, как ей.
Нить ее мыслей оборвал грубый окрик:
— Эмма, пиши, чего хнычешь. Надо торопиться, пока другие не попросили. Думаешь — мало голодранцев?
Эмма вытерла слезы и аккуратно переписала заявление. Для нее и ее детей это было началом новой жизни, никто уже не посмеет покрикивать на них. Работы будет много, ох, как много, но к этому она привыкла и приучила своих детей.
— Я думаю, Густ, — сказала Эмма, вытирая слезы, — что в жизни правда все же берет верх. Земли так много, почему же ее и раньше не могло хватать на всех?
Густ от удивления раскрыл рот и хотел прикрикнуть на сестру: вот, мол, дура, под дудку коммунистов пляшешь, но вовремя спохватился: эта гусыня поверила, что не на бумаге, а на самом деле получит десять гектаров. А если она действительно этому верит, то пока лучше ей ничего не говорить, иначе она потребует надел в другом месте, и на его, Густа, землю сядет какой-нибудь нищий. Кто тогда будет смотреть за домом, разве чужому можно доверить хозяйство?
— Ну ладно, ладно, сестрица, — проворчал он. — Разве тебе когда-нибудь чего не хватало? Как свой человек в доме жила.
Эмма вспомнила, что у нее не было праздничного платья, дети часто совсем оставались без обуви, и Густ этого не замечал. Но так как брат с нею никогда не говорил так мягко, как сейчас, то она не высказала упрека и пошла в коровник доить коров…
Лауск решил просить себе землю в усадьбе своего бывшего хозяина Стендера. Здесь он батрачил несколько лет и в первый год Советской власти получил было надел. За рощицей стоял временный домик, построенный им тогда. Там росла дикая яблонька, которую Имант пересадил из леса. Собрать урожай в тот год ему не дали. Не хотелось вспоминать, какие страхи довелось пережить из-за этого клочка земли. Сын Стендера, Лудис, явился из города вместе с гитлеровцами и ночью выгнал Лауска с детьми в чистое поле. Сказал, чтобы не пытались бежать или шевельнуться, а то застрелит. Грозился засадить в тюрьму, повесить на первом же дереве. Не заступись хозяйка и не скажи, что батраки будут нужны, чтобы землю обрабатывать, бог знает, чем кончилось бы. Принудили остаться здесь же батраком. Что же было делать, ради детей хотелось жить. Так и пришлось остаться.
Хозяйка еще ничего, можно терпеть, но как она такого зверя-сына вырастила? Наверное, потому, что сильно баловала свое единственное дитятко. Послала Лудиса в высшую школу, летом он ходил, засунув руки в карманы, сдвинув на затылок трехцветную форменную шапочку. Хорошо, что скоро исчез из дому. Поступил в какие-то эсэсы, и в Белоруссии ему свернули голову. Мать плакала: конечно, каждому своего ребенка жаль, но, право, не грешно было прикончить такого. Наверное, из-за подлости сына хозяйка чувствовала себя неспокойно и не вернулась. Оставила Лауску одну лошадь и корову, на прощанье заплакала: «Если, Лауск, когда-нибудь приведется встретиться, замолви за меня доброе словечко. Я тебе зла не желала. Сына сама судьба наказала…» Какая там судьба. Не трогал бы других, никто бы и его не тронул.
Теперь Лауск возьмет себе землю на том же месте. Домик еще стоит. Имант сделает прививку яблоньке, посадит новые, дочка уже решила, какие цветы посадит вокруг дома. Малыши только и говорят о яблоках и сливах, в будущем саду. Только жена все причитает: «Не торопись землю просить, как бы опять чего не вышло. Немцы еще в Курземе сидят, и поди, знай. Вот тогда, в первый год до Москвы дошли, а до нас-то совсем близко». Она так запугана, что, услышав взрыв мины, которых немцы всюду понапихали, подскакивает. Да еще эти местечковые кумушки болтают всякий вздор.
Несомненно, такие сплетни кое-кого запугали. Он был назначен в земельную комиссию. Заявления о наделении землей и о прирезах, правда, поступали, но многие выжидали, откладывали на более позднее время, отговаривались, что, мол, нет ни скотины, ни нужного для работы обзаведения. Скажешь им — да ведь власть поможет, машут рукой — где возьмет, все разрушено. Спросишь — что же думают делать, если не берут себе земли. Один собирается в город на заработки пойти, другой — к хозяину в поденщики, как раньше. Разве мало батрачили на хозяев! Нет, пусть жена себе ворчит, он свою землю потребует, она ему положена. Не может же вечно на свете так быть, чтобы одному принадлежало столько земли, что всех межей за день не обойдешь, а у другого и клочка нет — негде даже капусту посадить.
На первом заседании земельной комиссии докладывал Калинка. Сперва он рассказал, что свою усадьбу передал в земельный фонд, но ее никому не отдадут. Он со своим родственником в уезде договорился, что государство там организует коннопрокатный пункт. Ему, Калинке, приятнее, что государство воспользуется его трудами, а не какой-нибудь новохозяин, который все запустит.
— Сейчас все они кричат — дай землю, но когда надо будет ее обрабатывать, то запищат, — закончил он.
— Я думаю, что более толковые сумеют землю обработать, — тихо вставил Лауск. — Даже лучше тех, кому она раньше принадлежала.
— Уметь — это одно, — резко ответил Калинка, — а обо всем самому заботиться — другое. Ты небось, живя у Стендера, не спрашивал, сколько ему коса стоит, сколько плуг. Получал все готовое и работал.
Лауск не ответил. Он многое мог бы возразить Калинке, но разве на заседании скажешь о таких вещах.
— Вот та же Ванадзиене затребовала десять гектаров земли из владений Августа Миглы, — продолжал возмущаться Калинка. — Что она, старуха, одна будет делать с ними? Был бы сын жив, но его нечего и ждать. Я еще понимаю, попросила бы пурвиету, чтобы картошку, овощи посадить, а то — десять гектаров!
— Сколько же у нас всей земли для дележки? — спросил Ян Приеде. — Если всем хватит, то надо дать и Ванадзиене.
— Кто знает, сколько ее, — проворчал Калинка. — Пусть берут. Я думаю, надо дать всем, кто просит, чтобы никого не обидеть. Читать нам каждое заявление в отдельности не стоит — так мы просидим до полуночи. Я составлю решение и список — и дам вам на следующем заседании подписать.
На том в тот день и разошлись. Лауск, возвращаясь домой, думал, как все-таки просто прошло заседание. Ведь сейчас в жизни многих людей происходит поворот к новому. Он предполагал, что все будет очень торжественно, а его вроде как бы разочаровали. Но, может быть, так и надо. Зачем много говорить, пусть каждый в своем сердце почувствует, чего он добился. Но почему
Калинка хочет избавиться от своего дома? Все знают, что он запустил его до крайности, постройки покосились. Какой это коннопрокатный пункт — лошадям на головы польется и машины негде поставить. Поди, угадай, что в уезде мудрят. Может, думают показать, что и запущенный двор можно привести в порядок. Может, хотят лучшую землю новохозяевам оставить, чтобы скорее на ноги стали.
Второе заседание было более оживленным. Калинка зачитал решение, по нему наделы отводились и тем, кто затребовал землю, полученную еще в сороковом году, и тем, кто просил впервые. Вопрос только в том, по скольку оставить старым хозяевам. Так как земли сейчас хватает, то он предлагает оставить всем по тридцать гектаров. Если потом земли не хватит, то она ведь здесь же останется, никуда не денется. Активные пособники немцев удрали, а если у кого из них осталась семья — мать или жена, — то мстить им нечего.
— Не знаю, как высшие власти смотрят, — начал Лауск, — я читал инструкцию. Там сказано, что семьям немецких прислужников больше восьми гектаров не полагается.
— А я был в уезде, — махнул Калинка рукой, — мой родственник говорит, пусть местные власти сами решают, им виднее. Теперь трудно разобраться, кто служил немцам, кто — нет. К примеру, возьмем Лудиса Стендера и Вилюма Саркалиса — оба они служили немцам. Хорошо, Стендериене уехала. Госпожа Саркалис осталась. У, Стендеров усадьба записана на имя сына, так что старуха могла бы затребовать себе землю и мы присудили бы ей десять гектаров, А у Саркалисов все переведено на имя старухи. Известно, что если сын, как Вилюм, женат, то его семьей считается жена и дети, а не мать — это уже отдельная семья. Может быть, я своего родственника не так понял, высказывайтесь вы, — добавил он в заключение.
— Н-да, — протянул Ян Приеде. — И не знаю, как было бы лучше.
Лауску тоже трудно было разобраться. С одной стороны, казалось, что Калинка неправ, с другой — людей пока мало, а земли достаточно, пусть она числится на имя Саркалиене.
— Ну, как думает председатель? — нетерпеливо спросил Калинка. — Если уж говорить о немецких пособниках, то надо решить, считать ли врагами и тех, кто призван в легион. Например, у Балдиниете два сына в немецкой армии, у Лидумиете — один. Да и у самого Озола надо спросить, где его сын?
— Н-да, — снова протянул Ян Приеде. — Этих врагами считать как будто нельзя.
— Ну, вот! — живо подхватил Калинка. — В том-то и дело, я тоже говорю. Я думаю, что в уезде все это еще раз пересмотрят. Если что не так, пусть не утверждают. Зачем же именно нам вызывать недовольство. Что ты скажешь, если времена переменятся? Всегда лучше по-хорошему все сделать.
— Я все же думаю, — возразил Лауск, — что теперь времена уже больше не изменятся. Немцы прогнаны так далеко, что им больше не вернуться.
— Немцев-то отогнали, — протянул Калинка, — а в Курземе еще стоят наши легионеры. Говорят, добром они не сдадутся. Как же в девятнадцатом году зеленые всех Прогнали?
— Ну, тогда было совсем иначе, — не согласился Лауск. — Тогда дело было не в зеленых — на русскую землю напали со всех сторон государства посильней.
— А разве теперь будет по-другому? — не уступал Калинка. — Мне один офицер говорил, — он таинственно наклонился к Лауску, — что, мол, так скоро они домой не попадут. Как только с немцами справятся, начнется война с американцами и англичанами. Это как бог свят. И тогда им уж не устоять, тогда конец. В своей стране начнутся беспорядки.
— Не знаю, откуда вы таких офицеров берете, — рассердился Лауск. — Я разговаривал со многими — русский язык я знаю с первой войны, — и все в один голос отвечают: эта война — урок всему миру — не зариться на нашу землю.
— Я ведь ничего от себя не говорю, — оправдывался Калинка, — только то, что другие толкуют. А о земле главное слово за председателем. Ну, решай, Приеде, сколько оставить твоему бывшему хозяину, сколько Саркалиене, сколько Августу Мигле. Если ты скажешь восемь гектаров — я напишу восемь. Если скажешь два — пусть будет два. Если всю отобрать — давай всю. Вы думаете, что мне жаль этих кулаков? Я теперь сам безземельный, такой же, как вы оба. У тебя, Лауск, есть земля хотя на бумаге, а у меня нигде нет. Ну, решай и говори! — он уставился Яну Приеде в лицо и взялся за ручку.
— Что же я, — отмахнулся Ян. — У тебя родня в уезде. Ты сам лучше знаешь.
— Нет, скажи ты, — не унимался Калинка, — пусть будет по закону. Слово председателя решит спор.
Ян Приеде ответил не сразу. Он вспомнил, что в уезде, куда его вызывали вместе с другими председателями волостных исполкомов, сказали, что семьям немецких прихвостней надо оставить по восемь гектаров, — но пойди разберись тут, кого считать врагом, кого — его семьей. Саркалис был шуцманом, это ясно, а усадьба у, него на имя матери. Как поступить в таких случаях, этого никто толком не сказал. А он не догадался спросить. Может, все-таки лучше оставить Саркалиене побольше земли, не обижать же старого человека. И так у нее от ста гектаров останется только тридцать.
Калинка снова обмакнул высохшее перо в чернила и нетерпеливо посмотрел на Яна.
— Пусть будет всем по тридцать, — махнул рукой Приеде.
— А ты, Ян, не хочешь брать землю? — спросил Лауск у председателя. — Сколько лет ты поля Думиня вдоль и поперек топтал. Там каждый вершок твоим потом удобрен.
— Куда мне, — равнодушно ответил Ян, — что я стану с нею делать один?
Лауск подождал, пока уйдет Калинка. Ему уже давно хотелось поговорить с Яном Приеде. В былые годы в, эту пору всюду молотили, дым коромыслом стоял, а нынче осенью только одна молотилка гудит в дальнем конце волости.
Вырезая в Черном бору прутья для метлы, он наткнулся на большую молотилку с локомобилем, принадлежавшую Саркалисам и спрятанную Вилюмом перед отъездом. Локомобиль Августа Миглы тоже стоял в бездействии, у него немцы будто бы сломали что-то. Но разве нельзя починить? Правда, у кузнеца инструменты растащили, да ведь можно было бы по домам их собрать.
— Как ты, Ян, думаешь справиться с молотьбой? — спокойно спросил Лауск.
— Понемногу обмолотим, — в том же тоне ответил Ян.
— Следовало бы поторопиться. Людям есть нечего, да и государству надо сдавать.
— Нужно, — согласился Ян. — Но где же взять машины?
— Я знаю, где их найти, только ты должен помочь вытащить их из кустов и сараев, — терпеливо развивал Лауск свою мысль.
— Я охотно выберу день и вырвусь из исполкома, — согласился Ян.
— Может, этого и не понадобится, — рассуждал Лауск. — Не знаю, как это высказать. Людей с сильными руками я найду. Но надо, чтобы ты нам поручил это сделать. Доверенность, что ли, какую написать. Скажем, мне и Гаужену. Чтобы никто нам не помешал. Ты против этого ведь ничего не имеешь?
— Нет, нет! Упаси боже! — воскликнул Ян. — Молотить надо. Из уезда запрашивают, сколько обмолотили и сдали.
— Так, быть может, ты напишешь эту бумажку сейчас? — тут же предложил Лауск.
В тот же день он пошел к Гаужену. Тот умел обращаться с локомобилями, так как осенью обычно подрабатывал машинистом. Условились Саркалиене ничего не говорить, просто пойти в лес и попытаться вытащить машину. В помощники взяли кузнеца Саулита, кое-кого из подростков, позвали также и Мирдзу.
Оказалось, что сдвинуть молотилку с места было не так просто. У нее были отвинчены некоторые части. Не хватало и приводного ремня.
— Проклятый Вилюм! — ругался Гаужен. — И тут постарался нам нагадить.
— Да, что поделаешь, — вздохнул Лауск. — Пришли мы, как важные люди, с бумагой в кармане, и все же руки коротки.
— Надо вывести машину во что бы то ни стало, — настаивала Мирдза. — Хоть на руках, да вынесем.
— Отчаянная девушка! — усмехнулся Лауск. — Если бы все такими были, то и лошадей не надо было бы. Но что мы будем делать, если и вынесем? Машина уж так устроена, что каждый винтик имеет свое назначение.
— Саулит сделает новые, — сказала Мирдза, с мольбой посмотрев на кузнеца.
— Ради тебя, милая, я даже золотое кольцо выковал бы, будь я помоложе. — Саулит шутливо обнял Мирдзу. — Но, видишь ли, у меня нет завода, где делают такие вещи.
Старики набили трубки. Было ясно, что вытащить молотилку не удастся, но бросить ее тоже было жаль, поэтому они все еще не уходили, словно надеясь, что само время им поможет. По-всякому соображали: может, спросить в городе, не осталось ли на складе бывшего кооператива запасных частей, но эти предположения пришлось отбросить, ведь немцы перед уходом кооператив взорвали. Молодежи стало скучно и холодно. Мирдза предложила сыграть в пятнашки и ударила Иманта Лауска. Тот погнался за Валдисом Гауженом, который ни за что не хотел дать себя поймать, но вдруг оступился и подвернул ногу. Увидев, что с мальчиком случилась беда, старики обступили его. Мирдза чувствовала себя виноватой, так как была зачинщицей игры, и, присев, начала ощупывать ногу Валдиса. Внезапно она почувствовала, что и сама проваливается, словно под мохом не было твердой почвы.
— Уж не зарыт ли тут клад, — заметил Саулит и отшвырнул носком сапога слой моха. Обнажился рыхлый, недавно набросанный песок. — Здесь что-то есть! — радостно воскликнул кузнец, и остальные, забыв о мальчике, принялись ковырять песок.
— Лопатой надо, — сказал Гаужен, на всякий случай захвативший из дома лопату. Он копнул несколько раз — и лопата ударилась о что-то твердое. Эта был деревянный ящик, зарытый в песок и тщательно прикрытый мохом и сухими еловыми ветками.
Очистив песок, люди отбили верхние доски ящика.
— Черт побери! — воскликнул Саулит. — Это ведь все приданое молотилки.
В ящике лежали все отвинченные от машины части. Осторожно, словно это было стекло, люди вытаскивали их, вертели в руках, как драгоценности. На самом дне лежал свернутый приводной ремень.
— Валдинь, сынок, — вспомнил Лауск о мальчике, который сидел на земле и жадно рассматривал вместе со всеми части машины, — за такую находку я был бы согласен обе ноги себе вывихнуть. Скажи-ка, мальчик, тебе очень больно? Уж не перелом ли?
Валдинь поднялся на ноги. Болеть-то болело, но все же он мог наступать и на поврежденную ногу.
— Приложишь вечером мокрую глину и будешь здоров, — успокаивал Гаужен. — Разве это впервые случается с крестьянином? Мирдза, ты еще погоняй ребят, — вдруг повеселел он, — может, еще что найдете.
Саулит считал, что можно было бы оставить молотилку на ночь в лесу и прийти за ней на следующее утро, но Лауск не согласился:
— Откуда мы знаем, вдруг кто-нибудь еще будет искать здесь клад, и тогда мы останемся с носом.
Гаужену тоже хотелось поскорее вывезти машину, и он послал ребят в лесосеку за березовыми дровами, чтобы затопить локомобиль. Хорошо зная, что требуется в таких случаях, он захватил с собою два ведра, чтобы подносить воду. Правда, вода была далеко, в озере, за лесосекой, но чего человек не сделает, если только захочет. На лошади к озеру все равно не подъедешь, кругом вязко. Младшего сына Пауля Гаужен отправил домой за фонарем, на случай, если наступит темнота, и велел приехать на лошади, так как Валдис не мог дойти домой.
Пока они привинчивали части, носили воду и разогревали локомобиль, наступили глубокие сумерки. Завязшая молотилка не хотела сдвинуться с места. Лауск и Саулит налегли каждый на свой угол и толкали вперед. Ребята облепили машину и старались, как могли, но та словно к земле приросла.
Старики утерли пот и закурили.
— Наверное, ничего не выйдет, — начал сомневаться Лауск.
— А если еще раз поднажать? — Гаужену было жаль оставлять разогретый локомобиль. — Нажмем посильнее, чем в первый раз, — тогда должно пойти… Я полагаю, должна сдвинуться.
На этот раз даже Валдис не утерпел и присоединился к остальным. Мирдза чувствовала, что все напрягают силы до предела, и у нее самой мышцы натянулись, как струны.
— Ну теперь, как на плотах, — раз, два — взяли! — скомандовал Лауск.

После третьего «взяли» машина сдвинулась и, важно пыхтя, покатилась по высохшей лесной дороге. Дружное «ура» прорезало лесную тишину и прозвучало над верхушками деревьев. Люди окружили машину, как победители; впереди нее, показывая Гаужену дорогу, шел Лауск. На полпути они встретили подводу с Паулем и матерью, которая отдала им фонарь и усадила в телегу выбившегося из сил Валдиса. Предложили поехать и Мирдзе, но та отказалась, заставив сесть Саулита.
Ночью, в лесу, при свете фонаря, этот поезд казался фантастическим. Телега громыхала, подскакивая на корнях, машина постукивала. И все же это казалось таким веселым приключением, что мальчики и Мирдза, забыв ноющую боль в мышцах, затянули веселую песню. У Мирдзы кольнуло в сердце. «Жаль, что Эрика здесь нет… И Карлена… Вот было бы для него событие!»
В полночь молотилка въехала в усадьбу «Стендеры». Молотьбу решили начинать там, так как в большой сарай было свезено много хлеба, назначенного для сдачи государству.
Назавтра Лауск с Гауженом зашли к Августу Мигле.
— Хотим посмотреть, что за беда приключилась с твоей молотилкой, — начал Гаужен разговор. — Самое время приступать к молотьбе.
— Да, да! — живо поддержал Август. — Обязательно надо молотить, больше невтерпеж. Муки ни горсточки, в клети ни крупинки.
— Так что же на самом деле с молотилкой? Может, сумеем пустить ее? — продолжал Гаужен.
— Да разве я не пустил бы, если бы можно было?! — воскликнул Август. — Как в прежние годы, для половины волости обмолотил бы.
— Покажи, может быть, починим.
— Где ее починить? — почти застонал Август, — Что погибло, то погибло. Как человек, если помрет, то хоть плачь, хоть песни пой, все равно до страшного суда не воскресить.
— Но, может, она не померла, а только больна, больных можно лечить, — не уступал Гаужен.
— Милый Гаужен, — Август положил руку на сердце и преданно посмотрел ему в глаза. — Ты уж мне, право, можешь поверить. Я за эти годы тоже научился кое-что понимать в машинах. Я ведь за учение это большие деньги уплатил, а обратно их не выручу. Говорю тебе, она умерла, погибла.
— Вы бы нам показали этого покойника, — вмешался Лауск.
— Я вам скажу… — начал Август, и голос у него сорвался, — я не могу на нее смотреть. Нехорошо привязываться к земным вещам, да простит господь мне, грешнику, но молотилку я полюбил. Я думал: вот смогу людям помочь тем, чем бог меня благословил, но так нехорошо получилось… — на круглых глазах Августа выступили слезы.
— Не плачьте, господин Мигла, — успокаивал Лауск. — Мы без вас посмотрим.
— Если уж вы мне, честному человеку, не верите, — в голосе Августа послышалось раздражение, — то идемте, идемте, посмотрим.
Он повел обоих в сарай, где стояла хорошо знакомая Гаужену молотилка. Снаружи на ней не видно было никаких повреждений. Август стал торопливо рассказывать.
— Леший разберет, зачем они немцу понадобились, — утащили все решета. Может, немцы и не виноваты, свои ведь тоже тащили к себе все, что могли. Что будешь делать без решет?
Гаужен и Лауск немного помолчали. Странно было то, что не хватало именно решет. Но неужели служитель церкви станет обманывать.
— Так ты говоришь, что этой осенью на ней молотить нельзя будет и она уже никуда не годится? — невинно спросил Лауск.
— Никуда не годится! — живо подхватил Август. — На лом — и только. Я говорю — такие деньги тогда вложил, думал — будет волости польза… Где же ты нынче такие решета возьмешь? Заграничная фирма!
— Тогда ты ничего не будешь иметь против, если исполком возьмет машину себе? — как бы между прочим: бросил Лауск.
— Разве у волости не хватает развалин и лома? — пытался шутить Август, но его дряблые щеки все же слегка задрожали.
— Пусть лома хватает, но мы готовы взять и этот, — сказал Лауск уже серьезно. — Соберем из нескольких машин одну и пустим.
— Чего шутить, Лауск! — Август хлопнул его по плечу. — У каждой марки машины свое устройство.
— Я — серьезно, — настаивал Лауск, — мы эту машину возьмем и залатаем.
— Отдать-то я ее, положим, не отдам, — ответил Август в таком же тоне. — Это моя вещь, вот и Гаужен может подтвердить.
— Вещь вещью, — нехотя проворчал Гаужен. — Но мы ответственны за молотьбу.
— И мы можем мобилизовать любую молотилку, — добавил Лауск.
— Что ты, Лауск, да разве калек мобилизуют, — пытался Август снова перейти на шутливый тон. — На войну ведь тоже не берут, если у кого нет ноги или руки.
— На нашей войне пригодится, — спокойно ответил Лауск. — Я думаю, Гаужен, нам здесь нечего больше задерживаться. Сегодня опечатаем и приедем за нею.
— Нет, господа, я с этим не согласен, — запротестовал Август.
— У нас есть документ, — Лауск достал из кармана удостоверение от исполнительного комитета и протянул его Августу.
— Я без очков не вижу, — ответил тот, отводя руку Лауска. — Решительно ничего не вижу.
— Мигла, я тебе скажу совсем серьезно и в последний раз, — теперь и Гаужен не уступал. — Или ты найдешь решета и пустишь машину, или же мы ее национализируем.
Последнее слово испугало Августа не на шутку. Рыжеватые усы его опустились вниз, а бородка задрожала.
— Ну, что вы — с угрозами, свои же люди, — бормотал он. — Я попытаюсь разыскать. Может быть, немцы здесь же куда-нибудь забросили. С собой такое барахло ведь не повезли.
— Значит, завтра, — Гаужен пристально посмотрел Мигле в глаза. — Завтра найди, — повторил он еще раз.
Когда они отошли от усадьбы Миглы, Лауск с сомнением спросил:
— А если он машину не приведет в порядок?
— Приведет, — уверенно ответил Гаужен. — Я Августа знаю. Хитер, как лиса, и труслив, как заяц.
13
ОТВЕРГНУТЫЕ ИСТОРИЕЙ
Посреди Большого бора — просторная, снаружи хорошо замаскированная землянка. На грязном, сколоченном из досок столе горит стеариновая свеча. Вокруг на неотесанных березовых чурбаках сидят шестеро мужчин и играют в карты. В углу, на нарах, устланных сеном и аккуратно покрытых простыней, лежит молодой человек, апатично смотрящий на играющих. На его бледном лице, от носа к углам рта, легли глубокие складки. Он выглядит, как после тяжелой болезни. Уже прошло два месяца с тех пор, как он оставил свой дом и, укрываясь от мобилизации, присоединился к банде. Из землянки он выходит редко: только с наступлением глубоких сумерек или ночью, так как боится наткнуться на какого-нибудь заблудившегося прохожего или на патруль. Семейная трагедия и апатия — а так Артур Янсон в мыслях называл свой разрыв с Эльзой — измучили его до отупения. Он мог целыми днями валяться на своем ложе и смотреть в потолок, по которому время от времени проползали пауки.
Днем в землянке обычно царила тишина, лишь изредка слышался приглушенный говор. По вечерам часть ее обитателей уходила на посты, часть на охоту — так они называли грабеж продовольствия у населения. Янсона здесь считали больным или просто «мямлей», — как его не раз спьяна обзывал Вилюм Саркалис, — и поэтому ему пока не давали никаких заданий. Остававшиеся в землянке играли в карты и пьянствовали, если «охотникам» удавалось добыть самогон. В выпивках участвовал и Янсон, но игра ему претила. Противны были замусоленные, засаленные карты и циничные изречения, сопровождавшие каждый ход. Вот и теперь раздается стук пальцев о стол, и Вилюм хрипит пропитым голосом:
— На, бей мою жидовку!
Янсон уже понимает жаргон игроков и знает, что жидовкой они называют пиковую даму. Бубновая дама — это блицмейдел
[5], трефовая — богоматерь, а червонную даму они, издеваясь над ним, прозвали Эльзой.
— Ну, садани, садани этой жидовке! — нетерпеливо рычит Вилюм на своего партнера. — Нечего миндальничать. В Смилтене мы таких живьем в яму загоняли.
Янсона бросило в нервную дрожь. Он представил себе заживо погребенного человека; лицо, рот и глаза засыпает песок, который не дает дышать и душит. В детстве он испробовал, как долго может выдержать без воздуха. Больше двух минут он не выдерживал, в ушах начинало звенеть, в висках стучали маленькие молоточки, кровь бросалась в голову. Надо было раскрыть нос, рот и втянуть в легкие воздух, казавшийся после этого испытания вкуснее любых лакомств.
Но каково человеку, когда на него кидают песок лопатой. Песок покрывает его все более толстым слоем, давит все тяжелее, мучения все усиливаются, но нельзя перевести дыхание, нельзя крикнуть или даже шевельнуться.
— Как они визжали, когда мы поднимали на штыках их курчавых щенят, — продолжает Вилюм.
— Ну, ходи, ходи, расскажешь потом, — нетерпеливо прервал его Леопольд Мигла.
— Я бью своей блицмейдел, — хрипел Вилюм в ответ. — Ну, ей-богу, было на что посмотреть, когда мы их гнали к яме. Понимаешь, один старый раввин с седыми пейсами грохнулся наземь. Не может идти. Я как перекрестил его прикладом по спине, сразу воскрес, словно спаситель в пасху.
— Недаром говорят — бежит, как жид от креста, — съязвил Леопольд.
— Ни черта не бегут, — осклабился его младший брат Готфрид. — В таком случае вот господин пастор давно бы крестным знамением выкурил их из Латвии.
— Что же я мог поделать, — сказал Гребер, внимательно глядя в свои карты. — Сам Ульманис посылал сыну Дубина приветственную телеграмму по случаю его свадьбы.
— Ульманис в отношении евреев был мямля, вот кто, — вспылил Леопольд, — Если бы нашему Густу Целминю дали власть, то он вместе с Дависом за несколько дней очистил бы Латвию. «Юденфрай!»
[6] — вот что было написано на всех пограничных столбах.
— Ты не дергай Ульманиса за бороду! — запротестовал Вилюм. — Этот человек знал, что делал!
— У него и борода-то вовсе не росла, — заметил Гребер, двусмысленно ухмыльнувшись.
— Пусть у него борода и не росла, но интересы своих крестьян он умел защищать, — кричал Вилюм, багровея. — Кто придумал приплаты за масло? Ульманис! Кто сказал, что землевладелец первый человек в государстве, что все остальные должны ему сапоги чистить? Ульманис!
— Что есть, то есть, а чего нет, того нет
[7], — вставил Арнис Заринь, пытаясь блеснуть остроумием.
— Молчи, свинья, когда рогатая скотина говорит! — ткнул ему Вилюм под нос кулак. — Ты еще во весь рост под столом ходил, когда Ульманис уже Латвию основал!
— И жидам продал, — бросил Леопольд. — Густ Целминь, тот бы…
— Густ Целминь, Густ Целминь! — передразнил Вилюм. — Густ Целминь содрал бы с крестьян девять шкур, а потом бросил бы в пасть своим фабрикантам и торгашам. Ульманис знал, кому следует отдать предпочтение. И скажи, чего тебе не хватало? Блинами свиней кормил!
Поднялся такой гам, что у Янсона закололо в ушах. Встав со своего ложа, он, как пьяный, шаря по стене руками, поплелся к дверям.
Пошатываясь, вышел из землянки и жадно вдохнул холодный вечерний воздух. Он почувствовал себя выбравшимся живым из той ямы, о которой кричал Вилюм. От этой грубости и цинизма у него захватывало дух, от людей этих несло зловонием падали. Порою по ночам он, как и сейчас, уходил из землянки с намерением скрыться, найти тихий, уединенный уголок где-нибудь на берегу реки или озера и жить там отшельником, погрузившись в себя и в созерцание мира.
С живой жизнью он порвал все узы — их расторгла своим уходом Эльза. «Эльза… Эльза! Если бы можно было тебя вернуть, если бы нашлось такое волшебное слово, которое возвратило бы тебя к мерцанию звезд, к песням птиц, к благоуханию цветов, как говорит поэт, — верь, мы нашли бы мирный уголок, где жили бы вдвоем. Я для тебя, а ты — для меня. Никакие невзгоды окружающего мира не врывались бы в нашу жизнь. Я носил бы тебя на руках, ты нежная, воздушная, единственная! Что тебя связывает с этими материалистами-большевиками, сделавшими тебя совсем другой, чужой? Эльза, если у тебя человеческое сердце в груди, то вернись, вырви меня из ямы, в которой я погибаю. Эльза!» — он кричит, кричит беззвучно, боясь, что его могут услышать неведомые преследователи, перед которыми он испытывает панический страх. Как жизнь может быть такой грубой? Мобилизация. Кто имеет право его мобилизовать, посылать на войну? Он не признает этой войны, она его не интересует. Пусть воюет тот, кто считает это своим призванием — воюет на чьей угодно стороне. Он пацифист и остается при своих пацифистских убеждениях.
Чистые руки, чистое сердце, чистая одежда и дом — были идеалом его жизни. Он только на время загнан в среду этих грубых людей, но он не останется среди них; он должен найти выход, так как не привык к грязи, которая господствует здесь, к грязному белью и вшам, которые так противно ползают по телу и вызывают зуд. Но сейчас он не может уйти, некуда. Здесь его, по крайней мере, кормят, не гонят от стола, на который ставят все, что только можно найти в клети или кладовой крестьянина. Какое ему дело до того, где это добыто. Цветку тоже неинтересно, из какой гнили его корни получают необходимое питание, он расцветает красивым и неповторимым. А человек, венец творенья, — и не может себе присвоить таких прав! Конечно, для него такое положение является временным, он попытается уйти отсюда в другую страну, где случай обогащает человека, делает его независимым, позволяет жить только для себя и избавляет от работы ради хлеба насущного, а работу он всегда втайне ненавидел, как ограничение своей личности. И когда он будет состоятельным человеком, фермером или владельцем золотых приисков, Эльза снова вернется к нему. Он не станет ее упрекать, ни одним словом не напомнит о ее заблуждениях и своих страданиях. Их жизнь будет, как ясный солнечный день. Никакие мелочи жизни, ни лишения, ни повседневная работа не будут омрачать их обновленного счастья.
— Чего ты тут шатаешься, не можешь усидеть в землянке! — сиплый окрик резким аккордом ворвался в мелодию его мечтаний. Это был Вилюм, незаметно для Янсона вышедший из землянки. Янсон не мог понять, почему Вилюм всегда за ним так следит, не дает долго оставаться одному, в особенности по ночам, когда он охотно побыл бы в лесу, чтобы слушать шелест сосен и смотреть на звезды, сверкающие и глубокие, как глаза Эльзы.
— Иди, сейчас будем ужинать, — Вилюм толкнул Янсона к входу. От прикосновения тот съежился. Руки Вилюма ему казались всегда испачканными кровью. Но все-таки он подчинился ему с первого слова, ибо глаза Вилюма иногда так угрожающе загорались, что внушали страх не только ему, но всем остальным обитателям землянки, считавшим его своим главарем. Он сам возвел себя в чин командира «латышских патриотов» и назначал парней на «охоту», устанавливая, где и что грабить.
Когда Янсон вошел в землянку, карты были убраны и братья Миглы расставляли на столе хлеб, масло, копченую ветчину, сироп из сахарной свеклы. В углу на времянке кипела в котелке вода для чая. Дождавшись возвращения Вилюма, все взяли по ломтю хлеба, намазали маслом и положили сверху большие куски ветчины.
Янсон видел, что Вилюм особенно жирно накладывал масло, почти в толщину ломтя хлеба. Глаза у него блестели от удовлетворения, как у животного, добравшегося до полного корыта.
— Командир, горючего сегодня не выдашь? — спросил Леопольд Мигла.
— Если берешься завтра достать свеженького, то выдам, — ответил Вилюм.
— Будет, — обещал Леопольд. — У нашего старика в баньке дымит. Добыл у спекулянтов очень хорошие дрожжи. Самогон течет, как из вымени.
— Ладно, — согласился Вилюм. — Арнис, подай три бутылки.
Когда на столе появился самогон, оживился и Янсон. Одним глотком он выпил остаток чая и подставил кружку к горлышку бутылки. Он недовольно проглотил слюну, когда Арнис налил ему меньше, чем остальным.
— Ну, так, — Вилюм поднял кружку, — за старые, добрые времена!
Все выпили и крякнули. Янсон выпил молча и ждал минуты опьянения. После второй кружки в голове и по телу разлилась приятная теплота и лицо Вилюма уже не казалось таким противным.
— Кто завтра вечером пойдет со мной? — многозначительно спросил Леопольд Мигла.
— Возьми Силиса, он может много нести, — распорядился Вилюм.
— На этот раз придется не только нести, — пренебрежительно махнул Леопольд рукой. — Сок надо пустить.
— Кому же? — равнодушно спросил Вилюм.
— Старой Ванадзиене, — бросил Леопольд, словно козырь.
— Стоит ли возиться с такой гнилью? — проворчал Вилюм.
— Ну, знаешь, — Леопольд побагровел. — Эта старуха слишком обнаглела. Ей отмерили пятнадцать гектаров земли моего старика. Не какой-нибудь, а с того поля, где мы пшеницу сеяли. Из нашего хлева ей дали лошадь и корову. Думаешь, эта ведьма выбрать не сумела. Из племенных взяла. Я ей глотку сдавлю, чтобы подавилась!
— Как знаешь! — ответил Вилюм. — Но без шума. И заберите все ее барахло, чтобы походило на ограбление.
— Не учи, сам знаю! — хвастливо выкрикнул Леопольд. — Не скупись, выставь еще три бутылки. Завтра ночью пополню. У старика банька дымит! Уж только поэтому нужно убрать эту бабу. Начала нос совать, куда не следует. Грозилась пожаловаться на нашего старика, что гонит самогон.
— Наденьте форму, — крикнул Вилюм, откупоривая новую бутылку.
— Сам знаю! — разошелся Леопольд. — У «товарищей» на счету одним грехом больше будет. Именно ее, больше всех ждавшую, мы и щелкнем.
— Это ты, действительно, умно придумал — с формой красных, — похвалил Гребер Вилюма. — Подумай, какое смятение это вызовет среди жителей. Некоторые ждали их, как бог весть каких спасителей, а они грабят. Ха-ха-ха! — захохотал он.
— Помните, как тогда у Лидумиете! — поддержал Готфрид. — Она бормочет: «У меня сын в Красной Армии, товарищ! Что же это вы?» А мы говорим: «Если у тебя сын в армии, то тебе для нас ничего не должно быть жалко. Если сами не возьмем, то умрем с голоду. И твой сын, если грабить не будет, скоро ноги протянет». Всплакнула старуха и говорит: «Ну тогда берите. Если встретите моего Эрика, и с ним поделитесь».
— Друзья! За эту шутку стоит выпить до дна! — орал Вилюм, как подраненный бык.
— Только оставьте на похмелье.
— Виват! Виват! — загалдели братья Миглы и Гребер.
Янсон больше не может усидеть. То он опускается на бок или склоняется на стол, то его голова бессильно валится назад. Он уже не может понять, сколько человек за столом. Кажется, что сидят двое Вилюмов, как две капли воды похожих друг на друга и двигающихся, словно по команде — куда один, туда и другой. И Леопольдов двое, и других тоже, целая толпа людей сидит и рычит, и все они, как опереточные двойники, делают одинаковые движения. Что сказала бы Эльза, если бы увидела его в такой компании?
— Эльзинь! — выкрикивает он. — Эльзинь, спаси меня!
— Он совсем наклюкался, — говорит кто-то. Двое покачивающихся людей берут Янсона — один за голову, другой за ноги — и бросают, как мешок, на нары.
— У Эльзы теперь другой хахаль… — слышит он.
— Замолчи, чего мучаешь больного человека! — упрекает его Силис.
— Такую женщину надо было в яму бросить, — бормочет Вилюм, — вместе с жидовками. Мы раздевали их догола. Они выглядели, как Ева в раю. У одной был ребенок. Со светлыми волосами и голубыми глазами. Как васильки весной.
— Вилюм, Вилюм, будем говорить о чем-нибудь другом, — пытается Гребер переменить разговор. — Пусть они гниют, нечего о них вспоминать.
— Молчи, свинья, когда… — кричит Вилюм. — Понимаешь, стоит она, эта девчонка, голая на краю ямы, и смотрит мне в глаза. Вдруг складывает руки, как нас мать учила, для молитвы, и говорит — чисто по-латышски говорит: «Дяденька, мне холодно». Как саданул ей прикладом, только каша брызнула из черепа.
— Вилюм, Вилюм, — Гребер тянет его за рукав.
Но выпученные и неподвижные глаза Вилюма смотрят в одну точку. Лицо судорожно подергивается, на лбу три поперечные складки.
— Тысяча чертей! — орет он, не сводя глаз с дощатой стены, где виднеется дыра от выпавшего сучка, — Вот она! Вот она стоит! Голубые глаза и светлые волосы! Опять сложила руки. Разве нельзя, наконец, свалить тебя в яму! Подохни! Подохни!
Словно безумный, он выхватил револьвер и, не целясь, выстрелил в стену.
Землянку заволокло дымом, кто-то нечаянно смахнул свечу, и, падая, она погасла. Вилюм стрелял во все стороны, пока револьвер не выпал у него из рук. Он, рыча, навалился на стол, опрокинул его на Леопольда и сам грохнулся на пол, где уже лежали перепуганные его собутыльники.
В землянку вбежал постовой Зупениек — выходец из соседней волости.
— Что вы куролесите, сумасшедшие! — крикнул он. — За три километра слыхать.
— У Вилюма опять припадок, — пояснил Гребер.
— Так надо было вовремя связать. Хотя бы оружие отобрали.
— Ничего, теперь он утихнет и проспит до завтрашнего вечера, — успокаивал Силис постового.
— Дай же глоточек, — попросил постовой. — Когда стоишь на месте, холод до нутра пробирает.
Кто-то чиркнул спичкой и зажег свечу; выяснилось, что в свалке опрокинули последнюю бутылку, отбили ей горлышко и все содержимое вылилось Силису на штаны.
— А я думал, почему у меня мокро, — рассуждал тот.
— Ну, беда, ребята, — забеспокоился Леопольд. — Если завтра не будет чем опохмелиться, Вилюм убьет нас.
— Надо сейчас же отправиться к старику, — решительно сказал Готфрид.
— Что ж… заодно и старуху? — спросил Леопольд, словно бы колеблясь.
— Ну, конечно, — Готфрид провел рукой поперек горла. — Неужели же из-за нее завтра ночью еще раз туда ходить! Арнис, ты можешь держаться на ногах?
— Не могу, — простонал тот, слишком уж торопливо, чтобы ему можно было поверить.
— Здесь, кажется, только одни мямли собрались, — пробурчал Леопольд с досадой. — Чего глаза таращите, хотя бы уложили командира! Мы наряжаемся и уходим.
Пока остальные раздевали и укладывали Вилюма, Леопольд и Готфрид сбросили свою одежду и надели красноармейское обмундирование.
— Вот теперь мы мобилизованы! Раз-два, раз-два! — Леопольд зашагал по землянке, размахивая руками.
— Леопольд, — неуверенно начал Силис, пивший меньше других, — Леопольд, я старше вас, мне хотелось бы посоветовать: у тебя и у Готфрида жизнь еще впереди, не пачкайте свои руки кровью.
— Можно и всухую, — хвастливо отрубил Леопольд, — тряпку в рот и петлю на шею.
— Сейчас ты пьян и не сознаешь, что говоришь, — продолжал Силис. — Видел, какие бывают с Вилюмом припадки? Мертвые мстят.
— Хотелось бы знать, как такая старуха может отомстить, — ответил Готфрид за брата.
— Я говорю от всего сердца, — не унимался Силис. — И в библии сказано: «Кто кровь невинного человека прольет, своей кровью расплатится».
— В библии также сказано — око за око, зуб за зуб, не так ли, пастор? — обратился Леопольд к Греберу.
— Так и так правильно, когда что потребуется, — усмехнулся тот.
— Чего ты докажешь этим? — продолжал Силис. — Только разозлишь красных. Начнут допытываться. Если мы будем вести себя тихо и осторожно, никому и в голову не придет искать нас. Кончится война, тогда, может, будет амнистия…
— Так ты ждешь милости от большевиков? — Леопольд присвистнул. — Вот до чего мы дожили! От большевиков ждем милости! Трусы! Какие же мы латышские патриоты? Разве так помогают тем, кто по ту сторону фронта?
— Здорово ты им поможешь, прикончив старушку… — проворчал в ответ Силис.
— Она покусилась на землю моего отца, вот почему она должна умереть. Понимаешь, на землю моего отца! На святое наследие прадедов! На лошадь, на корову? — орал Леопольд.
— Эх, земля, лошадь, корова! — махнул Силис рукой. — Я уж чувствую, что большой радости от этой земли не будет. Где теперь возьмешь батраков! Самому, что ли, надрываться? Нет, лучше уж поменьше этой земли.
— Пусть лежит пустошью, если нельзя обработать, но она должна принадлежать мне. Пусть бурьяном порастет, но, если не захочу, не дам никому, — кричал Леопольд, подбоченившись. — Бездельники! Ишь надумали — своей земли им надо? Каждая гнида хочет хозяином стать!
Вскинув на плечи винтовки, оба брата вышли из землянки.
Вернулись они еще до восхода солнца и принесли бидон с самогоном и продукты. Не сказав ни слова, разделись и легли. Долго они лежали, неподвижно уставившись широко открытыми глазами в потолок. Потом Готфрид потянулся к принесенному бидону, налил из него полную кружку и, выпив, повернулся к стене. В тот день все провалялись на нарах — кто спал, кто притворялся спящим. Оживились только к вечеру и на похмелье выпили принесенный самогон, закусив ветчиной и яйцами. Постовыми послали Силиса и Янсона. Парни из другой волости ушли на «охоту» в свои края.
— Пока этих кисейных барышень нет, проведем маленький военный совет, — предложил Вилюм.
— Слушаем, командир! — отозвались остальные.
— Прежде всего выражаю благодарность Леопольду и Готфриду Миглам, — Вилюм пожал им руки. — Не за эту старуху, но за шум, который теперь поднимется. Подумайте: «красноармейцы» убили и ограбили невинную старуху! Надеюсь, что вы со своим папашей договорились о показаниях очевидца.
— Старик расскажет все, как по нотам, — с гордостью ответил Леопольд. — Его ведь тоже ограбили. Остался невредимым только потому, что не сопротивлялся «товарищам». Старик умеет!
— Милочка сообщает, что вскоре начнется заготовка леса. Лесосеки еще не отведены, но если нашему участку будет что-нибудь угрожать, то она даст знать.
— Черт возьми, до каких пор будет тянуться эта канитель, — заговорил Арнис Заринь. — Я не понимаю, чего немцы возятся, не могут размахнуться и дать русским по шапке.
— Погоди, погоди, вот наготовят новых «фау», — успокаивал Вилюм. — Тогда они сперва разобьют англичан. И когда этот островок будет превращен в кашу, русские опять побегут на Урал.
— Большевикам здесь не удержаться, это ясно, — размахивал руками Леопольд. — У них самих начнутся беспорядки.
— Если бы они даже временно и победили Германию, — рассуждал Гребер, — новую войну с Англией и Америкой русским уже не выдержать. Народ устал. Лучшая часть страны опустошена. А что сразу же начнется новая война, это более чем ясно. Старик Черчилль — умная голова. Выждет, пока русские расстреляют последние патроны, и тогда бросится на них.
— За что же выпьем — за победу немцев или англичан? — усмехнулся Готфрид, подняв кружку.
— Мне все равно, немцы или англичане, или хотя бы турки, только бы не большевики, — сказал Вилюм.
Утешившись надеждами на будущее, участники военного совета легли спать.
Хотя Силису и Янсону надо было стоять каждому у своего угла землянки, они вскоре все же оказались вместе.
— Хуже всего мороз без снега, — трясясь, сказал Силис. — Когда снег, не так чувствуешь холод.
— Вилюм говорит, что эта бесснежная зима самим небом нам послана, — ответил Янсон безразлично. — Иначе остаются следы.
— Надоело это звериное житье, — вздохнул Силис. — Была бы хоть какая-нибудь работенка.
— Принесли бы они мне какую-нибудь хорошую книгу, — тоскливо говорил Янсон, — я теперь охотно почитал бы стихи Порука или Скалбе.
— Леший разберет, как было бы лучше, — тихо рассуждал Силис. — Может, и не надо было идти с Вилюмом? Тогда наговорили целый короб, ничего нельзя было понять. В других местах, где волостные старшины остались, их только допросили и не тронули. Никаких больших грехов у меня на совести нет. Не то, что у Вилюма. Видишь, тебя тоже не арестовали.
— Меня трижды допрашивали, потом оставили в покое, — рассказывал Янсон. — Все выпытывали, почему я, молодой человек, не сопротивлялся немцам? Я говорю — я интеллигент, пацифист. Махнули рукой и сказали: живи, только смотри, не делай глупостей.
— Возвращаться домой пока нельзя, — продолжал Силис. — Будут судить за дезертирство. Кончилась бы скорее война. Все равно в чью пользу, но чтобы, наконец, была ясность. Война кончится, тогда уж не расстреляют. Если с годик посидеть — это еще ничего, остаться бы только живым.
— Мне часто кажется, что все события последних лет — это лишь сон, мучительный кошмар, — рассказывал Янсон с горечью. — Уже сороковой год выбил меня из колеи. Казалось, что жизнь захлестывает, как поток. Во всем спешка, постоянно такое чувство, словно в комнате мебель передвигают, не было больше такого ощущения, что ты принадлежишь себе, все время тебя как бы подгоняли, напоминали, что слишком мало работаешь. Эльза увлеклась комсомолом. Вначале я не стал много говорить, только предупредил, чтобы обождала, но не настаивал твердо. А надо было настаивать, не пускать. Тогда бы не уехала. Мы все время были бы вместе. Я не поддался бы этому проклятому алкоголю… Теперь она говорит: «Ты пьешь. Мы чужие». Но почему я пью — этого она знать не хочет. Спрашивает: «Почему не пошел в партизаны?» Как она не понимает, что я не могу убивать, это так грубо. Помню, в детстве у нас заболела корова и ее надо было прирезать. В спешке нельзя было никого найти, кто бы помог; отец позвал меня. Я убежал в лес, но когда вечером узнал, что мать в этом деле помогала, я уже не мог любить ее, как прежде.
— В крестьянской жизни всякое бывает, — отозвался Силис.
— Поэтому все эти годы кажутся мне кошмаром, — продолжал Янсон, не слушая его. — Временами я щиплю себя, надеясь проснуться в своей постели рядом с Эльзой. Но это не сон. Это — реальная жизнь, которая, наверно, ни к кому не была так жестока, как ко мне.
— У всех свои заботы, — успокаивал Силис. — Мы с женой тоже разлучены.
— Это не то, — покачал головой Янсон. — Люди могут быть один от другого на расстоянии многих тысяч километров и все же чувствовать, что они вместе. Но когда она так близко от меня, как ты сейчас, и я протягиваю руки и хочу ее обнять, а она говорит: «Мы чужие», — и смотрит, как на чужого, то это хуже смерти.
— Может, за войну ей приглянулся другой? — неосторожно заметил Силис.
Янсон стал рвать на себе рубаху, глухо застонал и бросился наземь.
— Я этого не допущу… нет, этого не должно быть… нет, нет! — стонал он. — Она моя… Она должна быть моей. Если бы даже мне пришлось… Я этого не потерплю…
— Артур, Артур, опомнись! — успокаивал его Силис, испугавшись. — Я ведь не знаю. Может, все будет хорошо. Подразнит тебя, а потом снова будете жить вместе.
— Ты думаешь? — тихо спросил Янсон, с надеждой в голосе, и поднял голову. — Мне тоже иногда так кажется, как поэт сказал: «Кто всем существом своим верит мечте, того она в бурю спасет».
Он приподнялся и сел, прислонившись спиной к стволу сосны, посмотрел на звезды, затем неожиданно обратился к Силису:
— Не можешь ты выклянчить у них кружку самогона? Скажи, что я совсем замерз.
Когда Силис вошел в землянку, «латышские патриоты» только что улеглись.
— Что, опять ему водка нужна? — заорал Леопольд, услышав о просьбе Янсона. — А он хоть раз помог достать! Нюня этакая. Ни капли не дадим!
— Подожди,
Лео, — остановил его Вилюм. — Надо дать. Только немного, чтобы не надрызгался…
Когда Силис с кружкой вышел, Вилюм пояснил:
— Этого Янсона надо прокалить. Запутать в мокрое дело — тогда не будет смотреть в сторону дома.
— Как ты его запутаешь, — сплюнул Леопольд. — Каждый день бормочет, что он такой, да сякой. Интеллигент, пацифист. Разве мы не интеллигенты? Разве комильтоны Селонии пастухами были?
— Для каждой рыбки нужен свой крючок, — рассуждал Вилюм. — Знаешь, что я придумал? Велим Милочке пронюхать, с кем спуталась эта Эльза. Наверное, с кем-нибудь из красных. И тогда мы этого Янсона будем до тех пор изводить, пока он сам не попросится, чтобы ему дали прикончить соперника, наставившего ему рога.
— Ого! Это идея! — обрадовался Леопольд. — Ну, я ему такие страсти разрисую, что он у нас запрыгает! И тогда мы создадим ему ситуэйшен
[8]. А когда он докажет свою преданность, не надо будет больше бояться, что он удерет из леса и разболтает.
14
В ВОЛОСТИ НЕТ ПОРЯДКА
Убийство стаяли Ванадзиене взволновало всю волость. Август Мигла, вытирая слезы, рассказывал каждому встречному и поперечному, как в ту ночь двое красноармейцев с ружьями ворвались в его дом, забрали сапоги, рубахи и все лучшее, что было в клети и кладовой. Более близким знакомым он еще шептал на ухо: сразу же потребовали водки и унесли бидон на десять литров. Уходя, крикнули, чтобы до утра не смел выходить из дома и чтобы держал язык за зубами. Затем он слышал, как они стучались внизу, в бывшую батрацкую половину, где жила Ванадзиене. Что там произошло — этого он не знает, не смел даже по естественной надобности выйти. Возможно, старушка сопротивлялась, не хотела отдавать, что требовали. Она ведь всегда справедливости искала. Может, начала их стыдить, как же это они так — нас освободили, а теперь грабят. Неизвестно, что там произошло, — только утром, когда он пошел узнать, многим ли пострадала соседка и не надо ли сообщить милиционеру, нашел старушку мертвой. Лежит с размозженной головой, неподвижная и холодная. Уж власти выяснят, как там все было и кто виновные. Разве дело так оставят? Позор для всей армии. То же самое он рассказывал волостному милиционеру Канепу, присланному из города. У Ванадзиене забрали новый костюм сына, сапоги и часы, все это она хранила как память о Петере. Взяли ли у нее еще что-нибудь, этого Август не мог сказать — кто может знать, что у женщин запрятано в узелках. Юбку, которую она носила, не взяли, возможно, забрали что-нибудь несшитое. Этого он не знает, Ванадзиене и жене не показывала ничего нового — домотканого или покупного.
Мирдзу эти события очень удручили. Каждое напоминание о них обжигало сердце, как злая крапива.
Ее угнетало и другое: Эрик не писал. Матери он уже прислал несколько писем, но о ней, Мирдзе, не упомянул ни слова. Даже привета не прислал. Правда, он не знал, что мать разгадала их тайну. Но почему он не мог ей написать? Адрес на конвертах матери Мирдза писала своей рукой, знакомый почерк мог бы подсказать Эрику, что она бывает у них в доме и встречается с его матерью. Вначале она как бы немного заупрямилась — если ты мне не пишешь, то и я тебе писать не стану. Затем решила, что письмо могло затеряться, — а Эрик, не зная этого, ждет ответа, — и написала ему длинное ласковое письмо. Ответа все не было. Но матери он ответил, хотя Мирдза отправила оба письма в один день. Что это значило? Было ли признание Эрика в любви на самом деле искренним? Что же он — хотел только поиграть, увлечь ее, а потом она стала ему безразличной? Не произошла ли в нем какая-нибудь перемена? В письмах к матери многое было перечеркнуто цензурой. Что он мог писать? Мать особенно беспокоилась из-за одного места, которое начиналось словами: «С питанием на фронте… — все остальное было вымарано. «Ясно, если бы там было написано что-нибудь хорошее, то власти черкать бы не стали, — волновалась мать. — Правду, значит, говорили те два солдатика, что масло забрали, неважно их там кормят». Хоть Мирдза и старалась успокоить Лидумиете, но та даже рассердилась: столько-то уж она понимает, не ребенок. Она поговорила и с Пакалнами. Оказалось, в письмах Юлиса тоже было вымарано все, касающееся питания.
Временами сердце Мирдзы неистовствовало в груди, как запертый в клетку орел. Боль, обида, отчаяние и уязвленная гордость сменялись усталой подавленностью. «Ну что ж, — говорила она себе в минуты безразличия, — разве ты первая или единственная девушка, обманутая в любви? Учись оставаться гордой и неприступной, и тогда ошибка не повторится». Но через мгновение сердце кричало: «Эрик! Эрик! Как ты можешь быть таким жестоким? Написал бы хоть одно слово, только одно слово, и этого было бы для меня достаточно. Разве ты на самом деле не чувствуешь, как я тебя жду, как умоляю о капельке внимания, словно нищая! За этот первый поцелуй хотя бы одно слово, ну, не мне, так много я и не прошу, матери написал бы: «Привет тебе и Мирдзе». Больше ничего. Неужели у тебя рука не поднимается, чтобы написать мое имя? Ведь могла же эта рука так нежно взять меня за локоть тогда, в осеннюю ночь, перед твоим уходом на фронт? Может ли это быть, чтобы фронт, окопы так быстро гасили самые теплые чувства и даже воспоминания о минутах счастья?»
Ну ладно, она не будет писать Эрику, не станет навязываться. Похоронит свою первую любовь, попытается забыть ее. Нет, все же одну только фразу она ему напишет, положит ее, как цветок, на могилу их рано погибшей любви.
Она взяла бумагу и написала:
«Желаю тебе всего наилучшего. Мирдза». Но тут же разорвала бумажку. Это были избитые, невыразительные слова; он прочтет, пожмет плечами и сразу же забудет. Надо придумать что-нибудь такое, дать ему почувствовать, что она поняла его молчание, но переборола себя и теперь с улыбкой смотрит на все, что было между ними. «Желаю тебе в твоей жизни еще много солнечных дней и звездных ночей. Мирдза», — написала она и даже вложила записку в конверт. Она хотела уже заклеить его, но почувствовала, что бурным ручьем пробиваются слезы.
«Это ложь, это неправда! — кричало сердце. — Никому не хочу его отдавать! Эрик не мог забыть меня, я его знаю и не имею права ему не верить!»
Она взяла новый лист и, смахивая слезы, чтобы они не капали на бумагу, написала:
«Милый, милый, Эрик!
Признаюсь, всякое я передумала — почему ты мне не пишешь? Ты для меня все тот же Эрик, каким ты был здесь. Но твое молчание меня терзает, и я не знаю, как его понять. Вспомни тот вечер, когда мы гуляли по лесной дороге и упала звезда. Тогда я себе пожелала, чтобы ты вернулся невредимым с поля боя. И ничего другого. И теперь я желаю себе того же, если бы даже твои чувства ко мне изменились, если бы даже ты сам сказал мне об этом. Твое молчание и неизвестность меня подавили, заковали в какой-то тесный железный обруч, из которого я не могу освободиться. Когда я знала, что ты меня любишь, мне хотелось быть доброй и работать, работать и кричать всем: «Разве вы не видите, какой прекрасной и широкой станет наша жизнь, когда мы ее восстановим своим трудом!» А теперь я как будто и сама этого не вижу. Мои мысли, как карусель, кружатся вокруг одной точки — вокруг твоего молчания. Пытаюсь его объяснить и оправдать, но было бы лучше, если бы ты объяснил это сам. Я не обижусь, если ты мне скажешь самую горькую правду, так как у меня лишь одно желание, чтобы ты только вернулся невредимым с поля боя.
Мирдза».
Так. Письмо написано. Его она не порвет, завтра же свезет на почту и отошлет. Если Эрик и теперь не ответит, тогда она будет молчать. И никогда больше не поверит обещаниям людей. Не поверит, если кто-нибудь станет говорить ей о любви. Нет, над таким чувством она научится смеяться.
Но что делать с сердцем, когда начнутся мучительные ожидания ответа? Осенью было лучше, она стояла у молотилки, дни и ночи проходили в напряженной работе, все время — на людях, которые были веселы. А теперь зима, голая, серая, скоро подойдет Новый год, хотя снега все еще нет. Может, так лучше, легче фронтовикам. Эрику не надо месить мокрый снег.
Мирдза покачала головой. Почему ее мысли, чем бы она ни занялась, всегда возвращаются к Эрику? «Но о ком мне думать? — спросила она себя. — Подруг у меня больше нет».
Когда-то она себе представляла, что для каждого комсомольца организация становится его второй семьей, школой и полем деятельности, где развиваются всевозможные способности. Теперь она только называлась комсомолкой, как и остальные три товарища. Рудиса Лайвиня все-таки приняли. Зента ведь во всем слушала Майгу. Когда Лайвинь напивался, он хвастал: «Мы, комсомольцы, такие, мы, комсомольцы, этакие». Собрание Зента не созывала. Комсомольская организация не подавала никаких признаков жизни. Может быть, они там, в местечке, втроем что-то обсуждают, но что им до Мирдзы — ведь у нее траур под ногтями и нет таких завитушек на лбу, как у Майги и Зенты. Неужели Зента не замечает, как портят природную ее красоту взбалмошная прическа и выкрашенные брови? И если Майга на самом деле настоящая подруга, то почему же она своими советами уродует Зенту, а сама предпочитает более сдержанный вкус?
Мирдза замечала, что снова приближается «черная полоса» — так она называла свои сомнения, которые временами осаждали ее, как рой надоедливых комаров. Она не хотела дать этим чувствам волю, зная, что тогда наступит самое ужасное — разочарование. Конечно, не в Советской власти, которая в сороковом году — тогда она была еще школьницей — пришла, как внезапная весна посреди зимы, и вдруг ушла летом сорок первого года — Мирдзе тогда казалось, что жизнь остановилась. Полными унижения и страха были годы без Советской власти. И вот весна вновь вернулась; каждому жаждавшему ее, особенно тем, кто за нее боролся, надо было бы с ликованием делать любую работу, а они здесь, в волости, предоставлены самим себе, не чувствуют твердой руки, которая бы обуздала наглецов, поддержала честных людей и увлекла за собой безразличных и колеблющихся. Каждый человек, представляющий Советскую власть, должен быть умным, бескорыстным руководителем в жизни и на работе, а здесь это не так. Председатель исполкома Ян Приеде — замкнут и равнодушен. Зента, руководительница и организатор комсомола, — слишком неподвижна; нельзя сказать, чтобы она была равнодушной, Мирдза знает ее как сердечную девушку. Но Зента остается в стороне от молодежи, не ищет близости с ней. А ведь кому же, как не им, Яну Приеде и Зенте, быть душой волости.
«Ну, а ты сама? — внезапно спросила Мирдза себя. — Разве ты совсем не чувствуешь себя виноватой? Как ты оправдываешь звание комсомолки?» — То были вопросы, которые возникали перед ней, словно поставленные проницательным судьей, как только она начинала осуждать других.
«Да, но что же я могу сделать? — с адвокатской находчивостью отвечал на эти вопросы некто другой. — Я ведь не имею права вмешиваться в работу Зенты».
В эти минуты она как бы слышала голос своего отца, видела полные упрека его глаза: «Эх, комсомолки, комсомолки!»
«Ты сам тоже хорош! — начинала она укорять его. — У тебя даже не было времени написать мне подробное письмо, если уж не мог приехать сам. «Спешу за обедом набросать несколько строк. Как живете, здоровы ли? Работы по горло. Как только немного разгружусь, понаведаюсь к вам», — таково обычно содержание писем и открыток отца. Отец хотя бы коротко, да пишет, а вот от Эрика — вовсе ни строчки…»
Круг мыслей снова замыкался Эриком. Ненавидеть надо было бы его за то, что он сковал все ее чувства, самовольно завладел трезвым ее рассудком и превращает ее в глупое, нерешительное существо.
Она ничего не может придумать. Уже сто раз перебирала в своих мыслях одно и то же. Нужна помощь извне — помощь людей. Нужно встретить отца, Эльзу — больше она никого не знает, кто мог бы ей помочь. Почему она ждет, чтобы они пришли к ней — почему не может сама поехать к ним? Снега еще нет, и ничего не стоит проехать эти сорок километров на велосипеде. На самом деле — хотя бы завтра. Больше не будет откладывать ни на один день.
Она поведала о своем намерении матери. Но та сразу же взвесила практическую сторону поездки:
— Завтра, право, нельзя. Нужно испечь хлебушка в дорогу и сбить масла. Там у них ведь все по карточкам, не могут же они еще тебя кормить. Да и отцу свезешь кусочек масла. А я постараюсь довязать перчатки. Есть ли у него вообще перчатки, не обморозил ли руки.
Воодушевление Мирдзы спало. Снова надо откладывать поездку. А ей хотелось ехать сразу, поговорить, стряхнуть с себя пыль мелочности.
Заметив, что Мирдза стала грустная, мать начала отчитывать ее:
— Ты тоже такая, словно тебя ветер носит. Надумаешь и летишь, как птичка с ветки. Сказала бы вчера, я сегодня бы все приготовила.
Да, легко сказать: вчера, если это решение только сегодня пришло на ум. Все же спорить с матерью нельзя было. Получится, что она из-за своей торопливости даже откажется захватить отцу перчатки. Хорошая же она тогда будет дочка!
Залаяла собака, кто-то постучал в дверь. Вошел Рудис Лайвинь.
— Обувайся в постолы и пой песенку «Хочу я завтра ехать в лес», — болтал он, доставая из кармана какую-то бумажку. — Вот, созывают народ на заготовку топлива. Горожане замерзают, так нам, мужикам, надо нарубить для них дровишек.
Мирдзе претила его болтливость. Возможно, раздражала манера Рудиса входить в чужой дом с папиросой в зубах и не вынимать ее изо рта даже во время разговора да еще самоуверенно передвигать окурок языкам из одного угла рта в другой, как бы подчеркивая: дескать, смотрите, перед вами человек, который уже видывал виды. Но не только это — сейчас во фразе о горожанах и крестьянах она уловила пренебрежение к лесозаготовкам, организуемым правительством.
— Тебе, как комсомольцу, не подобает так говорить, — прервала его Мирдза с досадой.
Рудис толкнул папиросу в другой угол рта, криво улыбнулся и небрежно махнул рукой:
— Мы с тобою можем говорить, как равные, ты тоже комсомолка. Мне тут нечего заниматься агитацией, как перед прочими жителями. Там вот…
— Комсомольцы не говорят в каждом случае по-разному, — перебила его Мирдза. — Мы не лицемерим.
— Тише, тише, дорогушка, — шепелявил Рудис, небрежно жуя папиросу. — Хотел бы я послушать, что ты скажешь своей десятидворке о лесных работах.
— Как что скажу? — удивилась Мирдза. — Раз дрова нужны и наше правительство призывает нас заготовить их, так мне особенно и раздумывать нечего.
— Но старики будут недовольны. Скажут, пусть рубят те, кому надо, — ухмыльнулся Рудис.
— Кулаки сейчас многим недовольны, только не запугают они нас.
— А что ты будешь делать со старухами, которые одни остались дома? — продолжал Рудис.
Мирдза смутилась. Она себе представила мать Эрика, с горя совсем больную. Какой из нее лесоруб? Рудис воспользовался ее смущением:
— Эге, ну вот, поговори на языке комсомольцев!
— Ладно, буду говорить, — резко ответила Мирдза, уже придумав, что сказать. — Осенью во время нашей общей работы мы многое сумели сделать. Попробуем и теперь.
— Кому охота ковыряться в лесу в такой холод? Это не то, что у молотилки, там — как на свадьбе гуляешь. — Рудис в знак сомнения покачал головой.
— Не мерь всех на свой аршин, — Мирдзе хотелось осадить хвастуна.
— Ну, ладно, ладно, в конце концов, это твое дело, как ты с ними договоришься, — сказал Рудис, бросив окурок на пол. — Вот разверстка, сколько каждому двору надо вырубить. Лесосека в Гарупском бору.
— Как в Гарупском бору? — не поняла Мирдза. — Но это ведь от нас в пятнадцати километрах.
— Приблизительно, — равнодушно подтвердил Рудис.
— А разве в наших лесах в этом году не будут рубить? — спросила Мирдза.
— Уже выделено волости, что за соседней.
— Чего они там дурачатся? — возмутилась Мирдза. — Мы будем ходить через соседнюю волость в Гарупский лес, а они пойдут к нам?
— Вот, вот! — засмеялся Рудис. — Теперь и ты заговорила на двух языках. Я думаю, ты людям не скажешь, что Советская власть дурачится? Или скажешь?
— Я пойду в исполком и скажу, чтобы не дурили, вот кому я скажу! — Мирдза была готова бороться.
— Побереги свою обувь, неизвестно, когда наживешь новую, — язвительно усмехнулся Рудис. — Лесосеки не исполком распределяет, а лесничество. Мы не можем изменить их планы и графики.
— Ну, знаешь, тогда там тоже сидят шляпы, а не головы. — Мирдза не могла совладать с гневом.
— Сидят советские работники, как и во всех учреждениях, — снова ухмыльнулся Рудис.
Мирдзе хотелось поспорить, но она поняла, что не с Рудисом надо говорить о таких вещах. Лучше пусть поскорее убирается восвояси и не злит ее. Как такой смеет быть комсомольцем! О нем она тоже поговорит в городе.
— Скоро ли начнутся эти лесные работы? — спросила мать.
Мирдза посмотрела на бумажку.
«Снабжение фронта и тыла требует, чтобы лесозаготовки были начаты немедленно и окончены по возможности скорее…»
— Надо начинать немедленно, — живо отозвалась Мирдза.
Она внимательно прочитала циркуляр до конца, в нем говорилось, что срочно требуются шпалы для восстановления железных дорог, нужны дрова для паровозов, заводов, для отопления школ и квартир рабочих. А Рудис еще смеет с пренебрежением отзываться об этой работе, словно ее надо было делать для удовлетворения прихотей каких-то избалованных горожан. Поезда должны спешить на фронт, рабочие с таким трудом восстанавливают заводы из развалин, пускают их в ход и борются с нехваткой топлива, а до́ма отогреваются своим дыханием, но для Рудиса лесные работы — это «нарубить дровишек горожанам».
Снова поскучали. Вернулся Рудис и, приоткрыв дверь, передал Мирдзе письмо:
— Забыл отдать, — сказал он и сейчас же ушел.
В первое мгновение Мирдза покраснела. Письмо! Наверное, от Эрика! Но это была всего лишь записка, сложенная треугольником, без почтового штемпеля, без адреса, только с надписью: Мирдзе Озол. Почерк был Зенты.
«Здравствуй Мирдза! — писала Зента. — Сегодня ты получишь извещение об организации лесных работ. Постарайся не откладывать ни на один день. Наша волость и без того опоздала, так как сообщение на почте почему-то завалялось. Надеюсь, что тебе удастся раскачать твоих людей. С приветом — Зента».
«Не мешкать ни одного дня, — подумала Мирдза, — это значит не попасть в город. Как это некстати. Именно, когда хотелось сейчас же поговорить с кем-нибудь, должна же была случиться такая помеха».
А если она все же поедет? Каждый день может выпасть снег, и тогда ей не добраться в такую даль. Если уж с лесными работами все равно задержались, то несколько лишних дней не имеют значения.
И все-таки. Работать в лесу легче, когда снег не сыплется за ворот. И что скажут люди, к которым она собирается ехать? Первым делом они спросят, что сделано в лесу.
«— Ничего не сделано, — должна будет ответить она, — сначала расскажу вам, что у меня творится в душе, а потом начну работать. — На самом деле — здорово получится! У них у всех дел по горло, — а тут выслушивать жалобы какой-то Мирдзы».
— Мамочка, мне придется отложить свою поездку, — сказала она решительно. — Я пойду поговорить с Пакалном.
Пакалн тоже только что получил извещение и, надев очки, разбирал по складам.
— Мне все здесь ясно, — сказал он, призадумавшись, — только одного я не понимаю: зачем нам бегать в такую даль, а другим опять-таки идти в наши леса? Можешь ты мне это растолковать?
Мирдза не сразу ответила. Пакалн поднял очки на лоб и в ожидании ответа ласковыми, много перевидавшими в жизни глазами смотрел на девушку; а она сама пришла к нему за советом, чтобы он объяснил ей жизнь, бурлившую вокруг нее, как поток в весеннее половодье, когда течение приносит много ила и мусора, из-за которых временами не видать русла.

Попытаться отговориться общими фразами, — дескать, должно быть учреждения руководствуются своими важными соображениями, раз работы так распределены, — нет, кому угодно, но старому Пакалну так сказать нельзя. Просто не поверит. Слишком много у него житейской крестьянской мудрости, чтобы он не понял, как бессмысленно зря гонять людей — ведь это создаст много неудобств и вызовет недовольство.
— Дедушка, я тебе этого не могу сказать, — призналась она.
— Что-то многое у нас делается наоборот, — высказал Пакалн наболевшую мысль. — Нет настоящего порядка. Вот и с этими поставками. Мы сдали — хорошо, спасибо, но до тех, кто не сдал, словно и дела нет. Я понимаю, нечего сдавать тем, у кого поля вытоптаны и изрыты, как вот у приречных жителей. Что с них возьмешь? Но Саркалиене-то намолотила полную клеть! А сколько она сдала? Что кот наплакал. То же самое Думини и Миглы. Составили акт о военных разрушениях, а что у них разрушено?
Мирдза поняла обиду Пакална. Он честно сдал из своего урожая, что причиталось, и даже отказался от своей доли за работу на бесхозных полях. «Пусть пойдет сыну на фронт», — скромно сказал он тогда.
— И кто у нас теперь заправляет?.. — продолжал Пакалн. — Такие Калинки, которые никогда в своей жизни не работали. Правда, и Ян Приеде в правленческих делах ничего не понимает, но у него хотя руки в мозолях, он знает, что такое работа. Дали бы ему посильное дело, подучили бы, тогда из него вышел бы толк. А этот Калинка — последний лодырь, ну зачем такого ставить на должность? Кто не знает, что он за человек? Свои лошади у него с голоду подыхали, каждую весну шкуру продавал. И такому дают в руки волостной коннопрокатный пункт. Тьфу! — сплюнул он.
— Дедушка, может, и в лесничество втерлись такие же Калинки, потому нас и посылают в Гарупский бор, — пришло Мирдзе на ум объяснение, которое ждал от нее Пакалн.
— Но почему таких пускают на должности? — рассердился он.
— Потому, что вот такие Пакалны ни на какие должности не идут, — напомнила ему Мирдза, задорно сверкнув глазами.
Пакалн улыбнулся, и от уголков его глаз веером разбежались морщинки. Он погрозил Мирдзе пальцем.
— Что ты, дочка, надо мной, стариком, подшучиваешь. Разве у нас в волости более молодых не хватает? Я едва со своими десятью дворами справляюсь.
— А на работе всегда первый, — похвалила его Мирдза.
— Работа — это моя должность, — сказал Пакалн с гордостью, и складки на его лбу стали глубже. — Ну, пошутили — и хватит, а теперь скажи, как мы доставим наших людей в Гарупский лес? Сколько в каждом доме осталось работников — по одному, много — по два. Им ведь и за скотиной ходить надо. Было бы тут же в своем лесу, так и горя мало было бы — утром и вечером, когда темно, занимались бы по дому, а днем — в лесу. Как же это тем, кто распоряжается, в голову не пришло?
— Если бы все же поговорить в исполкоме? — неуверенно предложила Мирдза.
— Поговори, дочка. — живо откликнулся Пакалн. — Тебя они больше будут слушать.
С тяжелым сердцем Мирдза пошла в местечко. Никакой надежды, что Ян Приеде или Зента смогут уладить это дело, у нее не было.
Все же надо сказать, пусть знают, что люди думают и говорят об их работе.
У почтового ящика она остановилась. Еще есть время обдумать — опустить в ящик письмо Эрику или оставить в кармане и потом разорвать? Но она не успела решить. Из исполкома вышел сам начальник почтового отделения Зелмен, лицо у него было усталое. При виде Мирдзы в его блеклых глазах мелькнуло нечто вроде улыбки. Мирдза, спохватившись, быстро подняла крышку почтового ящика и опустила письмо.
— Вот это хорошо, похвально, — затараторил Зелмен. — Письма женихам надо писать. Иначе мы, почтовики, без работы останемся. А он-то пишет?
— Это вам лучше знать, пишет или не пишет, — пошутила Мирдза.
— У меня этим больше Майга занимается, сортирует и рассылает письма, — добродушно усмехнулся Зелмен. — Красота и прилежание украшают женщину. Я всегда говорил, счастлив будет тот парень, кто женится на Майге. Захочет побриться, даже бороду самому не придется мылить — она это сделает.
Мирдза вошла в исполком. Зента удивленно посмотрела на нее. Лицо бывшей подруги было каким-то угрюмым и решительным.
Мирдза была довольна, что в канцелярии сидел также и Ян Приеде — не придется оставаться с Зентой наедине. Это удержит обеих от ненужных колкостей.
— Я хотела с вами поговорить, — обратилась она к ним. — Неужели никак нельзя обменять лесосеку?
— Мы уже пытались, — ответила Зента. — Я звонила в лесничество, но они говорят, что планы и списки уже утверждены в уезде и ничего нельзя сделать. Надо было раньше возражать.
— А почему вы не возражали раньше? — настойчиво допытывалась Мирдза.
— Я ведь тебе писала, — Зента нетерпеливо начала мять клочок бумаги, — мы получили извещение с опозданием. Залежалось где-то на почте.
— Но разве ты не звонила в уезд? — не уступала Мирдза.
— Я хотела звонить, — оправдывалась Зента, — но Майга говорит, что не следует их там беспокоить из-за каждого пустяка. Кроме того, лесные работы это то же, что мобилизация. Куда пошлют, туда надо идти.
Мирдза осеклась. Об этом она не подумала, но, если разобраться, то на фронте ведь тоже не перебрасывают солдат без всякого смысла, а распределяют умно и целесообразно. Старого Пакална и остальных крестьян, которые должны будут работать в лесу, такими доводами не убедишь. Каждый сам видит, что в этом нет ничего целесообразного.
— Все же надо было позвонить, хотя бы рассказать, как с нами поступают.
— Мирдза, если бы ты знала, как мне не хочется звонить, — почти умоляла Зента. — Мне однажды кто-то оттуда ответил, что мы, наверное, думаем, будто у них больше нечего делать, как только учить нас. Нам, мол, посылают инструкции, да и у самих должны быть головы на плечах.
— Кто же с тобой разговаривал, кто-нибудь из руководящих работников? — поинтересовалась Мирдза.
— Нет, кто-то из секретарей.
— Почему ты разговариваешь с секретарями — поговори с главными, — посоветовала Мирдза.
— Попробуй с ними связаться, — усмехнулась Зента. — Секретарь прежде всего спросит, по какому делу, и пообещает сам уладить или же выругает, что по таким пустякам тревожат его начальство.
— Подумаешь, какие церберы, — рассердилась Мирдза. — Я все-таки на этом бы не успокоилась. Пусть позовут к телефону начальника, и все.
— Попробуй, может, тебе посчастливится, — Зента взяла телефонную трубку. — С кем ты хочешь говорить?
Мирдза испугалась. Именно сегодня ей хотелось с кем-нибудь поговорить, и вот эта возможность так неожиданно представилась. Но кто ее будет слушать там, на другом конце провода? Она никого не знает, кроме своего отца и Эльзы, а теперь, возможно, придется говорить не с ними.
— Быть может, поговорить с товарищем Бауской, заместителем председателя, — предложила Зента. — Его легче всего добиться, если он только не на заседании.
Мирдза согласилась. Муж Эльзы все-таки вроде знакомый.
Зента заказала разговор.
— Мирдза хочет искать правды, — сказала она, шутя, телефонистке Майге. — Что? Линия занята? Она подождет, пока освободится.
Время тянулось очень медленно. Казалось, что уже прошел целый час. Мирдза посмотрела на ручные часики — прошло лишь пятнадцать минут. Разговор больше не клеился. Зента погрузилась в составление какого-то отчета. Ее потревожил Рудис Лайвинь, зашедший спросить, будет ли он нужен вечером. Майга просит его раздобыть у кого-нибудь молока и меда. У нее заболело горло, хочет полечиться. Зента охотно отпустила его.
«Не посылает ли его Майга опять к Саркалиене?» — подумала Мирдза, но промолчала. Какое ей дело.
Немного погодя зашел крестьянин с другого конца волости. Он жаловался, что нигде не может размолоть хлеб.
— Я понимаю, что одной мельнице трудно всех обслужить, раньше у нас вертелись три, — сказал он. — Говорят, кто первый приедет, тот скорее смелет. А у нас — кто жирнее смажет, тот и мелет. У кого нечего дать, тот может десять раз ездить — все равно ничего не добьется, скажут, очередь еще не подошла. Богатые крестьяне, у которых масло и шпик шипят на сковородке, те каждый день пекут пироги да белый хлеб. А у меня ничего другого нет, кроме мешка зерна, заработанного осенью на общественной уборке. Коровку Советская власть дала, да ведь — четверо детей и самих двое, все поедаем. Разве нельзя указать мельнику, чтобы покончил с порядками немецкого времени? Теперь ведь власть трудящихся, но старый хозяин все еще сидит за столом, а мы жмемся у стены и ждем крошек.
— Нам трудно вмешаться, — ответила Зента. — Мельница принадлежит тресту. Волостная мельница еще не исправлена.
— А этот трест заграничный, что ли? — с горечью спросил новохозяин. — Я думаю, раз мельник, или, как его нынче называют, директор, поставлен государством, то для него все должны быть равны.
— Но мельница не подчиняется исполкому, — объяснила Зента, — нам трудно вмешаться. Там не наш работник.
— Разве трест пустил мельницу для богатых хозяев? — в голосе крестьянина послышалось беспокойство. — Саркалиене возами возит на мельницу и обратно, а у меня нет краюшки, чтобы детям дать с собой в школу.
— Напишите жалобу правлению треста, — посоветовала Зента.
Крестьянин безнадежно махнул рукой.
— Кое-кто уже писал, но это то же самое, что покойнику на кладбище писать.
— Все же, если жалобы будут повторяться, они обязаны прислать ревизора, — успокаивала Зента.
— Я думал, что те, кто сидит в исполкоме, должны видеть, что происходит в волости, — крестьянин натянул рукавицы и ушел, мрачный и удрученный.
— Мне кажется, исполкому со своей стороны тоже надо написать жалобу, — сказала Мирдза, когда крестьянин вышел.
— Мы уже написали, — ответила Зента, берясь за свой отчет. — Но это в самом деле то же, что покойнику на кладбище писать. Не отвечают и ревизии не шлют.
Примерно через час дверь снова отворилась и вошла худощавая, закутанная в платок, женщина. Поздоровавшись, она скромно остановилась у дверей и, виновато улыбаясь, смотрела на Зенту.
— Что вам? — спросила Зента, поднимая глаза от бумаги.
— Я хотела узнать, как с ботиночками?
— С какими ботиночками? — не поняла Зента.
— Ну, с этими. Осенью вы обещались выписать из города, — пояснила женщина. — Ну, совсем не во что Витолдиню обуться. Сам сделал из двух пар отцовских постол одну, начал было в школу ходить, но постолы те были старые, развалились, ничего от них не осталось. Теперь сидит дома и плачет. Очень хочет учиться. Аннине-то господин учитель сам дал старые туфельки своей дочки, и она ходит в школу. А Витолдинь сидит у окна и грустно так смотрит на дорогу. Было бы поближе, так хотя бы тряпками ноги обмотал, а то ведь — пять верст. Очень хочет учиться. И в немецкое время не учился из-за той же обуви. Нам тогда не давали, говорили, вы ждете большевиков — вам, мол, в сороковом году землю дали. Из-за этого же моего Симана в Германию угнали. Жив ли он? Говорят, есть там совсем не дают, а на работу гоняют. Хочется, чтобы Витолдинь попал в школу. И учителя говорят, что голова у него хорошая, понятливый паренек, да вот обуви нет.
Зента нашла какую-то папку и долго перелистывала бумаги. Мирдза видела, что ей неловко. Она покраснела и перелистывала, не поднимая глаз, Лицо женщины все еще светилось надеждой: вот секретарша найдет бумагу и тогда у Витолдиня будут ботинки.
— Нет еще ответа, — немного погодя медленно сказала Зента.
Лицо женщины помрачнело. Словно стараясь спрятаться от холода, она начала кутаться в платок и поправлять на голове косынку.
— Значит, нет еще, — сказала она, не собираясь уходить. — Не знаю, что сказать Витолдиню, как его обмануть? Он так надеялся. Во сне видел, как в новых ботиночках идет в школу. Я, правда, сказала, хорошо если бы хоть постолы дали. Так и тех нет. Что теперь делать?
У Мирдзы защемило сердце, когда она представила себе мальчика, с грустными глазами сидящего у окна и мечтающего о школе. Так она в немецкое время мечтала о гимназии. Сколько раз она ночами плакала, проклинала войну и немцев, разбивших всю жизнь. Но теперь нельзя допустить, чтобы способный мальчик не ходил в школу. Что за равнодушные люди сидят в учреждениях, решающих такие вопросы? И почему Зента так покраснела — не забыла ли она попросту переслать запрос Витолдиня?
— Не знаю, уж стоит ли мне зайти еще раз? — спросила женщина с сомнением. — Боюсь, как бы не надоесть. Ведь у вас и другой работы много.
Мирдза внезапно вспомнила, что у них дома, в ящике, лежат ботинки Карлена, которые стали ему малы.
— Сколько лет вашему Витолдиню? — спросила она.
— Весной, в Юрьев день, минет тринадцать. Летом нанимался в пастухи, но все работы за взрослого делал, — охотно рассказывала мать. — Теперь тоже говорит, наймется к хозяину и заработает на ботинки. Тот, у кого работал летом, обещался справить ему обувь, но уехал неизвестно куда. Жалованья не уплатил. Многие хозяева хотели Витолдиня нанять. Он парнишка здоровый, за все берется. Только я не пустила, надеялась, что вы выхлопочете ботинки. Теперь нам самим опять землицы дали. Правда, на болоте выпал надел, да что ж поделаешь, всем хороших участков не хватило.
— Знаете что, мамаша, — Мирдза поднялась и взяла ее за обе руки, — у меня дома есть ботинки брата. Они, правда, поношены, но некоторое время еще послужат. Завтра приходите за ними в домик Озолов, налево от Рубенского лесочка.
— Так ты дочь Озола! — женщина радостно сжала руку Мирдзы. — Твоего отца я знаю еще с тех времен, когда он был здесь председателем. Тогда нам хорошую землю дали. Спасибо, спасибо, дочка, за ботиночки! Ну и обрадую же я Витолдиня. Завтра с самого утра схожу. Ты ведь меня не знаешь. Я — Мария Перкон, где тебе знать. Мы все время батрачили в дальнем конце волости. Спасибо, спасибо!
Мария Перкон вышла, ступая прямо и легко. В дверях она оглянулась и посмотрела с улыбкой.
Мирдза повернулась к Зенте и пристально посмотрела ей в глаза. Та не выдержала этого взгляда, снова покраснела и потупила взор.
— Значит, ты ее заявление никуда не посылала? — спросила Мирдза с упреком.
— Я, право, не могу понять, как это произошло, — призналась Зента. — Теперь вспоминаю, как в тот вечер мы с Майгой готовили к отправке разные бумаги. Думала, что вложила и эту.
— И почему Марии Перкон надо было дать участок на болоте? — обратилась Мирдза к Яну Приеде. — Разве хорошей земли мало?
— Да я не знаю, как там Калинка подсчитывал, — оправдывался Ян. — По-всякому мудрил. Говорит, иначе нельзя участок в одном куске подобрать. Теперь ведь по пятнадцать гектаров дают, так все пришлось делить заново.
За окном стлались глубокие сумерки, а соединения по телефону все еще не было. Мирдза начала сомневаться, удастся ли так поздно к кому-нибудь дозвониться. Зента зашла к Майге переговорить, нельзя ли скорее связаться. Но линия по-прежнему была занята.
— Ты подожди, — посоветовала Зента Мирдзе. — Они там работают поздно. Вечером их легче поймать, чем днем.
Мирдза ждала. Темнота на дворе все сгущалась. Ничего, это не помешает ей добраться домой. Удалось бы только созвониться и уладить дело, иначе как же показаться на глаза Пакалну и крестьянам своей десятидворки.
Ян Приеде зевнул. Посетителей больше не будет. Он мог бы подняться к себе, наверх, но обе девушки еще сидят здесь, как-то неловко уходить первым. Да и хочется узнать, что получится у Мирдзы с лесными работами. Смешно было бы гонять людей из одной волости в другую. С мельницей тоже плохо. Хорошо бы восстановить свою, но для этого нужно несколько мешков цемента. Гаужен, правда, говорит, что можно обойтись известью, но ее тоже негде взять. Приводной ремень утащили. Поди знай, где искать. Возможно, его уже изрезали на подметки. Со всем столько возни, что не знаешь, с какого конца начинать. Для школы все нет оконных стекол, Салениек каждый день ходит. В класс войти нельзя, через забитые досками окна ветер все тепло выдувает.
Мирдза посмотрела на часы.
— Половина десятого! — воскликнула она. — Не знаю, ждать ли еще?
Зента позвонила Майге.
— Попытайся связаться поскорее, — поторопила она. — Мирдза больше не может ждать.
Через полчаса раздался звонок. Несмотря на долгое ожидание, Мирдза вздрогнула и подумала, лучше бы этот звонок сегодня вечером не раздался вовсе. Может, все, что она собиралась сказать, надо было записать на бумажке, а то в волнении можно наговорить невпопад.
— У аппарата Бауска! — услышала она спокойный, звучный голос. — Кто говорит?
— Вы меня не знаете, — начала Мирдза, растерявшись. — Я Озол.
— А, Мирдза Озол! — радостно воскликнул Бауска. — Знаю, как же не знать! Такая — с голубыми глазами, светловолосая и боевая. Ротой могла бы командовать! Как у вас там дела в волости?
— В нашей волости нет порядка! — воскликнула Мирдза, второпях не сумев придумать другого.
— Что вы, что вы? — удивился Бауска. — А мы думали, что у вас больше порядка, чем у нас. Никто ни на что не жаловался.
— Вот я сейчас пожалуюсь, — крикнула Мирдза. И совершенно свободно, без запинки, как старому знакомому, рассказала о несуразице с лесоразработками. — Неужели ничего нельзя изменить? — закончила она.
— Мы заставим их немного пошевелить мозгами, этих буквоедов! — возмущенно воскликнул Бауска. — Сегодня вечером я позвоню в Ригу, а оттуда им такую баню зададут, что сами побегут лес рубить! Завтра они сообщат вам о новых делянках там же, в вашей волости… А как в остальном?
— И в остальном тоже нет порядка, — ответила Мирдза и хотела рассказать про мельницу. Но в телефоне что-то затрещало, до нее только долетели восклицания Бауски: «Алло, алло! Что там за шум?» — и она замолчала.
Вскоре треск в телефоне прекратился.
— Почему вы не приедете к нам, тогда бы мы могли по душам поговорить. По телефону трудно, — снова послышался голос Вилиса Бауски. Мирдза пообещала приехать.
Мирдза с сожалением положила трубку. Она так мало успела сказать. Но хорошо хоть, что вообще удалось поговорить. Зента жалуется, что к ним трудно дозвониться. Ну, если Бауска обещал уладить вопрос с лесными делянками, он сдержит свое слово. Его голос внушает доверие.
Она посмотрела на Зенту победоносно сверкающими глазами.
— Ты, действительно, счастливая, — сказала Зента, но в ее словах не было той радости, какая кипела в сердце Мирдзы и переливалась через край.
— Ой, как темно, — взглянув в окно, сочувственно заметила Зента, — как ты попадешь домой?
— На велосипеде есть фонарь, поеду, как днем, — беспечно усмехнулась Мирдза. Что ей ночь и темнота, если в душе так много света и бодрости? Это ничего, что Зента не предложила ей переночевать у нее, она понесется — только ветер засвистит в ушах. Простившись, она вывела велосипед и помчалась через местечко.
Небо было облачно, в окнах редко где мерцал свет. Если бы исправили мельницу, то опять было бы электричество. Когда Мирдза будет в городе, то поговорит и о мельнице, обо всем расскажет, что здесь происходит с помолом зерна, с дележкой земли. И о Марии Перкон. Кажется, она запугана, боится требовать того, что ей положено. Калинка загоняет женщину с детьми на болото, а она сама, да и никто другой, не протестует. Кричать надо о такой несправедливости, о взяточничестве на мельнице и о том, что у школьников нет обуви…
Да, но в том, что Витолд Перкон не может идти в школу, виновата прежде всего Зента. Витолдинь, бедный, наверное, по ночам, когда мать не видит, плачет, пока не устанет и не заснет. Так же плакала и она, когда не могла попасть в среднюю школу… Потом с этим примирилась, ждала прихода Красной Армии. Твердо решила продолжать учебу. Но как же это получилось, что этой осенью забыла о своем намерении? Было много работы, все представлялось таким важным, и ей казалось, что она должна быть здесь. А потом все ее мысли заняло молчание Эрика… Все же нельзя так опускаться. Ей уже девятнадцать лет, и стыдно требовать, чтобы мать и отец содержали ее, но, может быть, надо было бы найти работу в городе и поступить в вечернюю школу. Она это непременно сделает. В эту зиму уже поздно, но следующей осенью — обязательно. «Я не буду Мирдзой, если не окончу средней школы!» — поклялась она.
Пожалуй, лучше выбраться отсюда. Воспоминания об Эрике, казавшиеся столь приятными после его ухода, теперь стали горькими и мучительными. И когда вернется Эрик, то и тогда они будут чужими, нет, уж лучше не видеть его, не оставаться здесь. Она не хочет быть несчастной влюбленной, которая, как пишут в романах, ходит бледной и замкнутой. Ей надо работать, ощущать увлекающий вперед поток, быть полезной.
Словно убегая от воспоминаний, словно мчась навстречу новой жизни, Мирдза стремительно нажимала на педали велосипеда. Вот уже Рубенский бор, где ей знакомы не только каждое дерево и куст, но и каждая выбоинка на дороге. Когда-то они с Карленом здесь соревновались в беге, он был меньше ее, не мог обогнать и чуть не плакал от досады, что ему всегда приходится проигрывать. Наконец, ей стало жаль братишку и однажды она дала себя победить. Хорошо, что поступила так. Если с ним что-нибудь приключилось бы, то ей было бы больно из-за каждой причиненной ему обиды.
Вдруг переднее колесо за что-то зацепилось, и велосипед опрокинулся, Мирдза полетела в канаву. Она еще не успела опомниться, как из-за деревьев выскочили двое мужчин. Мирдза успела заметить, что они были в красноармейской форме. Один из них направил ей в лицо ослепительный свет карманного фонаря, другой крикнул по-русски: «Стой, руки вверх!» Мирдза, сидя в канаве, медленно подняла руки. «Давай деньги и все, что есть»! — приказал тот, у которого в руке был фонарь. Мирдза сидела как окаменелая. «Неужели нелепые слухи — правда?» — думала она и ощутила холодную дрожь. Второй грабитель, стоявший до сих пор в темноте, подскочил к ней и сорвал с руки часики. «Деньги у тебя есть?» — спросил он, но когда Мирдза покачала головой, принялся обшаривать ее карманы. Луч света упал на лицо грабителя, и Мирдза заметила, что его темные усы выглядят, как накрашенные. «Помни, если не будешь молчать и сообщишь полиц… милиции, то в следующий раз тебя живой не оставим!» — пригрозил первый. Они подняли велосипед и, волоча его, ушли.
Мирдза выбралась из канавы и, совсем ошеломленная, поплелась в сторону местечка, потом сообразила, что надо идти домой. Вернувшись на место происшествия, она снова споткнулась, нога зацепилась за проволоку, которая была протянута поперек дороги. Она сильно замерзла, и лес казался ей совершенно черным и полным опасностей. Свои же шаги отдавались в ушах болезненно громко. «Какая чушь!» — в голове гудели только два этих слова…
Но как странно они говорили. Совсем иначе, чем красноармейцы, с
которыми ей приходилось встречаться. Один даже оговорился: хотел сказать «милиция» и чуть не обмолвился — «полиция». Так у нас многие по старой привычке милиционера называют полицейским. И какие странные усы были у одного из них, точно углем намазанные. Очевидно, хотел замаскироваться. В волости снова заволнуются. Было бы лучше, если бы никто не узнал. Может, пока не говорить, смолчать, а рассказать только в городе, когда поедет туда? Во всяком случае, завтра она еще никому не скажет, обдумает, что и как говорить. Даже матери не расскажет. Как она всполошится, когда узнает о событии этой ночи! Ни на минуту не выпустит из дому, а если она куда выйдет, то будет бояться и трепетать. Действительно, уж лучше матери не говорить. Все равно тут ничего не поделаешь, зачем ее тревожить. И так ее нервы напряжены до крайности, по ночам иногда вскрикивает во сне и плачет.
В окне еще мерцал слабый свет. Ну, конечно, мать ждала ее. Мирдза тихонько постучала, и мать сразу же открыла, словно она уже издалека услышала ее шаги и ждала у дверей.
— Где велосипед? — удивленно спросила она.
— Случилась поломка… по пути туда. Оставила у Зенты, — солгала Мирдза.
— Боже, это ведь чужой велосипед, можно ли будет починить? — забеспокоилась мать.
— Починят, мамочка, починят, — успокаивала Мирдза. — Дай мне поесть, нет ли чего-нибудь горячего, — она торопливо перевела разговор на другое, чтобы больше не упоминать о велосипеде.
Мирдза ела и сбивчиво рассказывала о пережитом за день — о разговоре с городом, о Марии Перкон, которой обещала отдать ботинки Карлена, о лесных работах. Только об ограблении она не сказала ни слова. Веселостью она пыталась подавить свое недавнее волнение и временами бросала взгляд в зеркало, не остались ли на лице следы пережитого испуга. Но свет был слишком слаб, чтобы мать могла что-нибудь заметить.
Мирдза легла, но долго не могла уснуть. Как только закрывала глаза, она сразу же видела темный лес и все, что с нею произошло. Вот пауки — протягивают поперек дороги проволоку, а сами сидят в кустах и караулят жертву. Но как им могло взбрести на ум, что так поздно еще кто-нибудь поедет? Может, они кого-нибудь поджидали? Неужели меня? Откуда они узнали, что я в эту ночь поеду через Рубенский лес? Нет, это, наверное, случайность. Нехорошо все это, очень нехорошо. Так часто случаются грабежи, и даже произошло одно убийство. Может быть, неправильно — молчать? Пусть милиционер один ничего не найдет, но хоть люди будут знать, какими приемами пользуются грабители, будут по ночам осторожнее. Если сообщить милиционеру, то завтра она даже не сможет носа высунуть из дома. Ее станут расспрашивать, будут покачивать головами и ужасаться, что «нынче такие времена», а кое-кто даже поиздевается — ждала, мол, большевиков, а ее же обобрали. Все-таки лучше молчать, а уж если рассказать, то только там, где это будет иметь смысл. Плохо только, что велосипед чужой. Эрик дал ей в пользование, а если он… больше не тот Эрик… Э, лучше об этом не думать. Надо повидать отца, он поможет советом.
Утром Мирдза встала невыспавшейся и недовольной. То, что ее мучило, не было какой-то определенной мыслью, но вызывало сильное отвращение, раздражало каждую клетку нервов. Как все усложняется и запутывается, все иначе, чем она мечтала в мрачные годы немецкого господства. Казалось, что стоит только прогнать немцев и их прислужников — шуцманов, и сразу лицо всей страны изменится — люди станут самоотверженными, будут помогать друг другу в восстановлении разрушенного, и общие интересы станут преобладать над личными.
Но это не так, совсем не так, хотелось кричать. Даже на мельнице не мелят тому, кто не дает взяток. Как противно — точно при немцах, когда без куска масла и бутылки водки нельзя было зайти даже к сапожнику или портному. А в учреждениях, которые должны это видеть, — равнодушие. Даже не отвечают на жалобы. Словно это пустяк какой. Возможно, они заняты более важными делами, но какую горечь и недовольство вызывают в людях непорядки, и все это обращается против Советской власти. И вот она, Мирдза, не в состоянии больше так смело смотреть каждому в глаза, не может с гордостью сказать: видите, мы сразу же сделали жизнь лучше, извели взяточничество, справедливо распределили землю, желающих учиться послали в школу, в учреждениях у нас работают честные, отзывчивые люди. Разве теперь можно это с уверенностью сказать? Даже Зента — неплохая девушка, комсомолка — забывает дать ход просьбе Марии Перкон. Ой, как надо сразу же поехать к Бауске и все рассказать! Ей казалось, что этот человек сумел бы принять меры и быстро навести здесь порядок. Надо также попросить, чтобы в волость направили хотя бы одного энергичного, умного человека. А тут еще лесные работы, медлить с которыми никак нельзя. Надо скорее покончить с ними, и тогда она поедет. Поедет? Ну, что ж, пойдет пешком, если велосипеда больше нет. Она пойдет по снегу и сугробам, но пойдет.
Мария Перкон пришла за ботинками. Мирдзе даже неловко было выслушивать ее благодарности.
— Не за что благодарить, — ответила она, — это ведь старые ботинки, все равно валяются, никому не нужны.
— Но нынче никто никому даром ничего не дает, — возразила Мария. — Богатые хозяева заставили бы меня за ботинки целый месяц работать. Еще совсем хорошие ботиночки. Витолдинь года два их носить будет и вас благодарить. А тем временем достанем новые.
В местечко Мирдза шла вместе с Марией Перкон. В Рубенском лесу она внимательно осмотрела место ночного происшествия, но никаких следов не обнаружила. Проволока была убрана. Неизвестно, сделали ли это сами бандиты или какой-нибудь прохожий.
В исполкоме Зента встретила Мирдзу пытливым взглядом.
— Ты пешком? — был ее первый вопрос. — Значит, все же правда?
— Что правда? — ответила Мирдза вопросом и покраснела.
— Ну, что у тебя вчера ночью отняли велосипед и часы, — пояснила Зента.
— Кто это наговорил тебе такие глупости? — возмутилась Мирдза.
— Так в местечке говорят.
— Но кто именно? — настаивала Мирдза.
— Рудис Лайвинь.
— Откуда он это взял? Давай его сюда. Я хочу выяснить.
— Он вышел. Действительно, это выдумка? — удивилась Зента.
— Конечно, выдумка!
— Но почему ты пришла пешком? — недоверчиво спросила Зента. — И часиков на руке нет.
— Я вчера в темноте слетела в канаву, — сказала Мирдза. — Погнула у велосипеда спицы. Часы от сотрясения остановились.
— Чего только люди не выдумают, — негодовала Зента. — Рассказывали, что на тебя сразу же за местечком напали красноармейцы. Все забрали, в одном платьице домой прибежала. Мать заплакала, когда увидела. Ее чуть было удар не хватил.
— Я все же хотела бы знать, кто это наговорил Рудису Лайвиню, — не унималась Мирдза. — Ты его не спрашивала?
— Кажется, швея Тауринь, — вспомнила Зента. — А ей Балдиниете передала или кто-то другой из соседей, видевший твою мать.
— Сплошная ложь! Кто-кто, а уж моя мать не может выдумать таких побасенок. Их, должно быть, тут же в местечке сочинили, — сердилась Мирдза.
— Ну и хорошо, что это только сказки, — обрадовалась Зента. — Нечего об этом больше говорить. Только что звонил товарищ Бауска. Все в порядке. Делянки обменяли, будем рубить в своих лесах. Завтра лесник укажет. Жаль, что не пришла раньше, могла бы сама с Вилисом поговорить. Сегодня было хорошо слышно.
По дороге домой Мирдза зашла к Тауринь. Ей хотелось установить первоисточник слухов. Если никто ночью не видел, как ее ограбили, значит здесь что-то неладно. В таком случае, слухи шли от самих грабителей.
Тауринь сказалась ничего не знающей. Сегодня к ней приходила парикмахерша примерять платье и рассказывала, что идут такие слухи. Швея даже не спросила, кто их пустил.
— А сразу же передали Рудису, чтобы разнес по волости, — насмешливо сказала Мирдза.
— Разве я отвечаю за то, что другие говорят, — обиделась Тауринь. — Я передавала, что слышала. Разве уж теперь и говорить нельзя. Ну и времена настали.
— Не сердитесь, — улыбнулась Мирдза, пытаясь успокоить возмущенную швею. — Я только хотела сказать, что вам наболтали глупостей.
— Теперь я и сама вижу, — подобрела швея. — Говорили, что с вас пальто сняли, а сами вы вся в синяках.
Мирдза пошла к Лисман. Чем больше она будет показываться на людях, тем скорее затихнут разговоры. Парикмахерша тоже не могла точно сказать, откуда взялись такие слухи. Ей рассказывала почтовая барышня. Сегодня утром она вышла погулять и будто бы слышала, как об этом говорили две крестьянки. Одна сказала, что мать Мирдзы со слезами на глазах поделилась с ней.
Не задерживаясь, Мирдза пошла домой. Спрашивать у Майги она не станет. Все равно от нее не узнаешь больше, чем от других. Странная, очень странная вся эта история! Мать и не подозревает о вчерашних ужасах. Что-то неладно. Если никто не видел, то у кого-то есть связи с раскрашенными грабителями.
Грабителей она вдруг мысленно связала с осенними воззваниями «латышских патриотов». Кто они, где они обитают и у кого с ними связь? Эти три вопроса, как холодные гадюки, обвивали ее сердце, вселяя в него тревогу.
15
КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
Уже вторую неделю Мирдза проводила в лесу и приходила домой лишь с наступлением сумерек. Она и Пакалн договорились, что вместе заготовят свои нормы дров.
— С твоей молодостью да с моей мудростью можно горы валить, а не только деревья, — радовался старик.
Эмме Сиетниек никто не помогал, время от времени она отрывала от школы мальчика — Густ и не думал помогать и никого в помощники не нанимал. Эмма свою норму выполнила бы, но Густ настаивал, чтобы она работала и за себя и за него — не станет же он даром кормить ее с детьми. У старой Лидумиете некого было послать в лес, и она не знала, как поступить, но Пакалн подмигнул Мирдзе — разве мы, такие силачи, дадим соседке осрамиться. Думини в лесу совсем не показывались. Когда Мирдза, как уполномоченная десятидворки, зашла к ним напомнить, что нужно поторопиться с заготовкой дров, Ирма обиженно начала ей толковать, что ее муж тот же инвалид войны, ведь ступню он потерял из-за войны, и от такого несчастного калеки, право, нельзя требовать, чтобы он все выполнял наравне с другими. Август Мигла отговаривался тем, что, когда месяц на ущербе, нельзя рубить лес, дрова все равно будут сырыми и очень долго не просохнут. Куда горожане денут такие дрова? Он подождет новолуния и тогда — раз-два и нарубит. Что правительство прикажет, то и сделает, но он, старый хозяин, ни разу в своей жизни не заготовлял дрова, когда месяц на ущербе, и теперь не станет делать своему ближнему того, чего сам себе не желает.
— Такие дрова только шипят, от них ни тепла и вообще проку никакого, — закончил он свои рассуждения.
Саркалиене считала, что уже миновали те годы, когда ей надо было работать, а дочь Мальвина — новохозяйка, у нее нет ни пилы, ни топора.

— Что поделаешь — барин остается барином, — насмешливо протянул Лауск во время обеда у костра, обводя взглядом лесорубов. — Они только усмехаются — пусть, мол, работают дураки да старые лошади. Слишком уж нежно с ними обращаются. При немцах Вилюм Саркалис с ружьем подступал, если кто вовремя в лес не выходил.
— Грозные господа долго не властвуют, — вставила Балдиниете. — Вот тот же Вилюм, его и след простыл.
— Откуда знать, может, теперь в Германии большим человеком заделался, — рассуждал Лауск.
— Ну, там у них своих дрессированных собак достаточно, — усмехнулся Гаужен. — Хотя латышей туда нагнали целые легионы, может, нужен, который бы и на своем языке лаял.
— Пусть лает, лишь бы не кусался, — добавила Балдиниете. — Много зла он натворил в эти годы. Мне кажется, что этот человек по ночам не может спокойно спать.
— Думаешь, его совесть мучает? — спросил Гаужен. — Навряд ли есть у такого человека то, что называется совестью.
— Пусть у него и нет совести, но страх не дает покоя, — продолжала Балдиниете. — Я видела, как Грислис, тот, что внучку Лизы Цируль застрелил, однажды на свадьбе выскочил из-за стола, когда в кустах что-то зашуршало.
Мирдза положила в корзинку оставшийся хлеб и отошла от костра. Ей опять не давали покоя мысли о том, что Эрик не торопится с ответом на ее письмо. Его мать послала письмо несколькими днями позже и уже вчера получила ответ. И опять ни слова о ней! Значит, ответа не будет. А она, как дура, еще писала ему: «Милый, милый», возможно, чтобы посмеялся с другими парнями над этими словами. Ну, что ж, надо перенести. Надо перенести! «И перенесу!» — стиснула она зубы. Схватила топор и начала колоть сосновые дрова. Скорее бы закончить лесные работы и поехать в город. Ей казалось, что нужно переменить обстановку и тогда она заживет по-иному. Этого состояния она не могла дальше терпеть, просто задыхалась.
Остальные тоже, неторопливо сложив остатки обеда, взялись за работу.
— Если мы, дочка, и эту неделю будем так работать, как до сих пор, то в субботу кончим, — сказал Пакалн, оценивая взглядом сделанное. — Да и мне дольше некогда: на следующей неделе нужно ехать за акушеркой. Новый жилец просится на свет. Доктора у нас теперь нет. Альвина говорит, чтобы я привез из города ее двоюродную сестру.
Мирдза приободрилась. Если на этой неделе удастся кончить с дровами, то она сможет поехать вместе с Пакалном в город. Задержится там, пока Пакалн привезет акушерку обратно. Она дергала пилу так быстро и сильно, что Пакалн через некоторое время отпустил ручку и, вытирая пот, засмеялся.
— Я вижу, мы больше не пара. Ты моей мудрости уже научилась, а я у тебя молодости занять не могу. — После этого Мирдза время от времени давала старику отдохнуть, а сама колола дрова. К вечеру она устала, и мысли об Эрике уже не донимали с прежней навязчивостью.
Она еще не успела войти во двор, как распахнулась дверь дома и навстречу выбежала мать. Радостная и взволнованная, она размахивала синим конвертом.
— Письмо! Письмо! — кричала она. «От Эрика!» — вспыхнула у Мирдзы радостная мысль. — Можешь себе представить от кого? — торжествующе спросила мать. Мирдза чуть не сказала: «От Эрика», но покраснела и не могла произнести этого слова.
— Не могу, — сказала она тихо и покраснела еще гуще.
— От Карлена! Карлен написал! Карлен!
На миг радость Мирдзы погасла, но сразу же ей стало стыдно, что вести от брата она обрадовалась меньше, чем радовалась бы, если бы написал Эрик. Ведь это писал Карлен, которого мать оплакивала, как погибшего, и вдруг — он жив, здоров, на этой стороне! Она вырвала из рук матери письмо и прочла адрес отправителя: «Полевая почта №… Значит, в Красной Армии. Удрал от немцев!» Вбежав в комнату, она торопливо начала читать:
«Милые мамочка и сестренка! Надеюсь, что вы в нашем старом доме и получите это письмо. Как видите, я красноармеец. Под Добеле мы, несколько парней, сговорились и перемахнули через линию фронта. Теперь мы вместе с красноармейцами бьем фрицев. Здесь мы — товарищи, а не «латышские свиньи», как называли нас немцы. У меня даже есть хороший друг — Митя. Он осенью проезжал через нашу волость и познакомился с какой-то Мирдзой. Думает, что это моя сестра, и просит передать ей привет. Что с отцом? Вернулся ли? Мог бы написать о многом, но пока не знаю, дома ли вы, и на этот раз кончаю. Если получу ответ, напишу подробнее. Привет вам обеим и отцу, если он с вами.
Карлен».
— Ну, что ты скажешь — как все в жизни оборачивается, — воскликнула счастливая мать, когда Мирдза кончила чтение. Мирдза не отвечала: «Карлен мог написать, а Эрик…» — эта мысль снова остро кольнула ее. Она едва сдерживала слезы.
— Ты как будто совсем не рада, — упрекнула мать.
— Я радуюсь, мамочка, но… — она запнулась. Прежнее счастье и теперешняя боль были ее тайной.
— Что за «но», — обиделась мать, — это ведь он сам пишет, Карлен!
— Мамочка, наверное, я слишком устала, чтобы шумно радоваться, — оправдывалась Мирдза. Ею на самом деле овладела такая усталость, что не хотелось ни говорить, ни есть — ужин, который мать, вынув из печи, поставила на стол. Хотелось спать, заснуть крепким сном и даже во сне не видеть Эрика.
Следующие дни прошли в усердной работе. Выпал первый снег. Он долго заставил себя ждать и поэтому был глубоким и устойчивым. Мирдза старалась делать все самое трудное, опасаясь, как бы Пакалн не переутомился и не отложил поездки. В пятницу после обеда они сложили последний кубометр в счет нормы Лидумиете. Дома Мирдзу ждала записка от Зенты. Та писала, что в следующую среду им надо явиться в уездный комитет комсомола за получением комсомольских билетов. Сообщила, что обе поедут с подводчиком, назначенным исполкомом. Поедет и Рудис Лайвинь.
«Счастливого пути! — пожелала им Мирдза. — Я вас ждать не стану».
В воскресенье утром она выехала с Пакалном на легковых санках. Дорога была укатана, и лошадь, словно чувствуя нетерпеливость Мирдзы, бежала размашистой рысью. Снег покрывал развалины домов и изрытые поля, они теперь не выглядели такими жалкими. Кое-где на полях еще стояли скирды хлеба.
— Ишь ты, какие лодыри! — сердился Пакалн. — Поленились обмолотить. Нам тоже нелегко было, но вот собрались все вместе и одолели. А они, наверное, не смогли договориться. Как козлы на узком мостике. Ну, здесь все богатые усадьбы. Почти половина пустует. Уехали счастья искать. А оставшиеся залезли, словно барсуки, в свои норы. Знаю я их. Даже дорогу к соседскому дому неохотно указывают. Где уж им сговориться вместе сделать что-нибудь. Ведь все они господа. Потому и недовольны большевиками, что кончилось время господства.
— Ты, наверное, не тоскуешь по тому времени? — задумчиво спросила Мирдза.
— А почему мне тосковать? — ответил Пакалн вопросом. — Я свое добро вот этими руками заработал, — он поднял кверху свои руки в клетчатых варежках. — Разумеется, не один. Пока отец и мать живы были, пока жена была молода, старались вчетвером. Потом дети подросли, сын взял жену. Эх, не случись этого с Дзидриней… — старик сразу поник. — Не может забыть. Часто слышу, как Альвина в постели тихо плачет. Оба тайком смотрим на портретик. Без ребенка в доме — жизни нет. А когда вокруг тебя щебечут, смеются и бегают такие светловолосые, и работа лучше спорится. Сам как-то моложе становишься.
Они как раз проезжали мимо большого имения. Двери сарая были распахнуты, и видно было, как внутри несколько человек хлопотали около трактора. «Машинно-тракторная станция», — прочла Мирдза надпись на дверях. Люди, вероятно, ремонтировали трактор.
— Вот это я понимаю, — радовался Пакалн, — эти будут весной пахать. А у нашего Калинки лошадей на пункте скоро за хвост поднимать придется. Овес возит на базар или скармливает своим коровам и лошади. Не пойму, как можно такого человека подпускать к живой скотинке! Ты, дочка, когда встретишь отца, расскажи ему, как у нас тут. Скажи, пусть возвращается! Что они все там, в городе, с бумагами возятся. Появится настоящий человек, сразу забирают туда. Словно мы здесь, в волости, ни на что не нужны. А мы ведь хлеб растим, разве это ничего не стоит? Ты так и скажи!
— Скажу, — пообещала Мирдза.
Порядочно времени они ехали молча. Хорошо было покачиваться в санях, легко скользивших по мягкому снегу. Мрачная осень и зима, тяжесть одиночества, мелкие ссоры и столкновения с Зентой и Майгой — все это словно оставалось позади. Впереди намечался перелом, нечто большое, важное, — определенная веха, которая укажет: вот твоя дорога, иди по ней с открытыми глазами, тогда не заблудишься. Будет ли это так? Должно так быть! В среду придет Зента, они встретятся в такой момент и в таком месте, где с неумолимой откровенностью надо будет отказаться от всех остатков мелочного самолюбия, которого у них еще так много, или же сказать: я не достойна комсомольского билета, мне нужно исправиться, чтобы сердце свое отдать чистым славному Союзу Ленинского комсомола.
Когда показались крыши и трубы уездного города, Мирдза как бы испугалась. Хватит ли у нее сил справиться с собой, признаться в своих ошибках и не пытаться взвалить всю вину на Зенту и Майгу? Разве она уже не давала себе слова: я буду делать свою работу, пусть Зента справляется со своею? Давала, но ничего не сделала, чтобы привлечь в комсомол молодежь, с которой вместе работала.
Пакалн подвез Мирдзу до квартиры ее отца. Она взяла сверток, данный матерью, и простилась. Мирдза постучала в дверь и стала ждать — дома или нет? Послышались твердые шаги, и дверь отворилась.
— О, да это Мирдза! — воскликнул Озол. — Великая молчальница!
— Чего только мне не приходится слышать! — Мирдза удивленно посмотрела на отца. — Раньше ты всегда бранился, что я слишком шумливая.
— А теперь ко мне поступают жалобы, что ты молчишь, словно воды в рот набрала, — отец лукаво улыбался. — С кем угодно, Мирдза, но с фронтовиками шутить нельзя. Слово надо держать хотя бы до тех пор, пока вернется или… — он хотел сказать «погибнет», но удержался.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь? — Мирдза в самом деле не понимала.
— Ну, ладно, расскажу потом, когда обогреешься. Снимай пальто и заходи в комнату, — пригласил отец. — Может, поставим чай?
— Не надо, отец, — отмахнулась Мирдза. — Я все-таки хотела бы знать, что это значит? — Она догадывалась, что слова отца имеют какую-то связь с Эриком.
— Смотри, какая нетерпеливая. Ну, так полюбуйся на свои проделки.
Озол вынул из ящика небольшой конверт и положил его перед Мирдзой, а сам отвернулся. Он стал глядеть в окно и тихо напевать какую-то фронтовую песенку.
Мирдза, едва взглянув на конверт, убедилась, что письмо было от Эрика. Дрожащими пальцами она вынула письмо и прочла:
«Уважаемый господин Озол! («Как ему этот «господин» взбрел в голову», — удивилась она.) Не судите за то, что тревожу вас строками своего письма. («Как же можно так писать?» — Мирдза скривила губы.) Я знаком с вашей дочерью, Мирдзой, мы условились переписываться. Я написал ей несколько писем, но она мне не одвечает. («Да, это Эрик, он ведь не может написать без ошибок!» — именно это «не одвечает» показалось Мирдзе особенно дорогим.) Я хотел бы знать, что с ней случилось. Может быть, вы будете так любезны и напишете мне по нижеуказанному адресу, чтобы я знал, писать ли мне ей еще или она этого не желает и это ее обременяет. («Эрик, Эрик, как ты можешь так говорить!» — кричало сердце Мирдзы.) Остаюсь в надежде, что вы не оставите моего письма без ответа.
Уважающий вас Эрик Лидум».
У Мирдзы в глазах потемнело от предательски выступивших слез. Какая это злая сила до сих пор мучила их обоих? Что пришлось пережить ему, любимому Эрику, там, на фронте, вблизи смерти, если он перечувствовал все то, что довелось выстрадать ей!
Озол, угадав, что дочь уже прочла письмо, обернулся и пристально посмотрел на нее.
— Ах, ты плачешь? — воскликнул он полусерьезно, полушутя: — И тебе трудно было написать ответ?
— Отец, ты не знаешь, — сказала Мирдза тихо. — Я послала ему писем не меньше, чем он мне, но в ответ не получила ни одного.
— Как же это так? Теряются на почте? — удивился Озол. — А к другим письма доходят?
Мирдза рассказала о помарках цензуры в письмах, получаемых матерью Эрика и Пакалнами. Отец спросил, кто работает на почте, и, узнав, что письма сортируются и отправляются комсомолкой, ничего не ответил.
— Видишь, дочка, как получается, когда хочешь обойтись без родительского благословения, — поддразнивал Озол дочь, — без меня наплакались бы оба.
— А теперь я тебя обрадую, — спохватилась Мирдза, что забыла отдать письмо Карлена.
Отец прочел, и его лицо озарилось улыбкой.
— Это здорово! — воскликнул он. — Молодец парень! Вот значит как получается: я сам — бывший красноармеец, сын — красноармеец и зять — тоже.
— Папа, чего ты смеешься? — упрекнула Мирдза. — Сам мне говорил, что надо быть серьезной.
— Тебе — да, — продолжал Озол в том же тоне, — но подумай, какой у меня день — утром получил письмо от какого-то Эрика, который «условился переписываться с моей дочерью», после обеда приезжает сама дочь и все, равно, что привозит с собою сына. Почти вся семья в сборе. Я и так слишком спокоен.
Постучали в дверь. Озол пошел открыть и в сенях поздоровался с Вилисом Бауской и Эльзой.
— Мы видели, как подъехала Мирдза, хотели послушать, что она расскажет, — услышала Мирдза голос Эльзы. Озол хотел познакомить Вилиса с дочерью, но тот сразу сильно пожал Мирдзе руку и сказал:
— Мы уже знакомы. Ну, в точности такая, какой я себе представлял: с голубыми глазами, светловолосая. И боевая.
— А только что хныкала, — подтрунивал Озол над дочерью.
— Папа, если ты не перестанешь надо мной смеяться, то я уеду домой, — чуть не рассердилась Мирдза.
— Наверно, из-за того хныкала, что в волости нет порядка? — усмехнулся Вилис.
— Примерно, так оно и есть, — старался Озол исправить свою ошибку, чтобы не смущать дочь.
— Ну, расскажи, Мирдза, что у вас там не в порядке? — шутил Вилис. — Впервые тогда от вас услышал, что нет порядка. Черт знает, что у вас с телефоном? С вашей волостью никогда нельзя говорить. Всегда в аппарате шум и треск.
— Кто у вас телефонистом? — невинно спросил Озол.
— Майга Расман, — ответила Мирдза.
— Это — комсомолка, сохранившая в немецкое время свой билет, — пояснила Эльза. — Правда, Мирдза? Мне Зента так рассказывала.
— Кажется так, — тихо подтвердила Мирдза.
— До войны я знал одну комсомолку Расман, — вспомнил Вилис. — Только уж не помню, была ли она Майга, Милда или Миля… Боевая девушка. Кажется, не успела уехать. Я думаю, что шуцманы ее в живых не оставили. Впрочем, могла и скрыться. Но, возможно, это не она.
— У нее темные волосы, овальное лицо, длинные ресницы, очень красивая, — описывала Мирдза.
— Приблизительно, — согласился Вилис. — Но я не большой знаток женской красоты.
— Это видно, — пошутил Озол, взглянув на Эльзу, которая в ответ погрозила ему пальцем. Он был сегодня в таком хорошем настроении, что ему хотелось смеяться и шутить, даже без причины.
Мирдза подробно рассказала о всех случаях грабежа, все, что об этом знала.
Бауска беспокойно шагал по комнате. Озол стоял у окна, засунув руки в карманы.
— У вас, как в детективном романе! — воскликнул Вилис, пересекая большими шагами комнату. — Люди, наверно, перепуганы и возмущены? — спросил он и сам себе ответил: — Иначе и быть не может.
— Чего же ты раньше ничего не сообщала нам, — упрекнул Озол дочь.
— Я думала, что вы говорите по телефону с исполкомом, и если не Приеде, то Зента вам все рассказывает, оправдывалась Мирдза.
— Разве ты с Зентой не делишься? — спросила Эльза.
Мирдза ответила не сразу. Теперь они подошли к наболевшему вопросу, и ей надо было испытать себя, сможет ли она быть такой, какой обещала себе.
— У меня с Зентой нет больше прежней близости, — медленно, с трудом выжимала она из себя слова. — Зента дружит больше с Майгой, — добавила Мирдза, и ей стало стыдно, так как походило на то, будто она оправдывается.
— Дружба — это одно, а комсомол — другое, — заметила Эльза довольно резко. Из телефонных разговоров с Зентой она догадывалась, что девушки друг на друга обижаются.
— Я понимаю, — согласилась Мирдза.
— И все же продолжаешь ссориться?
— Я не могла себя переломить, — призналась Мирдза. — Дважды пыталась подойти к Зенте, но у Зенты всегда оказывалась Майга, и у нас происходили столкновения.
Она подробно рассказала о встрече с Майгой. Озол внимательно слушал, но в разговор не вмешивался.
— Потом мне стало обидно, что Зента во всем слушает Майгу, и я старалась в ее дела не вмешиваться. — закончила Мирдза.
Наступила гнетущая тишина. На Мирдзу она действовала, как густой туман, сдавливающий дыхание. Ей казалось, что все ее осуждают, видят насквозь и думают, какая она глупая и самолюбивая девчонка.
— Эльза, мне кажется, что ты немного пристрастна, — внезапно заговорил Вилис. — Помнишь, какая недовольная ты вернулась из своей поездки в волость? Признайся, что ни Зенте, ни Мирдзе ты ничего не рассказала о том, как начинать работу, как ее организовать.
— Я думала, что они сами сообразят, — теперь оправдывалась Эльза, — что у них хватит смекалки.
— Одной смекалки недостаточно, — продолжал укорять Вилис. — Нужны знания. А комсомольцы учатся? — спросил он Мирдзу.
— Не-ет, — ответила она с запинкой и тут же добавила: — У нас даже ни одного собрания не было.
— Это, Эльза, все-таки на твоей совести, нравится тебе или нет. — Вилис строго посмотрел на Эльзу, нервно мявшую носовой платок.
Мирдзе стало жаль Эльзу. Упреки Вилиса казались ей несправедливыми. Как же так можно — они с Зентой капризничали, а отвечать приходится Эльзе.
— Почему вы ее обвиняете? — начала она с жаром, но Эльза ее остановила.
— Все это так, нечего меня оправдывать, — сказала она. — Тогда я была слишком подавлена… личными делами. А потом не подумала об этом.
Озол задумчиво молчал. Ошибка была слишком велика, чтобы винить в ней только Эльзу и девушек. Почему он сам не хотел ехать в родную волость? Как страус, прятал голову в песок и успокаивал себя: «Как-нибудь одни справятся». Не подумал о том, что ни у кого там нет опыта в общественной работе, не хватает политической грамотности. Ведь и хорошие и честные люди из-за своего неумения могут порою оказать Советской власти медвежью услугу. Разве он объяснил Яну Приеде, как тот должен работать, разъяснил хотя бы основное направление работы? Да и этого было бы мало. Ян — крестьянин, человек практического ума, ему надо все показать на конкретных примерах, проследить за тем, как он все понял и в состоянии ли он сам сделать дальнейшие выводы. Как инструктор, он сам должен был и потом выезжать в волость, а не ограничиваться отсылкой инструкций. Как он мог посещать другие волости, а в свою не заглядывать!
И как он все время ни старался подавить в себе кое-какие чувства, не давая им сформироваться в четкую мысль, они, наконец, заговорили в нем, потребовав, чтобы он решился. Это были чувства, связанные с женой, с Ольгой. Тогда осенью на него тяжело подействовали ее меланхолия, мрачная подавленность, ее узкий ограниченный духовный мир. И надо было еще спросить, почему он не поддержал ее, не пытался освободить от этого бремени тоски и одиночества. Теперь это, несомненно, сделало письмо сына, и если он, Озол, теперь приедет домой, то жена будет совсем другой, с совсем другим полетом мысли.
Все же он эти годы жил в ином мире, видел других, свободных людей, в их рядах боролся за всю великую Советскую родину, а не только за клочок земли, называемый Латвией. Ольга томилась в мире унижения и кровавых кошмаров, изо дня в день дрожала за судьбу детей и даже за кусок хлеба, который каждую минуту могли отнять у них оккупанты и свои же шуцманы. Разве ей не нужна была дружеская опора, сильная рука, которая разорвала бы круг однообразных мыслей и открыла бы ей широкие горизонты, показав, какой может стать и какой станет жизнь? Именно своя волость, свой дом ему казались более глухими, нежели какое-нибудь другое место, провинциальным захолустьем, где порою нужно решать мелкие будничные вопросы. А здесь, в городе, очертания новой жизни были как бы виднее, здесь он словно бы отчетливее видел, как теория, которую он изучал на курсах и продолжал изучать сейчас, перекликается с практической жизнью. Он мог подготовить и прочесть политически совершенно правильный доклад о главных задачах советских работников на освобожденной территории, мог рассказать о классовой борьбе, которая может проявиться в очень острых конфликтах. Но как справиться с классовым врагом Яну Приеде, когда этот враг, вроде Августа Миглы или Калинки, приходит к нему с приветливой улыбкой и говорит: «Я ничего не имею против Советской власти, она мне даже нравится, только устрой меня в советском учреждении». Как же не растеряться молодому работнику, поставленному на боевой пост, но теоретически не вооруженному и не получившему политической и общественной закалки? Именно так он осенью поступил с Приеде — поставил на пост, даже не сообщив пароля, по которому следует отличать друга от врага. А теперь они удивляются и спрашивают, почему в волости нет порядка, почему тот же Калинка обводит вокруг пальца Приеде и Лауска и, как клоп, присосался к изувеченному войной телу страны!
Он поднял глаза и заметил, что все остальные тоже молчат, не глядя друг на друга. Его губы раскрылись и застыли — трудно было вымолвить первое слово. Но говорить надо было — заставить себя признать свои ошибки и перед другими, чтобы уже нельзя было отступить в укрытие самоуспокоения.
— Если уж говорить о вине, об ошибках, — начал он, прислушиваясь к глухому звуку своего голоса, — если говорить об ошибках, то я допустил их больше, чем кто-либо из вас. — С трудом, время от времени останавливаясь, он рассказал все только что продуманное, умолчав лишь о причинах, из-за которых избегал поездок в волость и практически не помог новым работникам. Здесь присутствовала Мирдза, и его полное признание могло поколебать у нее веру в постоянство отношений между людьми и в прочность семейных уз. Да, если бы Ольга стала для него совершенно чужой и безразличной, если бы между ними образовалась широкая пропасть, через которую уже нельзя перекинуть никаких мостов, тогда другое дело, тогда нельзя было бы лицемерить ни перед Ольгой, ни перед детьми.
Но такой пропасти не было. Как часто, в короткие минуты отдыха, перед его глазами представала Оля — такой, какой он ее увидел впервые, такой, как в тот день, когда решилась их общая судьба, он видел ее молодой матерью с маленькой Мирдзой, с Карленом у груди; Олей — какой она была в первый год Советской власти, когда ему каждый вечер надо было рассказывать ей, как формируется жизнь волости: никогда она не ложилась спать, не прочитав газету, и умела находить время для чтения новых книг. Но когда он, вернувшись, всем своим сердцем устремился навстречу этой Оле, между ними стала другая, — та, которую он нашел, — ссутулившаяся, внутренне постаревшая женщина. Она сказала: «Юрис, право, не ходил бы ты ни на какие должности. Кто знает, что нас ждет впереди. Будем жить тихонько в своем гнезде». Его нежность сменилась досадой, так как эта Ольга как бы заслонила светлое зарево на горизонте, сделала все вокруг серым. «Да, теперь ты видишь, как легко поучать других бороться с пережитками капитализма в сознании людей; но когда нужно самому помочь собственной жене избавиться от этих пережитков, ты избегаешь этого, чувствуешь себя бессильным и почему-то даже обиженным!» — зло высмеивал он самого себя.
Вилис Бауска смотрел на него, как бы ожидая, что он будет продолжать, объяснит причины своих ошибок, но затем понял, что в Озоле происходит внутренняя борьба, и начал сам.
— Я считаю, что признание ошибок даст нам возможность скорее их исправить. Может быть, обсудим, с чего начать?
Озол провел рукой по лицу. Действительно, ошибки надо исправить, волость должна стать центром внимания, нужно установить с нею тесную, живую связь, чтобы тамошние работники не были предоставлены самим себе, чтобы они повседневно чувствовали заботу и помощь уезда. Прежде всего, надо выяснить, что это за темные силы, которые обагренными кровью руками мешают волости жить, кто их сообщники и укрыватели. Когда Мирдза рассказывала, что до нее странным образом не доходят письма и что цензура многое перечеркивает, у него возникли подозрения. Но Озол не хотел высказать эти подозрения в присутствии Мирдзы, — если бы они оказались необоснованными, то он посеял бы взаимное недоверие среди комсомольцев. Чтобы легче было на некоторое время выпроводить Мирдзу, он снова перешел на прежний веселый тон и сказал:
— Все-таки неплохо было бы поставить чай. Кроме того, Мирдза, по деревенскому обычаю, приехала со всякими вкусными вещами. Надо бы угостить столь редких гостей. Хозяйки у меня нет, может, сами гостьи позаботятся об ужине?
Эльза взяла за плечи поникшую Мирдзу и увела на кухню.
— Я хотел поговорить с тобой наедине, — сказал Озол Бауске. — Ясно, что в волости орудует шайка бандитов. Вопрос, как напасть на их след?
— Надо посоветоваться с органами безопасности, — предложил Бауска.
— Несомненно, — согласился Озол. — Но было бы хорошо, если бы мы могли дать им нить. Мне кажется, что нужно начинать с почты. — И он рассказал о письмах и комсомолке Расман, об ее отношениях с Мирдзой и Зентой.
— Может быть, присвоение писем является не больше, чем личной местью Мирдзе, — допустил он, — но могут быть и более глубокие корни. Во всяком случае, работник органов безопасности на должности начальника почты не вызовет никаких подозрений.
За ужином они подробно расспросили Мирдзу о всех происшествиях в волости, и Мирдза рассказала все, что накопилось, закончив просьбой Пакална послать в деревню дельных работников.
— Это, действительно, обоснованное требование, — согласился Вилис. — Нужно только подумать, где их взять. Война ведь еще не кончилась.
— Вернулась какая-то группа партизан, из местных, можно было бы послать кого-нибудь из них, — вспомнил Озол. — Между прочим, я видел Петера Ванага, только не успел поговорить. Он был сознательным парнем. Недавно бандиты убили у него мать.
— Ты предлагаешь его вместо Приеде председателем? — спросил Вилис.
— По-видимому, Приеде не справляется, — ответил Озол. — Мне надо будет поехать туда и добиться, чтобы директор МТС прогнал Калинку. Что скажут люди, если он на самом деле заморит лошадей голодом? Туда надо поставить заботливого хозяина. Надо осмотреться.
Когда гости ушли и Мирдза убрала со стола, он усадил ее рядом с собой.
— Теперь расскажи мне, как себя чувствует мать? — спросил он.
— После письма Карлена она совсем изменилась, — радостно сказала Мирдза. — Но если бы ты, папа, знал, как трудно было с ней! Мне тоже было нелегко. Иногда казалось, что она ко мне несправедлива, больше любит Карлена. А порой думалось, что мы оба несправедливы к ней. Забросили ее, словно она сделала что-нибудь плохое.
— Мы были несправедливы, Мирдза, в особенности я, — сказал Озол. — Хорошо, что Карлен помог исправить нашу вину. Захвати с собой книги, будете читать. Школу ты не успела окончить. Хотела бы продолжать?
Мирдза с благодарностью посмотрела на отца. Он отгадал ее тайное желание.
— Я, право, не знаю, будет ли тебе это по силам. Вот, например, Вилис Бауска решил кончить заочно. Теперь сидит и учится. Использует каждую минуту. В городе, конечно, легче. Можно консультироваться с учителями.
— Я, пожалуй, могла бы просить Салениека помочь, — заметила Мирдза. С тех пор, как она узнала, что с Эриком ее разъединяло лишь недоразумение, ей больше не хотелось «бежать» из волости.
— Попытайся. Если не получится, поступишь будущей осенью в школу. Среднюю школу надо обязательно кончить, если даже останешься в деревне. Получишь более широкий кругозор, многое будешь понимать. Между прочим, ты упомянула о Салениеке. Как он? Помогает вам в общественной работе?
— У нас нет никакой общественной работы, — призналась Мирдза.
— Плохо, плохо, — покачал Озол головой. — Еще один упрек нашей совести.
— Папа, я ведь не упрекаю вас, — запротестовала Мирдза. — Мне было так неудобно — знаю, виновата сама, что повздорила с Зентой, но товарищ Бауска бранит Эльзу. Пока Эльза была у нас, все казалось таким чудесным. Как в праздник!
— Вот видите, стоило только улетучиться праздничному настроению, как у вас уже ничего не получается, — улыбнулся Озол. — Вилис ее бранит за то, что не научила вас сочетать праздник с буднями. Одного воодушевления мало. Кроме воодушевления нужно и умение работать.
— Папа, если бы ты знал, как я боролась с собой, — Мирдза припала к отцу. — Но так трудно заставить себя быть такой, какой хотелось бы.
Озол слегка погладил ее волосы. Он долго смотрел на нее и как бы удивлялся, действительно ли такая большая у него дочь. Взрослый человек. Ее не нужно больше ни опекать, ни водить за руку — боевой товарищ, борющийся за то же, за что он сражался в болотах под Старой Руссой и борется теперь.
— Это хорошо, Мирдза, что ты борешься с собой, — он пожал дочери руку. — Кто не борется, тот не растет. Скоро получишь комсомольский билет, — добавил он немного погодя, — он тебе поможет одерживать победы над собой. Когда будет трудно, захочется отступить, найти более легкий выход, тогда посмотри на него. Вспомни, за что комсомолу присвоено имя Ленина. Ладно, на сегодня хватит говорить, — опомнился он, — ты только что с дороги, так много рассказывала. Ложись на диван и усни! Мне еще надо почитать.
Мирдза посмотрела на открытую книгу. То была русская книга.
«Надо учиться русскому языку, — решила она. — Может быть, сумеем организовать в волости кружок и пригласить учителя».
Она легла и долго смотрела на отца. Он погрузился в чтение и, казалось, забыл все, что было пережито за день и что ожидало его утром.
«Это, наверное, замечательная книга. Смогла бы я ее понять?»
Усталость и сон смыкали ей веки. Было так хорошо. Она прожила богатый событиями день. Но надо еще много учиться, очень много. Она ведь еще так мало читала. В немецкое время не было книг. Те, что можно было достать, вызывали отвращение. Чаще всего в них ругали большевиков. Тогда ей казалось, что это ругают ее отца.
«Но Эрик меня любит! — ликовало сердце. — Как хорошо, что он догадался написать отцу». Как за один день изменилась жизнь! Еще вчера ей казалось, что она бредет в темноте, без дороги, протягивает руки и кричит: «Эрик, Эрик!» Сегодня глаза слепит от солнца, от счастья. Надо было бы сейчас же написать ему. Но отец читает, нельзя мешать. Да и почта сегодня вечером все равно не отправит письма.
Утром, перед уходом на работу, Озол сказал Мирдзе:
— Ты, вероятно, напишешь своему Эрику. Договоримся, чтобы он отвечал тебе пока по моему адресу. Буду присылать тебе письма, вместе с бумагами в исполком, или с какой-нибудь оказией. Теперь я вижу, что вас нельзя предоставлять самим себе. До вечера не увидимся, — улыбнулся он, уходя. — Надеюсь, что ты скучать не умеешь. Возьми на полке какую-нибудь книгу.
Прежде всего она написала Эрику. Не надо было искать слов, как тогда, не надо было рвать написанное, теперь она знала, что письмо будет читать человек, который любит, который нетерпеливо ждет от нее хотя бы несколько слов. Она только беспокоилась, не пропало бы это письмо, как пропадали прежние.
Написав письмо, она отнесла его на почту. Затем решила пройтись по улицам разбитого города. «Уездный
комитет ЛКСМ Латвии», прочла она на дверях одного дома. Мирдза остановилась. Там работает Эльза. Вчера она не успела рассказать ей о своих комсомольских делах. Можно ли сейчас потревожить ее, зайти поговорить? А может быть, у нее срочная работа? Мирдза уже хотела идти дальше, но затем вернулась и пошла наверх. Заглянуть-то ведь можно. Не идет же она просто поболтать. Они должны здесь знать о нас все, какие мы и почему так плохо работаем.
Эльза была на совещании.
— Вы подождите, сейчас закончится, — сказала одна из девушек, и Мирдза осталась ждать.
Когда Эльза увидела Мирдзу, она радостно удивилась.
— Только что хотела посылать за тобой, — сказала она. — Я рассказала о тебе нашему секретарю, и он хочет с тобой поговорить.
Не дав Мирдзе опомниться, она повела ее в кабинет секретаря Упмалиса.
Упмалис был молодой человек в военной форме без погон, с гвардейским значком и орденскими ленточками на груди. Правую щеку пересекал шрам, но он не уродовал лицо, а придавал ему немного суровую, воинственную красоту. Серые глаза приветливо посмотрели на Мирдзу, и смущение ее рассеялось.
— Товарищ Янсон рассказывала мне о тебе, — улыбнулся он и, заметив, что Мирдза покраснела, добавил: — Не бойся, не только плохое, но и не только хорошее. Мне хотелось бы слышать от тебя лично, что мешает вам развернуть работу. Может, общими усилиями удастся это устранить.
Вначале Мирдзе было трудно говорить, но простые вопросы Упмалиса ободряли ее, когда нить рассказа грозила оборваться. Это уже не был рассказ, а дружеская беседа, в конце которой Мирдза и сама удивлялась, как она могла человеку, которого видит впервые, поведать даже о своих личных переживаниях после размолвки с Зентой, о своей придирчивости и неприязни к Майге и ее влиянии на Зенту и, наконец, о резком столкновении с Рудисом Лайвинем и нежелании считать его комсомольцем.
— Быть может, это неправильно, принимать в комсомол только юношей и девушек, которые сознательна преданы его делу, — сказала она. — Быть может, права Майга Расман, что организация должна их перевоспитывать?
— Комсомольская организация воспитывает своих членов, — ответил Упмалис, барабаня пальцами по столу в такт какой-то песни. — Мы не ждем от всех поступающих в организацию, чтобы они были зрелыми, сформировавшимися людьми, как говорил Горький, — людьми с большой буквы. Но одного мы все же требуем: чтобы они приходили к нам с чистым сердцем, с желанием стать такими людьми. Если кто-нибудь руководствуется другими мотивами — карьерой, корыстью, хочет примазаться, то такому в комсомоле нет места и не будет. На нас смотрит и старшее поколение и наши ровесники. Недоброжелателей у нас еще много. Стоит какому-нибудь недостойному типу втереться в нашу среду, и сразу же десятки пальцев будут указывать: «Вот каковы комсомольцы…» Этого никогда нельзя забывать.
Мирдза молчала и удивлялась, как четко секретарь выразил волновавшие ее мысли, осознать которые ей мешали сомнения и незнание.
— Тебе, товарищ Мирдза, в будущем надо учесть, что привлечение волостной молодежи в комсомол не является задачей одного только комсорга, но и твоей обязанностью, — продолжал секретарь. — Чтобы привлечь молодежь, недостаточно предложить вступить в организацию. Вам нужно развернуть широкую и интересную общественную деятельность. Кроме того, заботьтесь, чтобы ваши собрания не были сухими и скучными. И наконец, — закончил Упмалис, смотря на Мирдзу в упор, — самое важное. Надо начать политическую учебу. Политика не сухое или неинтересное занятие, она — сама жизнь и в то же время оружие, помогающее правильно понимать и направлять жизнь. Достоин сожаления человек, не разбирающийся в политике, а стало быть, и в жизни. Он запутывается, как курица в пакле, верит каждой сплетне и ждет небесных чудес, не понимая, что сплетни и слухи также являются политикой — политикой врага. Ну, пока, пожалуй, хватит, — сказал он, вставая. — Мы встречаемся, правда, в первый, но не в последний раз. Надеюсь, что теперь ты будешь чаще посещать нас. Если что-нибудь удручает, не удается — приезжай или напиши. Не считай нас какими-то недосягаемыми мандаринами. Договорились? — он взял обеими руками руку Мирдзы и дружески потряс.
— Я очень благодарна… — Мирдза не знала, как сказать — «тебе» или «вам».
— Тебе, — помог ей Упмалис, поняв ее. — Мы ведь боевые товарищи.
Мирдза вышла из кабинета секретаря окрыленная. Каждое слышанное слово запало в сознание, словно врезалось в мозг на вечные времена. Каждый совет, как нужно работать, связался в ее воображении с жизнью волости и с личной жизнью, которая в дальнейшем будет наполнена большой напряженной работой и учебой.
Придя на квартиру отца, она просмотрела книги и нашла среди них «Как закалялась сталь» Островского, книгу, которая однажды заставила ее плакать. Это было в немецкое время, когда она была вынуждена батрачить у Саркалисов. Тогда она достала ее из тайно зарытого ящика с советскими книгами и в еще большей тайне читала в минуты отдыха, забравшись в сарай. Неизвестно, каким образом Саркалиене нашла спрятанную в мякине книгу и показала Вилюму. Тот поднял такой шум, что казалось, Мирдзу сейчас же расстреляет; на ее глазах он растоптал книгу ногами и бросил в огонь.
Мирдза начала перелистывать книгу и вспоминала каждую прочитанную строчку, даже страницу, на которой тогда оборвался рассказ о жизни Павки Корчагина. Это было место, где говорилось о том, как он уезжал строить железную дорогу. Она примостилась на диване и начала читать дальше. Перед глазами, как наяву, возникли осенний лес, дождь и грязь, промокшая, липнущая к телу одежда, продуваемый ветром барак, мерзлая земля, которую полуголодные юноши долбят примитивными инструментами, прокладывая железную дорогу. Ее захватили самоотверженность, сила и выносливость, почти сверхчеловеческое упорство, преодолевшее, наконец, упрямую природу и коварных врагов. «Какой суровой красотой, какой силой духа дышат эти страницы, — думала она. — Разве мы, теперешняя молодежь, не можем быть такими! Сейчас наша родина сильно разорена, она тоскует по нашим рукам, по нашим сердцам, а мы не переносим малейшего прикосновения другого, замыкаемся в себе, давая тем временем врагу возможность хозяйничать и гулять, как у себя дома. Этого не должно быть».
Мирдза так увлеклась книгой, что забыла обо всем остальном. Она очнулась, только когда открылась дверь и в комнату вошел отец вместе с еще одним человеком, который, поздоровавшись, назвал свое имя, но Мирдза не успела его запомнить. Постепенно разговор перешел на волость. Отец рассказал незнакомцу о том, что слышал от Мирдзы, а тот время от времени расспрашивал ее о всяких подробностях, касавшихся в особенности Расман и бандитов, ограбивших Мирдзу. Его даже интересовало, быстро ли можно добиться телефонной связи с уездом и как долго, например, Мирдза тогда в исполкоме ждала соединения. Услышав, что шесть часов, он удивился ее терпению и спросил, что она делала все это время. Хорошо, если в исполком приходит много народу, — интересно посмотреть на людей и послушать, кто о чем говорит. Мирдза рассказала, что видела лишь троих: Рудиса Лайвиня, которого Расман посылала за молоком и медом, какого-то крестьянина, жаловавшегося на то, что на мельнице нельзя смолоть без взятки, и Марию Перкон. Больше всего незнакомец заинтересовался Рудисом Лайвинем и что это за усадьба, в которой текут мед и молоко. Мирдза предположила — возможно, он был у Саркалиене, к которой Расман, сразу же по приезде, начала посылать свою квартирную хозяйку за продуктами.
Когда незнакомец ушел, Мирдза рассказала отцу о своей встрече с секретарем уездного комитета комсомола. Оказалось, что отец хорошо знает его по фронту.
— Храбрый парень, — вспомнил он. — Еще в Эстонии, во время отступления, командовал ротой. Дрался под Ленинградом, там его ранило. Из нашего запасного полка его не хотели отпускать на фронт, но Упмалис не из тех, кого можно удержать в тылу. В нашей части он был комсоргом. Всегда его можно было видеть там, где возникало опасение, что еще не обстрелянные солдаты могут дрогнуть, — в самых жарких местах. Часто мы шутили: до чего, мол, человеку везет — сколько раз ему то руку царапнет, то голову, а он возвращался из боя улыбающийся, как майский день. Однажды ему простреляли мякоть руки. Его хотели эвакуировать в госпиталь, но разве Упмалиса можно уговорить? Он как-то сумел уверить врачей, что у него все быстро заживает. И зажило. Но однажды санитарки вынесли его из-под огня с простреленной грудью, едва живого, чуть не истек кровью. Тут уж ничто не помогло. Возможно, и попытался бы сопротивляться, но ему было запрещено говорить, — усмехнулся отец. — Это было для нас большой потерей. Ах, Мирдза, если бы ты видела, каких замечательных парней воспитал фронт! И какие великолепные люди погибли…
Мирдза, затаив дыхание, слушала отца. Она подумала об Эрике — он тоже представился ей идущим в самый жестокий огонь, смелым и самоотверженным, полным ненависти к убийцам своей сестры. Она не сомневалась в том, что Эрик стал таким же, каким отец изобразил Упмалиса, а иначе… «Что, иначе? — она вздрогнула. — Иначе я не смогу его любить так сильно…»
В среду утром Мирдза проснулась еще затемно и не могла больше заснуть. Какой сегодня знаменательный день! В десять ей надо явиться на бюро уездного комитета комсомола, и там решится, достойна ли она быть членом Ленинского комсомола или же ей посоветуют подождать, поучиться, пока она не станет похожей на человека, которого, как сказал секретарь, Горький называл Человеком с большой буквы. Упмалис все-таки сказал: «Мы боевые товарищи», значит не хотел ее оттолкнуть. Правильнее было сказать: «Мы будем боевыми товарищами» — у него за спиной проведенные в славных боях годы, а она только еще начинает по-настоящему постигать, что вся жизнь комсомольца должна быть борьбой против всего того, что мешает Советской стране, советскому человеку в могущественном шествии в гору, борьбой против всех темных сил, которые норовят ставить палки в колеса, против мелочности, безразличия в самой себе и в окружающих.
В комитете она встретилась с Зентой и сердечно пожала ей руку, словно они долго не виделись. Приехал также Рудис Лайвинь, много было парней и девушек из других волостей.
Первой на бюро вызвали Зенту. Мирдзе казалось, что та слишком долго остается за дверями, которые открывались и закрывались беззвучно и как-то торжественно. «Что я скажу, когда наступит мой черед?» — думала она, и внезапно ей показалось, что в ее жизни не было ничего такого, что могло бы интересовать таких людей, как Упмалис, который прошел долгий боевой путь и проливал свою кровь ради того, чтобы ее, маленькую и незаметную Мирдзу, вырвать из лап Саркалисов и немцев и дать ей путевку в свободную и широкую жизнь. Погрузившись в мысли, она не заметила, как двери снова раскрылись, и встрепенулась, услышав свое имя.
Войдя, она одним взглядом охватила всех находившихся в помещении людей. Узнала только двоих — Упмалиса и Эльзу. Секретарь смотрел на нее приветливо и, заметив ее волнение, подбадривающе улыбнулся. Эта светлая дружеская улыбка и легкий кивок успокоили Мирдзу, вселили в нее смелость и уверенность.
Мирдзе задали несколько вопросов. Она ответила. Но когда ей предложили рассказать свою биографию, ею опять овладели уже испытанные в приемной сомнения и чувство неполноценности. И снова ей помог подбадривающий взгляд секретаря Упмалиса.
— Я не была героиней. Я даже не делала по-настоящему той работы, которую должна была делать после изгнания немцев и после того как решила стать членом комсомола, — закончила она. — Лишь теперь я понимаю, какой я должна была быть, и приложу все силы, чтобы стать лучше, чем была до сих пор.
Еще несколько вопросов, потом заговорил Упмалис. Он охарактеризовал пылкость Мирдзы в первые дни, резко осудил ее придирчивость к Зенте, от чего пострадала вся комсомольская работа в волости. У Мирдзы на глазах даже навернулись слезы, ей казалось — сейчас последует вывод, что такой глупой, упрямой девчонке не место в комсомоле.
— Мирдза Озол много работала и хорошо работала, — услышала она дальнейшие слова Упмалиса, — но мы сегодня ее приветствовали бы еще сердечнее, если бы она и остальную молодежь волости зажгла энтузиазмом, свойственным ей. Поэт Арайс-Берце говорит: «Сила, не ощутимая в капле, становится могучей в море». Этого в своей работе не учла Мирдза Озол. Все же ей свойственно одно великолепное качество — смелость в признании своих ошибок, и это является залогом того, что она их исправит. Предлагаю принять Мирдзу Озол в организацию Ленинского комсомола.
Мирдза смотрела на бюст Ленина, восхищаясь одухотворенным лицом и острым взглядом вождя. «Он вступил в борьбу за новый, невиданный строй, увлек за собой миллионы людей, справился с бесчисленными врагами, а я…»
— Мы ждем от тебя работы, самоотверженности и преданности делу Ленина… — Точно в ответ на свои мысли, слышит она слова секретаря Упмалиса. Он вручает ей комсомольский билет. Обеими руками он пожимает ей руку. Ее поздравляют и другие, чьи-то руки обнимают ее, и горячие губы целуют в щеку — это Эльза, которая смотрит на нее влажными глазами и хочет что-то сказать, но не может из-за избытка чувств.
В приемной Мирдзу схватила в объятия Зента — она ожидала, пока подруга выйдет. Не обращая внимания на присутствующих, обе девушки расцеловались, чувствуя, как мгновенно улетучилась темная сила мелочного самолюбия и обидчивости, разлучившая их в последние месяцы. Придя в себя, они выбежали на улицу и быстрым шагом направились в квартиру Озола.
— Зента, милая! — Мирдза обняла подругу. — Не будет больше между нами Майги.
— Я не позволю ей становиться между нами, — засмеялась Зента, и, сразу же сделавшись серьезной, спросила: — Мирдза, ты тоже чувствуешь, что там, на бюро, за это короткое время мы как бы выросли?
Они пытались передать друг другу свои впечатления, но слова казались бледными и беспомощными по сравнению с чувствами, бушевавшими в груди.
Там, наедине, они излили друг другу душу.
— Зента, я никогда, никогда не позволю Майге отнять тебя у меня, — обещала Мирдза и добавила: — Сегодня я ни о ком не хотела бы говорить плохое, но хочу быть откровенной и поэтому признаюсь — она мне не нравится. Если бы она была тебе искренней подругой, то не изуро… не преобразила бы тебя так неудачно, — нашла она, наконец, более мягкое выражение.
— Мирдза, если бы ты знала, как стыдно мне было, когда товарищ Упмалис посмотрел на мою прическу, — призналась Зента. — Мне показалось, что он усмехнулся. Я хочу немедленно окунуться в воду и расчесать эти свиные хвостика. Пойдем сейчас же на кухню!
Мирдза хотела нагреть воды, но Зента не позволила и сунула голову под кран. Затем Мирдза помогла ей расчесать пробор, и так начала воскресать «прежняя Зента», — как они шутили.
— Но — брови, как их отмыть? — спросила Зента, глядясь в зеркало. — И они принялись искать в шкафу Озола бензин или другую какую-нибудь жидкость, чтобы вывести въевшуюся в брови краску. Совсем она не сошла, но брови стали чище.
— Если еще чуть удлинить платье, тогда ты будешь отвоевана, — радовалась Мирдза.
После обеда они гуляли по городу, искали книги, бумагу для лозунгов и красную ткань для флажков и прочих украшений.
— А знаешь, Зента, какой лозунг мы вывесим на стене? — заговорила Мирдза.
— Ну?
— «Сила, не ощутимая в капле, становится могучей в море». Это слова Арайса-Берце.
16
СВЕЖИЙ ВЕТЕР
Однажды после обеда в волостной исполком явились Озол и Петер Ванаг. Приеде смущенно посмотрел на них, словно хотел сказать: «Да, я ведь говорил, что не надо было меня ставить…» По серьезному, немного виноватому лицу Озола он угадал, что и тот пришел к такому же выводу и привел Петера Ванага, который теперь сядет на председательское место и станет более твердой рукой управлять жизнью волости. Прежде чем кто-либо успел что-нибудь сказать, он встал со стула и, оставаясь стоять, пригласил:
— Садитесь! Садитесь, Петер! — и указал на свой стул у стола.
— Сиди, сиди, Ян, ты еще здесь хозяин, — неловко усмехнулся Петер.
— Да нет уж, — махнул Ян рукой. — Мне это не по силам. Никто ничего не говорит. Откуда мне знать, как быть.
Озол тяжело переживал эти минуты. Ясно, что Приеде не может остаться на работе, она ему в самом деле не по силам. Нельзя же приставить к нему человека, который бы его учил: делай так и делай этак. Озол сознавал свою вину, во-первых, в самом выборе председателя, во-вторых, в том, что слишком мало говорил с Приеде, слишком мало давал указаний. Во всем существе Яна было нечто неподвижное — какая-то непреодолимая пассивность, но Озол надеялся тогда, что она со временем исчезнет. Может быть, и в самом деле исчезла бы, но времени не было и дольше нельзя было ждать. Волость сильно отставала с поставками государству, с лесными работами, с распределением земли, отставала и по активности общественной жизни; в последнем, правда, крепко были виноваты комсомольцы. В волости должно пахнуть свежим ветром, надо разогнать духоту и сонливость, надо дать врагу понять, что советские люди не позволят ему грязными руками шарить по их карманам; Озол опасался лишь одного — не придавит ли совсем Яна это отстранение, не убьет ли оно в нем навсегда веру в то, что он годится не только Думиню в батраки. Необходимо было поговорить с Яном наедине, поэтому он предложил ему подняться в его комнатку.
Комнатка Яна имела печальный вид, в ней все выглядело изношенным и бедным. Жалкий, тощий тюфяк на простой железной кровати не был покрыт простыней, одеяло валялось откинутым к стене.
— Тут еще не прибрано, — извинился Ян и поспешил покрыть тюфяк одеялом.
— Я вижу, тебе трудно живется, никто даже не приберет у тебя, — покачал Озол головой.
— Да нет. Приходила тут одна женщина, потом рассердилась, когда господин начальник почты загадил с похмелья комнату, — простодушно рассказывал Ян. — Говорит, противно убирать.
— Что же это ты пьянством занимаешься? — Озол посмотрел на него с укоризной.
— Да я ведь не хочу, — оправдывался Ян, — пристает как банный лист. Оба с Калинкой…
— Где же они берут деньги, чтобы выпивать? — спросил Озол.
— Да я не знаю. Говорят, что хозяева водку приносят.
— А ты гнал бы их в шею.
— Да ведь они пристают. Я уже сказал — пусть пьют сами. Нет, говорят, невкусно. В карты играют. Сколько раз спать не давали. До рассвета.
— Ты тоже играешь?
— Да я ведь не умею. Не могу научиться.
— Очень хорошо, что не можешь, — сказал Озол. — Ну, будем говорить о будущем. Ты, наверное, сам понимаешь, что в волости не все так, как должно быть?
— Да ведь понимаю, — согласился Ян. — Не умею я с ними справиться. Поставьте другого!
— Да, надо поставить другого, — сказал Озол медленно, с трудом выжимая из себя слова, — хотя мне бы было больше по душе, если бы ты сам за это время подтянулся. И как ты думаешь в дальнейшем устраивать свою жизнь?
— Не знаю. Может, снова пойду батраком.
— Почему же лучше не взять себе земли?
— Что я один с землей стану делать? Обо всем нужно заботиться. Кто коров доить будет? Кто обед варить? Мне больше нравилось бы с лошадьми. Калинке нужен конюх. Только у него нечем кормить. Этого вот я не могу переносить, когда лошадка смотрит на тебя, повесив уши.
Озола осенила мысль. По дороге сюда они с Петером заехали в МТС. Озол поговорил с директором о том, что толкуют люди о коннопрокатном пункте и о Калинке. Директор признал, что пункт не в настоящих хозяйских руках, но не решался уволить Калинку, так как трудно найти человека. А здесь сидит Приеде — ему нравится ходить за лошадьми, он не переносит, когда их обижают. Именно такой человек и нужен.
— Ладно, устроим тебя на коннопрокатном пункте, — сказал Озол. — Но ты не обидишься, если сюда, на твое место, придет другой? Скажем, Петер Ванаг?
— Нет, нет! — воскликнул Ян. — Если я попаду на коннопрокатный пункт, тогда хорошо. А в батраки идти — как бы люди не стали смеяться.
Озол заметил, что лицо Яна оживилось.
— Я только не знаю, как быть: в конюшне у Калинки снег валится на голову, — Ян в замешательстве почесал затылок. — Была бы дранка и гвозди, я бы сам исправил крышу. А то лошади могут заболеть ревматизмом.
— А что теперь в имении?
— Вот это было бы хорошо, — обрадовался Ян. — Там хорошие конюшни. А на пункте две кобылы жеребые. В конюшне Калинки жеребята замерзнут. Пришлось бы в комнату взять.
Озол не знал — сказать Яну, что тот должен стать заведующим пунктом или не сказать. Но, может, все же лучше сказать, чтобы Ян заранее свыкся с этой мыслью.
— Я не сумею распоряжаться людьми, — колебался Ян. — Не могу другому указывать.
— А ты подыщи себе таких помощников, которые любят лошадей, как ты сам, — посоветовал Озол.
— Кто не любит лошадей, того нельзя к ним и подпускать, — вдруг рассердился Ян. — Я уж лучше сам все сделаю.
— Одному тебе не управиться. Весной надо обрабатывать землю пункта, помогать красноармейским и безлошадным дворам.
— Тогда уж конечно, — протянул Ян, как бы разочарованно.
— Попытайся, Ян, — искренне сказал Озол. — Ты не считай, что тебе одному все обдумывать придется Посоветуйся с Ванагом. Мы тоже из уезда почаще наезжать будем. Директор МТС тебе в любое время поможет.
— Тогда конечно! — согласился теперь Ян.
Они вернулись в исполком, и Ванаг начал принимать волостное хозяйство. В преобразованную земельную комиссию вошли Ванаг, Зента как секретарь и Лауск. Вызвали агента по заготовкам Лайвиня и потребовали от него подробный отчет о коде поставок зерна, масла и мяса. Никакого отчета у Лайвиня не оказалось, лишь на отдельных клочках у него было записано, кто сколько сдал. Он не мог также сказать, сколько каждому следовало едать.
— Послезавтра чтобы все отчеты были у меня на столе! — строго сказал Ванаг. Лайвинь, покраснев, вышел.
Озол направился осматривать местечко. Первое, что ему бросилось в глаза, это были красиво сделанные витрины с написанными от руки сводками Информбюро. «Молодцы, девушки!» — мысленно похвалил он Зенту и Мирдзу. Рядом со сводкой красовался написанный цветными карандашами плакат, приглашавший молодежь на доклад учителя Салениека на тему «Воспитание характера». «Любопытно, с чего они начинают, чуть ли не с «вечной темы», которая подходит во все времена и при любой власти. Уж не отложил ли философ Салениек свой экзамен на советского человека до окончательной нашей победы в войне, чтобы уж тогда выступить со своими убеждениями, — иронизировал Озол. — Надо бы поговорить с этим человеком, посмотреть, насколько искренним было его желание приобщиться к советской жизни».
Озол нашел Салениека в учительской. Салениек, смущаясь и избегая взгляда Озола, то смотрел в пол, то перелистывал лежавшие на столе тетради. Только через некоторое время он справился с собой и сказал:
— Вас, наверное, удивляет, что встречаете меня здесь, а не на фронте, куда обещался пойти? Если бы я был на вашем месте и услышал рассказ о таком человеке, как я, то мне показалось бы невероятным, что человек, имевший твердое намерение что-то сделать, в решающий момент уходит с поля, говоря спортивным языком, и упускает возможность добиться уважения в глазах своих и общества. Я бы не поверил, что прошлое человека и воспитание могут оказаться камнем, привязанным к его ногам.
— Это вам надо учесть в своей педагогической работе, — заметил Озол.
— Я это учитываю, — ответил Салениек, впервые посмотрев Озолу прямо в глаза. — Может быть, вы видели объявление о моем докладе? Тема весьма обычная, ее можно развить с чисто психологической, даже с идеалистической точки зрения. Я решил иначе. Мы с вашей дочерью долго беседовали о том, как вообще заинтересовать молодежь лекциями. Мирдза сама перед тем провела нечто вроде опроса. Многие из молодежи считают политические темы скучными. Воспитание характера, напротив, привлекло почти всех. Все же ставлю себе задачу — связать эту кажущуюся аполитичной тему с политикой. Хочу рассказать прежде всего о двух мирах, о фашистском и о социалистическом мире, о разложившемся, дегенерирующем фашисте и о возвышенном, самоотверженном советском человеке. Моральные качества советского человека я хочу показать как образец, по которому должен формироваться характер молодых людей.
— Задумано хорошо, — одобрил Озол.
— Да, задумано неплохо, и полагаю, что прочту хорошо. Надеюсь также, что молодежь воспримет это хорошо. Только меня самого, когда я готовил доклад, какой-то червь грыз и как бы издевался надо мной: «Ты точно пастор: внимайте моим речам, но не зрите на мои деяния».
— У вас тяга к самоистязанию, — улыбнулся Озол.
— Как у монаха, — с горькой усмешкой добавил Салениек.
— Но было бы значительно хуже, если бы вас ничто не беспокоило. Это не дает вам превратиться в самодовольного, обросшего слизью мещанина, — успокаивал его Озол.
— Вот именно этого я больше всего и боюсь! — воскликнул Салениек. — Иногда мне кажется, что меня все же связывают старые родственные узы с этим почтенным господином. В решающие минуты жизни это родство действует атавистически — не хватает сил для осуществления своих намерений. Так это было и осенью, когда мне, возможно, благодаря случайности, предложили место директора школы и бронь от мобилизации. Будь вы здесь, мне было бы стыдно отказаться от того, что я говорил при встрече с вами.
— Выходит, в конечном счете, что в ваших внутренних терзаниях повинен я? — шутливо заметил Озол.
— Объективно говоря, ни один человек не может винить другого, даже если тот активно влияет на него. Где же тогда характер, самостоятельный выбор пути? И все же часто человек, даже без непосредственного воздействия, может направить жизнь другого в ту или иную сторону. Хотя бы, влияя как катализатор, только одним своим присутствием. Если рядом стоит великан, хочется равняться по нему, так как стыдишься своего ничтожества. Я говорю о тех, которые хотят следовать за кем-нибудь, так как сами беспомощны, как хмель без подпорки.
— Но ведь есть выдающиеся личности и настоящие великаны, идеи которых могут послужить опорой, хотя их самих и нет вблизи, — напомнил Озол. — Есть, наконец, литературные герои, увлекающие своей моральной силой.
— Несомненно, так, — согласился Салениек. — И все-таки не у каждого хватает фантазии, чтобы разговаривать с ними, как с реальными собеседниками. Другое дело — если на тебя смотрят глаза, которые словно видят насквозь, проникают в самые тайники души.
— Значит, я был вашим духовным отцом. — Озолу хотелось закончить этот разговор. — Меня интересует, как вы думаете справиться с вашим «червяком»?
— Я благодарен вашей дочери за то, что она направила меня на верный путь. Насколько смогу, буду бороться против занесенной фашистами нечисти, духовной тупости, религиозного мракобесия. Может быть, сама жизнь подскажет, как это лучше сделать и как быть полезным.
Озол, выйдя на улицу, подумал: «Не послышалась ли Салениеку в моем замечании ирония. Странно с такими людьми — хотят как будто идти с нами в ногу, но устают, садятся отдохнуть и обождать, пока другие проложат дорогу. Ждут, чтобы с ними нянчились, подбадривали, успокаивали. Они, как тепличные растения, которые при более резком ветре увядают. Но что же поделаешь? За один час, или даже год, человек не может переродиться. У Салениека, по крайней мере, есть честное желание преодолеть прошлое, он боится стать мещанином, может, он со временем закалится. Он сделал переоценку прошлых ценностей и отвернулся от них, ему остается обрести новое содержание. А ведь сколько еще есть интеллигентов, которые даже на словах не хотят признать, что уцепились за ложные убеждения, и упрямо продолжают их вбивать в головы своих воспитанников. Трагично для нашей молодой республики, что временно приходится терпеть таких тупиц, потому что прогрессивную интеллигенцию уничтожили фашисты. Мы даем им время опомниться, но если они этого не сделают, то потом пусть пеняют на себя».
Местечко уже окутывали густые сумерки. Озол увидел Пакална, ехавшего неторопливой рысцой, и попросил его немного подвезти.
— Что нового в волости? — спросил он, чтобы начать разговор.
— Новый житель появился! — весело отозвался Пакалн. — Вчера родился внук. Сегодня отвозил повивальную бабку. Сразу веселее стало дома! Совсем другое дело. Мне теперь надо переходить на новую должность. До сих пор был уполномоченным десятидворки, теперь буду няней. Назвали твоим именем — Юрисом. Пусть растет таким же порядочным человеком, как ты.
— Спасибо, спасибо, — улыбался Озол. — Только расти его так, чтобы к весне стал на свои ноги.
— Весна-то меня пугает, — озабоченно сказал Пакалн. — У меня самого уже семь десятков за плечами. У Альбины будет держаться за подол маленький Юрис. Как справиться с севом? Теперь, правда, немца лупят и в хвост и в гриву, может, к тому времени Юлис уже вернется.
— Это возможно, — ответил Озол. — А если не успеет, ты, как отец красноармейца, можешь заключить с МТС договор.
— Боюсь я пускать на свое поле эти машины, — махнул Пакалн рукой. — Вывернут мертвый слой наверх, и расти ничего не будет. Теперь ведь агрономы рекомендуют глубокую вспашку. Эти господа в городе все выдумывают. Мы же всему от земли учимся. Нам сама природа говорит, когда сеять ячмень, когда сажать картошку.
— Природа очень скупа к нам. Поэтому человек старается взять от нее больше, чем она дает добровольно. Скрещивает новые сорта и заставляет расти хлеб и картофель на далеком севере, где раньше об этом и не мечтали. То же самое и со вспашкой земли. Вспашешь поглубже, удобришь и вскоре увидишь, как земля отблагодарит.
— Я этой благодарности уже не дождусь, — покачал головой Пакалн.
— Зато Юрис тебя помянет — каждое поколение должно передавать своим наследникам землю лучше возделанной, чем получило от отцов.
— Не будь этой войны, тогда все было бы по-другому. — Пакалн помрачнел. — Теперь — поля заросли сорняками, лошадей и скотину забрали немцы, людей угнали с собой. У многих даже крова нет. Вот и я думаю — вдруг с моим Юлисом что-нибудь приключится. Дома-то я этого не говорю, наоборот — утешаю Альвину, когда она плачет. А как призадумаюсь ночью — мне ведь, старику, не спится, — так страшно делается; как она одна с маленьким ребенком проживет, если Юлис не вернется, а меня костлявая позовет?..
— Вот тут-то Альвине и помогут машины, которые ты только что хаял, — заметил Озол.
— Что ж, вообще-то я ведь не противник машин, каким был мой отец. Как он охал, когда впервые привезли на двор молотилку, — вспоминал Пакалн.
— Как бы ты не заохал, когда на твои поля приедет трактор, — рассмеялся Озол. — Чем больше машин, тем легче жизнь.
— Это правда, — согласился Пакалн. — А все-таки как-то боязно заводить что-нибудь новое на своем поле. Хочется сперва посмотреть, как пойдет у других.
— Так обычно бывает. При немцах вас тут пугали колхозами. Рассказывали всякие страхи, изображали их вроде каторги, — заметил Озол.
— Еще и нынче стращают. Говорят, как кончится война, так — пой или плачь — заберут у всех землю и скотину и дома в кучу сгонят. Но скажи по душам, — Пакалн наклонился ближе к Озолу, — как же на самом-то деле будет? Стоит ли еще стараться?
— Вы, крестьяне, совсем не так воспринимаете колхозное дело, — вспылил Озол. — Словно Советское правительство собирается загонять вас в колхозы, досаждать вам и обижать неизвестно за что. Во-первых, в колхозы никого не гонят. Во-вторых, объединяются потому, что общий труд делает жизнь более легкой.
— Ново это для нас, потому и пугает, — перебил его Пакалн. — Если бы мы своими глазами могли все это посмотреть, убедиться, что так лучше, то не стали бы и спорить.
— Вот кончится война, поезжайте, посмотрите, — посоветовал Озол. — Теперь нас от русских и других советских народов уже не отделяет китайская стена. Только стены лжи еще не разрушены. У тебя самого сестра и шурин работают в колхозе. Напиши, может, съездишь погостить. Если землю как следует обрабатывать, то она не может не родить, — пояснял Озол.
— Это верно! Лентяю дай огородную землю, у него и там ничего не вырастет. Как вот, к примеру, у нашего Калинки. И зачем только вы его допустили к общественному добру? — сердился Пакалн.
— Мы его уже прогнали, — сообщил Озол.
— Вот это правильно, — обрадовался Пакалн. — Я уже давно думал, нашелся бы кто да рассказал бы тебе, разве сам ты его не знаешь?
— А ты не мог приехать или написать?
— Куда мне, — протянул Пакалн. — В жизни никогда ни на кого не жаловался.
Они миновали Рубенский лес. Озолу надо было слезть.
— Но ты все же подумай о тракторах-то, — Озол на прощанье крепко пожал старику руку. — И запомни — ни тебя, ни кого-либо другого силой в колхоз не потащат. Но я думаю, что со временем вы сами захотите работать сообща.
Озол шагал вдоль опушки леса и думал, как трудно расшевелить такого крестьянина. Торчит на своем клочке земли, словно обомшелый камень. Новые мысли, новые речи о другой, более полноценной жизни не доходят до него, ибо в нем укоренились старые привычки, от тихого течения жизни рассудок и чувства стали вялыми.
Взять того же Пакална. Он во всех отношениях порядочный человек, весь век был в хомуте, как рабочая лошадь, но попробуй облегчить ему жизнь. Он не желает нам, большевикам, зла, но помочь активно, сообщить хотя бы о непорядках, которые он видит и которые ему самому не нравятся, — нет, нет, только не это — ведь он не пойдет «жаловаться на другого».
«А все-таки сегодня не стерпел и пожаловался! — усмехнулся Озол. — В будущем не надо ждать, пока вот такие честные старики придут к нам, следует самим почаще навещать их. В разговоре они незаметно для себя выложат всю правду».
Он приближался к своему дому. В окне мерцал слабый огонек, но Озолу стало от него теплее. Собачонка выскочила из конуры и залаяла, но затем узнала — осенью она несколько раз видела его и запомнила, — от радости повизгивая, ткнулась к нему.
— А, признаешь! — Озол погладил собачонку, потом постучал в дверь. Послышались быстрые, легкие шаги. — Наверное, Мирдза. — Но он ошибся — дверь открыла Ольга, предварительно спросив, кто там.
— Юрис! — воскликнула она, и по звуку голоса, не видя в темноте лица жены, Озол узнал свою прежнюю Олю. Он крепко обнял ее и поцеловал, словно отдавая долг, который оставался за ним со дня первой встречи.
Мирдза сидела в комнате у стола, заваленного книгами. Маленькая коптилка освещала раскрытую книгу. То была алгебра, которую она изучала, делая пометки в тетрадке.
— Вот так и сидит до поздней ночи, — жаловалась мать, но не без гордости. — Испортит еще глаза, будет тогда ходить очкастой. Я уж шучу, кто ее возьмет такую, но она уверена в себе, словно ей нечего беспокоиться.
Озолу понравилось, что Ольга обрела прежний юмор, который раньше был привычен в их семье и между ними, и в отношениях с детьми.
Позже, когда Мирдза ушла в свою комнату, Озол сказал Оле:
— Тебе Мирдза рассказывала? Кажется, у нее с Эриком серьезная любовь.
— Я заметила кое-что, но сделала вид, что ничего не знаю, раз сама не рассказывает. Молодежи нравится играть в прятки. Только мне кажется — пустоцвет это.
— Почему ты так думаешь?
— Они слишком неодинаковы, — рассуждала Ольга. — Мирдза — неспокойная птица. Ее в гнезде не удержишь. А Эрик такой, что все дома бы сидел.
— Говорят, что противоположные полюсы взаимно притягиваются, — улыбнулся Озол.
— На короткое время. Для совместной жизни нужно больше сходства, — продолжала Ольга. — Но я не вмешиваюсь. Наставления тут не помогут. Мирдзу я знаю — пусть она стремительная, но опрометчивости не допустит, жизнь себе не испортит. Она достаточно разбирается в людях. Теперь взялась серьезно учиться.
Ему захотелось встать и сейчас же что-нибудь сделать, созвать людей, осмотреть мельницу. Но темнота за окном упорно не рассеивалась.
Утром, только начало светать, Озол вышел из дома. В исполкоме он, ожидая людей, беседовал с Зентой и Ванагом.
В канцелярию впорхнула улыбающаяся девушка в коричневом лыжном костюме. На аккуратно зачесанных темных волосах неизвестно каким чудом держалась изящная шапочка. Девушка собралась было крикнуть Зенте что-то веселое, но вдруг увидела чужого человека, Озола, — с Ванагом она успела познакомиться уже вчера вечером, — и сразу преобразилась. С лица улетучилась веселость — оно стало робким, глаза приняли невинное и испуганное выражение застенчивого ребенка.
— Простите, я вам помешала, — сказала она, сжав едва заметно накрашенные губы, и хотела уйти.
Озол задержал ее. Это, видимо, Майга Расман, догадался он, и если она в самом деле была такой, как он думал, то стоило присмотреться к девушке поближе.
— Вы, наверное, занимаетесь спортом? — поинтересовался Озол, чтобы завязать разговор. — При вашей профессии это в самом деле очень полезно. Может, вы даже рекордсменка?
— Нет, до этого мне еще далеко, — улыбнулась Майга. — Я всего лишь начинающая.
— Но, может быть, инструктор? У вас в волости, наверное, организована целая команда таких жизнерадостных девушек, как вы? — шутил Озол, с показным восхищением рассматривая ее шапочку.
— Пыталась организовать, но сельскую молодежь трудно заинтересовать спортом, — пожаловалась Майга. — Вот, например, товарищ Зента, — она игриво посмотрела на нее, — засиделась в канцелярии, и я не могу уговорить ее пробежаться по лесу на лыжах. Конечно, виноваты и послевоенные трудности, — Майга перешла на серьезный тон, — у многих нет ни обуви, ни костюмов. Оккупанты обобрали наш народ до последней рубашки.
— Как же вам удалось уберечь от них такой прелестный костюм? — наивно спросил Озол, почувствовав в последних словах Майги фальшь, а не ненависть к фашистам.
— Земля уберегла, — находчиво ответила Майга. — Она же и мой комсомольский билет сберегла.
— Значит, вы из старых комсомольских кадров? — удивился Озол. — При нынешнем недостатке людей, право, грех держать вас на такой скромной должности. Я предложу, чтобы вас перевели в город на более ответственную работу.
Он заметил, что Майга внутренне насторожилась, — такая перспектива ей, очевидно, не нравилась.
— Я очень люблю именно свою работу, — поспешила она ответить. — До войны я окончила курсы телефонисток, но война не дала сбыться моим мечтам о любимой работе. И теперь, когда все исполнилось, я ни на что не променяла бы ни мою работу, ни этот тихий уголок.
— Что же в вашей работе интересного: нажать кнопку, крикнуть «алло, алло» — и все. А мы, заказывая разговор, даже иногда ругаем вас, совсем не зная, какое прелестное, преданное работе существо изо всех сил старается поскорее связать нетерпеливых абонентов. — Озол, улыбаясь, смотрел на Майгу.
— Не льстите, гос… товарищ Озол! — кокетливо воскликнула Майга, покраснев из-за своей обмолвки. — С вами так интересно беседовать, — наклонив голову, она сквозь ресницы посмотрела на Озола, — но, к сожалению, меня ждет работа.
— К сожалению? — подхватил Озол. — А мне показалось, что я чуть ли не преступно отрываю вас от интересной и любимой работы?
— На этот раз — к сожалению! — вздохнув, сказала Майга приглушенным грудным голосом и с проворством газели бросилась к дверям. Оттуда она еще раз оглянулась, лукаво посмотрела на Озола и весело крикнула ему:
— Если у вас есть желание поговорить по телефону, то мой адрес: за этими дверями, третья комната направо!
Озол прочел на лицах Ванага и Зенты недоумение. «Наверное, думают, что товарищ Озол на старости лет рехнулся». Ему стало смешно. В искусстве кокетства она ничего нового не изобрела. Все заимствовано из архива буржуазных барышень.
В сенях хлопнула дверь, затопали ногами, обивая снег. Вошли Гаужен и Лауск, они предложили поехать на мельницу. Все уселись в сани Гаужена, и гнедая лошадка размеренной рысцой повезла их через местечко. Всюду еще виднелись развалины, напоминая о жестокости и варварстве врага.
Они подъехали к мельнице, заброшенно стоявшей на берегу реки; ни тропинки, ни колеи не вело к этому ранее оживленному месту — гнедая даже повела ушами, когда Гаужен повернул ее на снежную целину.
Они прошли через шерсточеску, где стены были разбиты, а обломки машин занесены снегом. Здесь не так-то было просто восстановить разрушенное. Но помещение мукомольни не пострадало, — возможно, у громил не хватило взрывчатки или же они не успели ее использовать.
Потом осмотрели машинное отделение. Никаких бросающихся в глаза повреждений не было. Если у машин не хватало каких-нибудь деталей, то без специалиста этого установить они не могли.
— Мельница зарокочет во что бы то ни стало! — пообещал Ванаг.
Решили заодно осмотреть и коннопрокатный пункт, где еще хозяйничал Калинка. Это был жалкий домишко, вокруг не было ни забора, ни сада, ни деревьев. Кухню наполнял едкий дым, полуразвалившаяся плита не тянула. Жена Калинки, вытирая слезы, хлопотала у плиты. Когда вошедшие поздоровались, она неловко вытерла фартуком испачканные сажей руки, затем провела ими по лицу, оставив на щеках черные полосы.
— Что здесь за коптильня? — воскликнул Ванаг.
Элиза Калинка подошла к нему вплотную и пристально посмотрела в лицо.
— Боже мой! — воскликнула она. — Да это ведь Петер! Вот тебе и раз — кричат нынче в этих газетах, что немцы, мол, такие, немцы — сякие. Говорили, что и Ванага замучили. Оказывается, не так уж страшно было.
— Кто это говорит, что было не страшно? — спросил Ванаг, шагнув к Элизе. — Кто это говорит? Пусть взглянет на мою спину.
— Ну, что там спина, благо сам остался жив, — ответила Элиза. — А что сделали с матерью твоей… Старого человека… Вот это ужасно!
Услышав разговор, в кухню поспешил Калинка.
— Слышу, как будто гости, — начал он и, узнав пришедших, засуетился. — Проходите сюда, прошу, покорно прошу! Жена, ты тоже, как курица, раскудахталась — заставляешь гостей стоять в таком чаду!
— Пусть посмотрят, в какой копоти приходится жить, — говорила Элиза, идя сзади. — Дом-то ведь теперь государственный. А мы сами — на государственной службе. Пусть видят, как мы тут мучаемся.
— Молчи, молчи! — успокаивал ее Калинка. — По теперешним временам хорошо, если хоть крыша над головой.
— Много у тебя этой крыши, — не унималась Элиза. — Я говорю, дом отдали, ничего не пожалели, а исполком и пальцем не шевельнул.
— Шевельнем, завтра же шевельнем, — сказал Озол, думая о том, что еще вечером надо позвонить
директору МТС, чтобы немедленно убрал Калинку.
Комната Калинки скорее напоминала сарай, чем жилое помещение. В углах валялся всякий хлам, лежанка была застлана старым тряпьем. В одном углу стояли покрытые брезентом мешки. Сколоченный из досок некрашеный столик был придвинут к подоконнику. С картами в руках за столиком сидел молодой парень. Перед ним стояла бутылка самогона и щербатая тарелка с ломтями хлеба и плохо очищенным луком.
— Прошу, прошу, — приглашал Калинка, не зная, куда усадить гостей, так как в комнате были только стул, на котором он только что сидел сам, и табуретка, занятая парнем.
— Освальд! Пусти гостей к столу, — крикнул он и заметался по комнате, ища, на что бы сесть. Не найдя, махнул рукой и схватил бутылку.
— Покорно прошу, наверное, замерзли, надо согреться, — предлагал он, наливая водку в замызганную рюмку.
— Мы не в гости пришли, — сказал Озол, отстраняя поднесенную рюмку. — Вот новый председатель волостного исполкома товарищ Ванаг хочет познакомиться с коннопрокатным пунктом.
— Как, разве Яна Приеде сместили? — испуганно удивился Калинка. — Право, жаль. Такой хороший человек. Как же это так?
— Правильно. Человек он хороший и будет работать на другом месте, — спокойно ответил Озол. — А теперь пойдем в конюшню, покажи нам лошадей.
— Ну, ну, куда же так торопиться, — пытался Калинка удержать их. — Петер, выпей за встречу! — он пытался сунуть Ванагу в руку рюмку.
— Оставь! — недружелюбно отказался Ванаг. — Не привык. В тюрьме немцы заставляли меня из плевательницы пить.
— Тем более надо горло прополоскать, — не к месту вставил молодой парень.
— Пошли! — предложил Озол.
— Да там еще и смотреть нечего! — сказал Калинка, ища шапку. — Не успели еще устроить. Вот только думали по-настоящему взяться.
Озол ожидал увидеть жалкое зрелище, но не мог себе представить, что оно будет настолько жалким. В конюшню, сквозь дырявую крышу, просвечивало бледное зимнее солнце. Здесь на мерзлом навозе стояли семь лошадей и вяло терлись мордами о пустые ясли, время от времени касаясь губами замерзшей воды. Три лошади были больны чесоткой, они стояли скрючившись, понурив головы и свесив уши. У всех лошадей заметно выпирали ребра и крестцовые кости.
— Это же преступление! — почти простонал Озол, стиснув зубы.
— А что я могу поделать? — оправдывался Калинка. — Где мне на починку крыши взять, из своего кармана, что ли? Государство не заботится.
— Скотина этакая, что ты наделал? — закричал Ванаг. — Знаешь, такого, как ты, надо дубиной лупить, и весь разговор! Когда ты в последний раз кормил лошадей?
— Освальд, когда ты кормил? — спросил Калинка своего помощника. — Сегодня утром уже давал?
— Нет, хозяин, не давал, — покачал тот головой.
— А вчера вечером? — спросил Ванаг.
— Ей-богу, забыл, — признался парень, почесывая затылок. — Многовато опрокинули с хозяином. Ноги подкашивались. Подумал, как же я полезу наверх за сеном? Можно еще убиться. Человеческая жизнь дороже стоит, чем вся эта скотина.
— Жизнь негодного человека выеденного яйца не стоит, — резко ответил Ванаг. — Подобрался, кулачуга, к чужому добру, как мышь к горшку со сметаной.
— Покажите, сколько у вас фуража, — потребовал Озол.
Парень открыл дверь в сарай. Он был до самой крыши набит клевером и сеном.
Тут и Гаужен не мог оставаться безразличным:
— И вам обоим не стыдно морить лошадей голодом!
Тем временем Лауск открыл хлев, где стояли лошадь и две коровы Калинки. Лошадь спокойно хрупала клевер, которым были набиты ясли. Коровы лежали и жевали жвачку, зарывшись почти по уши в сухом сене. Это были два мира, отличавшиеся друг от друга так же резко, как когда-то хозяйская половина отличалась от батрацкой. Разгадка была очень проста — частное имущество и народное имущество.
— Немедленно дайте лошадям клевера! — приказал Петер, и Калинка с парнем бегом кинулись в сарай. Лошади так жадно набросились на корм, что конюх даже вскрикнул: лошадь схватила зубами его за руку.
— А где у вас лежат запасы овса? — спросил Ванаг.
— Мало нам дали, — невинно пояснил Калинка, словно ничего не произошло. — Там в комнате вы видели мешки. — Одним глазом он покосился на Озола, не захотят ли грозные контролеры проверить. Но никто не пожелал возвращаться в комнату, от одного вида которой мутило еще и теперь. Они сели в сани и, не простившись, уехали.
— Надо бы еще сегодня перевести лошадей в имение, — заговорил Озол, подавленный мрачным зрелищем.
— Это мы можем сделать, — энергично сказал Ванаг. — Поедем, вышвырнем из имения этих мародеров, а вечером переведем лошадей и переправим часть корма.
Розалия Мелнайс устроилась в замке бывшего имения со всеми удобствами, превратив замок в хлев. В прачечной кудахтали куры, в большой кухне, где раньше только готовили свиньям пищу, теперь обитали свинья и две овцы. Только коровы и лошади стояли в конюшне. Огромный ценный ковер украшал пол кухни, ибо Розалия «не желала, чтобы на крашеный пол таскали снег и грязь». Шахматный столик служил для кухонных надобностей и выглядел так, словно его царапали когтями десятки кошек. На низком, разукрашенном серебряными инкрустациями столике во всем своем величии стояло бельевое корыто. Изразцовая плита была в пестрых подтеках и пятнах, лишь кое-где сохранив следы былой белизны. В кухню также была вынесена обтянутая синим узорчатым шелком тахта, изголовье которой успели засалить жирными волосами, а изножье запачкать грязными сапогами.
В комнате прежде всего привлекал внимание рояль, его черная лакированная крышка была превращена в универсальный склад. В комнате было прохладно, и поэтому здесь стояли ведерки с грибами, кадки с солеными огурцами, остатки обеда и мешки с мукой. От рояля через всю комнату — к двери и в кухню — по светлому паркетному полу пролегла черная наслеженная тропинка. Не повезло и круглому дубовому столу: горячие миски и капли похлебки расписали его темную поверхность замысловатыми узорами.
— Это же прямо вандализм! — вздохнул Озол. — Почему вы не живете в своем доме? — спросил он Розалию.
— Разве бедному человеку нельзя теперь в замке пожить? — ответила она вопросом, подбоченившись. — Кто же тут будет жить — какие-нибудь новые буржуйчики?
— Я думаю, что нам тут нечего спорить или рассуждать, — сказал Озол, сдерживая возмущение. — Вы немедленно соберите все, что вам тут принадлежит, и перебирайтесь в свой дом.
— Вы не имеете никакого права выгонять нас! — запротестовала Розалия. — У нас есть бумага. Погоди, погоди, куда Эйдис ее задевал? — Она забегала по комнате в поисках этой бумажки. Затем, выбежав на порог кухни и увидев мужа, который как раз подходил к двери, крикнула:
— Эйдис, Эйдис! Где у тебя та бумага? Куда ты запрятал?
— Какая бумага? — не понял тот.
— Ну, эта. От господина Циммермана, — нетерпеливо объяснила Розалия. — Бумага, в которой он завещал нам свое имущество.
— Ах, эта, — спокойно ответил Эйдис, — она на рояле.
— Заходи живей! — приказала жена, размахивая руками. — Тут всякие понаехали и хотят нас выбросить.
В комнату вошел Эйдис, рослый, плечистый мужчина, в полушубке, крытом домотканым сукном, и в высоких сапогах. Он преувеличенно вежливо поздоровался с приезжими и недоуменно посмотрел на них.
Тем временем Розалия нашла «бумагу» и, помахав ею в воздухе, сунула Озолу под нос, непрестанно повторяя:
— Вот она! Вот она! Ну, видите! Читайте!
Озол взял бумажку и посмотрел. Это была написанная на немецком языке справка о том, что Маргер Циммерман на время своего отсутствия доверяет управление всем своим движимым и недвижимым имуществом Эдуарду и Розалии Мелнайсам. То, что это действительно так, было заверено печатью какой-то немецкой воинской части. Озол перевел справку на латышский язык, и Ванаг громко расхохотался.
— Наколите ваш документ на гвоздь в нужнике. Только для этого годится эта немецкая бумажка полунемецкого господина.
Словно опасаясь, как бы Озол не поступил с ее бумагой, как советовал Ванаг, Розалия вырвала ее у него из рук.
— Я ведь говорила, чтобы писал по-латышски или по-русски! — накинулась она на мужа.
— Да, но иначе штурмфюрер не соглашался печать поставить, — оправдывался тот.
— Документы немецкого времени — нам не указ, — решительно заключил Озол. — У вас есть своя земля и свой дом, идите туда и живите!
— Дорогие господа, пожалейте наших деток! — громко запричитала Розалия. — У нас там только одна комната, а мальчики уже подрастают… — она осеклась, двусмысленно улыбнувшись.
— Пристройте еще одну комнату, если надо, но сегодня же вечером в имении чтоб духа вашего не было! — нетерпеливо прервал ее Ванаг. — И свой навоз заберите с собой!
— Навоз непременно возьмем, — бормотал Мелнайс, — как же можно навоз оставить. Но сегодня нам всего не перевезти. Сами видите, как много у нас тут вещей.
— Вещи эти не ваши, — ответил Ванаг, окинув взглядом обстановку. — Увезете ни на иголку больше, чем привезли. Это — народное имущество.
Неожиданно для всех Розалия вдруг бросилась на пол, обхватила сапоги Озола и, разыгрывая истерику, стала умолять:
— Сжальтесь, сжальтесь! Сколько мы из-за этих вещей настрадались! Русские солдаты хотели здесь поселиться. И наплакалась же я, пока не выпроводила их.
— Довольствуйтесь тем, что сами заработали, тогда не надо будет плакать, — холодно сказал Озол, пытаясь высвободить свои ноги.
Розалия покатилась к порогу и закричала еще пронзительнее:
— Только через мой труп вы унесете эти вещи. Шагайте через трупы, топчите мою кровь, вы ведь это умеете!
— Замолчи! — крикнул Ванаг, теряя терпение. — За эту болтовню можешь в тюрьму угодить.
— Рабочий человек, наверное, никогда не посмеет рта раскрыть, — бросился Мелнайс защищать жену.
— Перестаньте разыгрывать комедию! — сказал Озол, которому надоело паясничанье этих жадных людей. — Помещение вы должны освободить, и никакие выходки вам не помогут.
Как и все любители разыгрывать при удобном случае истерику, Розалия, поняв, что игра не поможет, быстро угомонилась. Она встала, отряхнула испачканное платье и заговорила совсем спокойно:
— Нельзя ли все-таки оставить переезд до весны?
— Ладно, самое большое — до завтра, — махнул Озол рукой.
Короткий зимний день уже кончался, все равно перевести лошадей им не успеть. Надо уладить вопрос с назначением нового заведующего коннопрокатным пунктом. Но он тут же пожалел, что дал такое разрешение — перед глазами мелькнули исхудалые, больные лошади, которым еще одну ночь придется дрожать в дырявой конюшне Калинки.
— Но лошадей мы переведем сегодня же вечером, — добавил он. Озол никак не мог забыть тоскливые взгляды голодных и продрогших лошадей, которые как бы жаловались: «За какие грехи нам приходится так страдать?»
— Надо бы найти людей, чтобы переправить корм, — предложил Гаужен.
— Поезжай ты сам, — согласился Озол, — и Яна Приеде захвати.
Гаужен уехал. Трое оставшихся пошли осматривать конюшни. Помещения были просторные и удобные, но необжитые, прохладные.
— Надо принести сухой соломы и подостлать потолще, — решил Лауск. — Пусть лошадки почувствуют, что к ним относятся с любовью. Я позову кузнеца Саулита, чтобы пособил.
Когда Лауск ушел, Ванаг нерешительно посмотрел на Озола, помялся, затем собрался с духом и заговорил:
— Мне хочется на минутку зайти в домишко моей матери. Не мог бы… не мог бы ты пойти со мной?
Озол понял. Петеру было трудно одному зайти в дом, где еще недавно жила его мать, единственный близкий человек, столь трагически погибший от рук подлых убийц.
— Сходим, — ответил Озол тихо.

Всю дорогу до усадьбы Миглы — два километра — Петер не проронил ни слова. Озол видел, как у Ванага высоко и неравномерно вздымалась грудь, словно он задыхался или не мог шагать тем быстрым шагом, который сам взял и все ускорял. Он захватил с собой автомат, своего верного друга в партизанских делах, и время от времени крепко прижимал его к боку.
Когда собака Миглы, прыгая на цепи, пронзительно залаяла, дверь дома распахнулась и во двор вышел сам Август Мигла. Узнав пришедших, он растерялся и невнятно забормотал, но затем что-то сообразил, поднял воротник пиджака, поддерживая его рукой у подбородка. Рыжеватая бородка вздрагивала, прыгала на пухлой, мягкой руке. Было похоже, что он торопится прожевать твердый кусок.
— Господи Иисусе, — выдавил, наконец, Август членораздельные звуки, — пути твоих сынов неисповедимы! Петер! Разве я думал, что еще увижу тебя?
— Ах, не надеялся? — горько усмехнулся Петер. — Потому, наверное, и поторопился надеть мою рубаху.
Мигла убрал с ворота пиджака свою пухлую руку, которой закрывал от глаз Ванага его праздничную рубаху. Челюсти опять застучали одна о другую, и бородка запрыгала, словно он жевал. Она перестала дрожать только после того, как Август нашелся, что сказать:
— Вот тут и не верь в чудеса, — он состроил улыбку, спрятав узкие глаза между жирными мешочками. — Рубаху эту мне твоя мать дала. Вот, говорит, Петер уже больше не вернется, возьми, Август, на память о нем. Все время в комоде лежала — разве у меня нечего надеть? Но сегодня утром не знаю, как это случилось, словно в ушах кто-то жужжал все о Петере да о Петере. Прямо гонит к комоду посмотреть на эту память. И я подумал, видишь, мол, как ты не уважаешь эту память, словно брезгаешь. Думаю, дай надену. Разве это не чудеса — это ведь к твоему приходу было!
— Нет тут никаких чудес, — прервал Петер поток его слов. — Моя смелость и вот это, — он указал на автомат, — спасли меня.
— Петер, друг, и ты, идя ко мне, берешь с собой оружие! — заговорил Август с такой нежной укоризной в голосе, словно упрекал невесту, которая ему не хотела верить.
— Ни одному кулаку я не верю, — отрезал Ванаг. — Волк в лесу, и тот менее опасен.
— Петер, Петер, за что ты меня так? — продолжал Август в прежнем тоне. — Разве я кулак? Всю свою жизнь проповедовал христианскую любовь. — Его голос задрожал на тех же регистрах, на которых обычно дребезжал в доме братской общины.
— В конце концов, я пришел к тебе не в гости, не проповеди слушать, — перебил его Ванаг, поморщившись, — я хочу зайти в каморку моей матери. Ключ у тебя?
— Сейчас, сейчас, — захлопотал Август и засеменил своими короткими ножками к дверям, но затем остановился.
— Войдите же, пожалуйста, Петер, господин товарищ Озол! Так ведь можно замерзнуть. Выпьем по стопочке. За встречу! — тараторил он.
— Пить не будем, — ответил Озол.
— Ах так. Правда, водка вредна, если злоупотреблять. Но — по капельке, изредка, этого никто не запрещает. Сам спаситель в Кане на свадьбе…
— Давай ключ! — нетерпеливо напомнил Ванаг.
— Сейчас, сейчас, — услужливо бормоча, Август вошел в комнату. Он пробыл там дольше, чем требовалось, чтобы взять ключ. Когда, наконец, Август вернулся, в дверь высунула голову его жена и, не глядя на гостей, поздоровалась. Сунув под фартук большой нож и тарелку, она проворно побежала к клети.
— Итак, пойдем, сходим в твой домик, — начал Мигла о торжественным лицом, словно готовясь к отпеванию покойника. — Одно я тебе могу, Петер, сказать — похоронили твою мамочку как следует. Я сам отпевал и дома, и на кладбище. Поминки справили как следует.
— Бедная мать, — тяжело вздохнул Петер. — Некому было уберечь ее после смерти от ханжеского лицемерия.
— Ты с нами не иди, — крикнул он Августу, только теперь сообразив, что тот собирается первым войти в комнату, в которой жила и умерла его мать.
— Ну, если не хочешь, — как бы разочарованно протянул Август. — Хотел тебе только сказать, что часть вещей мы перенесли к себе. Нынче такие времена, что через трубу воруют. Так мы оставшуюся одежду к себе взяли. И кое-какую посуду. Я пойду, покажу тебе.
— Отстань, наконец, сатана! — крикнул Ванаг, сжимая приклад автомата. — Не вещи смотреть я пришел.
— Ах так. Ну, тогда я тебе позже покажу. Все отдам, — твердил Август, пятясь назад.
Ванаг открыл дверь и с Озолом переступил порог. Они вошли в кухню, в бедную закоптелую батрацкую кухню с истоптанным глиняным полом и облупившейся кирпичной плитой, на которой все еще лежали стертая деревянная ложка и надтреснутая глиняная миска. У окна, опираясь на три ножки, стоял некрашеный деревянный стол, ветхий, но чисто вымытый; рядом с ним — такая же табуретка, в углу — несколько помятых ведер, метла, хлебная лопата. На гвозде висели домотканый фартук матери и старая рабочая блуза, которую мать, ожидая сына, аккуратно залатала.
Петер учащенно дышал. Видно было, что его душат рыдания.
— Петер, может, тебе не входить туда… в комнату? — неуверенно заговорил Озол.
Но Петер только махнул рукой. Решительным движением он распахнул дверь. Их глазам представилось зрелище, которое взволновало обоих закаленных солдат, столько раз видевших картины, описание которых могло бы показаться натуралистическим. Посреди комнаты, на добела выскобленном полу виднелась лужица запекшейся крови, которую с одного края кто-то пытался смыть, но затем, очевидно, решил, что не имеет смысла, так как в пористые и трухлявые от времени доски кровь впиталась очень глубоко. С другого края кто-то ступил ногой, а затем у шкафа вытер ее о пол, оставив бурые полосы. Это было все. Но это была кровь матери Петера; в нее ступили ногой, потом подошли к шкафу, чтобы забрать скудные пожитки, и размазали кровь по полу.
Словно сговорившись, оба они одновременно сняли шапки и долго стояли со склоненными головами. Озолу казалось, что Петер в эту минуту дает клятву во что бы то ни стало найти убийц матери и предать их заслуженной суровой каре. Дает клятву до конца своей жизни смело и неколебимо идти по советскому пути и беспощадно бороться с темными силами, которые хотят остановить колесо истории и готовы проливать кровь детей и стариков.
Он не мешал Петеру, не торопил его оставить мрачную комнату, где когда-то Ванаг в бедности, но в согласии жил с матерью, комнату, которая теперь говорила только о том, что жизнь матери трагически оборвалась.
Наконец Петер провел рукой по глазам и повернулся к Озолу. Лицо его было бледным, без единой кровинки. Сухие глаза горели, в них была ненависть, боль воспоминаний о тех днях, когда мать, еще бодрая и жизнерадостная женщина, без устали хлопотала в комнате и всегда с улыбкой встречала сына, возвращавшегося с работы на хозяйском поле.
Что тут можно было сказать, как утешить? Нет таких слов, которые могли бы вернуть умерших или в одно мгновение рассеяли бы боль, причиненную потерей. Молча Озол пожал Петеру руку и по ответному пожатию почувствовал, что Ванаг справился с собой.
Надев шапки, они вышли. Петер замкнул наружные, двери и спрятал в карман ключи. Неподалеку, переминаясь на снегу, их ждал Мигла.
— Пожалуйста, пожалуйста, заходите, — приглашал он обоих в дом, с улыбкой, казавшейся в эту минуту глупой и оскорбительной. — Я уже говорил, лучшие вещички перенес к себе. Нынче ведь такие времена…
— Так верни их, — спокойно и холодно перебил его Петер. — Не хочу, чтобы вещи моей матери попирали ногами, так же как и ее кровь.
— Ах, ты все же заметил? — удивился Август. — Я ведь не нарочно. Не доглядел. Так темно там в батр… в твоем доме.
Они вошли в дом Миглы, где в глаза бросился накрытый стол, с тарелками, бутылками водки, кувшином пива, хлебом и солеными огурцами. Из кухни пахло жареным мясом, и слышно было, как возились с кастрюлями, сковородками и мисками. Отворилась дверь, и хозяйка внесла жаркое. В три ряда были разложены свиные отбивные котлеты. За хозяйкой следовала батрачка с миской вареного картофеля и соусником с подливкой из сметаны.
— Прощу, прошу, господин товарищ Озол. Петер, садись к столу, — приглашал Август, пододвигая стулья. — Нечего стесняться, закусим, чем бог послал.
Озол утром второпях съел лишь кусок хлеба и выпил стакан молока, и при виде вкусных блюд у него разыгрался аппетит. А Петер, наверное, проглотил только кусок хлеба. Но они оба одновременно, даже не переглянувшись, отказались.
— Спасибо, мы не будем есть.
Август начал настаивать, разлил в рюмки водку, подцепил на вилку кусок мяса и повертел им, словно хотел разжечь голод, но гости остались равнодушными, твердо решив не поддаваться в этом доме ни на какие проявления любезности.
— Я жду, когда ты мне отдашь мои вещи, — напомнил Петер, обжигая лицо Августа презрительным взглядом.
— Ах, да! — смутился Август. — Эй, женщины! — крикнул он на кухню, — соберите вещички Ванадзиен… матери Ванага. Петеру некогда.
Важная и обиженная, вошла жена Миглы и стала рыться за печкой. Она вытаскивала поношенную, помятую одежду и складывала ее перед Петером. Затем подошла к шкафу и достала несколько суровых полотняных простыней. Шагнула было к двери в смежную комнату, но потом передумала и сказала:
— Вот это все. Больше у нас ничего нет.
— Как все? — спросил Петер. — А где отрез ткани, что я матери подарил? Где моя праздничная пара? Где одеяла?
— Посуду разыщи, — приглушенным голосом напомнил Мигла жене.
— Что же ты думаешь, — жена сердито сверкнула глазами на Петера, — грабители зря, что ли, убивали? Что было лучшего, то унесли. Ну и возни же с такими старухами.
— Ида, принеси посуду матери Ванага, — крикнул Август батрачке, открыв дверь на кухню.
— Но, хозяин, в ее котле как раз варится болтушка для поросят, — послышался ответ Иды.
— В котле — еда для поросят, из миски, наверное, как раз ест собака, из тарелки — кошка. — Ванаг с усмешкой и словно топором рубил каждое слово. — Я вижу, Мигла, что тебе эти вещички очень нужны. Из христианского человеколюбия мне придется отказаться от материнского наследства, чтобы не обидеть твою скотинку.
— Сейчас, сейчас вычистим, — пытался Август задобрить его. — Что же в этом такого, разве для поросенка варят худшую еду, чем для человека? Ида, живей, живей!
— Хозяин, котел пригорел, пока мы обед готовили, — оправдывалась Ида.
— Ну и пусть остается, пока поросята подрастут, — иронически, но без улыбки ответил Ванаг.
Тем временем хозяйка собрала кое-какую посуду и внесла ее в комнату. Одна миска еще была измазана чем-то мучным, видимо, из нее кормили собаку.
Не сказав ни слова, Ванаг взял миску из рук Миглиене и, размахнувшись, швырнул на пол. Так же спокойно он расколотил у ног хозяйки остальную посуду.
— Так, — сказал он, — теперь вы больше не будете осквернять память моей матери. — А теперь, гадина, — внезапно крикнул он Августу, — снимай мою рубашку! Я тебе никакой памяти не оставлю.
Послушно, как мальчик, Август снял пиджак, стянул с плеч подтяжки, скинул рубаху и остался во всем великолепии своего полуголого тучного тела.
— Папочка, папочка, ты простынешь, — всполошилась Миглиене, — надень бумазейную рубаху.
Она начала рыться в шкафу, открыв только небольшую щель. Кусок белого полотна скатился на пол, она проворно, как паук, схватила его и впихнула обратно.
Ванаг встряхнул возвращенную рубашку. Хотя Август, подстрекаемый неведомым небесным духом, только сегодня утром ее надел, воротничок и манжеты были так заношены, словно две недели терлись о грязное тело.
— Уйдем скорее отсюда, — торопил Ванаг, охваченный непреодолимым отвращением. Быстро завернув одежду в узелок, он вместе с Озолом пошел к дверям.
— Петер! — воскликнул Мигла в отчаянии. — Ты меня отвергаешь, как евангельский Петр отверг Иисуса! — Полуголый, он выбежал за ними в сени и схватил их за руки. — Петер! Господин товарищ Озол! Пожалуйста, не побрезгайте! Здесь хозяйка приготовила для вас сверточек.
Он схватил со столика два довольно тяжелых и объемистых свертка и пытался сунуть каждому.
— Если господь меня благословил, то надо давать и другим. Такова мораль братской общины, — бормотал он.
— Папочка, папочка, ты простынешь, — кричала в отчаянии жена из комнаты. — Надень бумазейную рубаху!
Озол и Ванаг уже были за дверями.
— Не взяли… — беспомощно шептал Август. — Ты видела? Не взяли! Господи Иисусе, вот так человек… — покачал он головой, войдя в комнату. — Не люди, а кремни. Мать, я тебе говорю, господь хочет испытать нас.
Его глаза заволокла пелена страха, но затем они загорелись злобным блеском, и Мигла посмотрел в сторону леса.
— И эта разиня не могла нас во время предупредить из местечка! — сердилась жена, отбрасывая ногой осколки разбитой посуды. — Смотри, какой шум подняли в доме… Ида, прибери!
Кто-то постучал в дверь. Мигла поспешил засунуть рубаху в брюки. То был Рудис Лайвинь, который, отворив дверь, крикнул:
— Хозяин, вам телеграмма!
— Да, телеграмма, телеграмма! — передразнила Миглиене. — Мы уже знаем без твоей телеграммы.
Озол вернулся домой поздно, голодный и усталый. Одновременно обедая и ужиная, он рассказывал Ольге, как они переправляли в имение лошадей и корм. Много шума было из-за корма — Калинка все твердил и божился, что половина принадлежит лично ему. Но весь корм был сложен вместе и, видать, с одного и того же луга. Ванаг велел все перевезти в имение, пусть Калинка жалуется, если хочет. Овес все же, негодяй, наверное, распродал, но Ванаг уж с него взыщет. И зазнается же этот Калинка. Лауск ему заметил: «Ну, наконец-то и тебе, Ян, придется как следует поработать», а тот ему: «Барином родился, барином и помру». Ужасные наглецы все же эти хозяева. И совсем не боятся того, чем других запугивают.
— Я тебе, Юрис, расскажу, что мне Саулитиене шепнула, — говорила Ольга, боязливо оглядываясь на дверь. — Ходят слухи, будто Вилюм Саркалис и сыновья Миглы скрываются в лесу. Никто их не видел, а если и видел, то не смеет рта раскрыть. Слышанное также каждый боится передавать. Разве только близкому другу шепнет на ухо. Юрис, я тебе серьезно говорю — я боюсь за Мирдзу, — она показала на соседнюю комнату. — Мирдза всю осень тут верховодила. Комсомолка. Чуть ночью на дворе какой-нибудь шум, я не могу спать. Сердце колотится, словно из груди выскочить хочет.
— Надо организовать группы истребителей, — решил Озол. — Мирдзе также надо достать оружие.
— Юрис, лучше бы ты взял девочку к себе, — почти умоляла Ольга. — Тогда мне будет спокойнее.
— Может, вы обе переедете ко мне? — пришло Озолу на ум. — Как же ты останешься здесь одна? Мы только и знаем, что покидаем тебя одну.
— Это ничего, что я одна, — успокаивала Ольга. — Если я только уверена, что вы в безопасности. Меня никто не тронет, я ведь все больше дома. Нельзя же свое хозяйство запускать. Вернется Карлен. Он так любит крестьянствовать, на огороде работать, сажать разные деревца и кустики. Пчел разводить. А в городе — одни камни. Но Мирдзе зимой было бы там лучше. Есть свет, сможет больше заниматься. Было бы кому у тебя комнату прибрать, утром и вечером есть подать. Пусть летом возвращается, если хочет, тогда ночи короче и светлее.
Когда Мирдза вошла и услышала предложение матери переехать к отцу, она сразу же представила себе светлые просторы и свободу, которыми она наслаждалась немногие дни в городе. Но радость ее сразу же омрачилась: она увидела мать — одну в зимней тьме, подавленную страхом и беззащитную.
— Нет, мамочка, и не старайся уговаривать, я никуда не поеду, — решительно заявила она.
— Вот, Мирдза, о чем я хотел тебя просить, — вспомнил Озол, — ты, да и Зента, — может, она даже больше, так как постоянно находится в исполкоме, — позаботьтесь тут о Петере Ванаге. Он очень одинок. Перенес пытки и унижения. Вспыльчив, временами не владеет собой. Ему нужно дружеское внимание. А то он как бы покрыт ледяной коркой.
— Мы ее растопим, — обещала Мирдза. — Он ведь комсомолец. Мы увлечем его работой.
— Вы уж сами увидите, как это лучше сделать, — закончил Озол. — Только будьте терпеливыми и чуткими! Одним необдуманным словом вы можете его обидеть.
На следующее утро состоялось заседание новой земельной комиссии. Присутствовал и Озол. Ванаг резко высмеял работу предыдущей комиссии, которая угадывала желания кулаков по их глазам.
— Удивительно, что еще не прирезали земли Саркалиене, Мигле и всей остальной нечисти! — он с упреком взглянул на Лауска.
Тот смущенно теребил усы, ведь он был среди тех, кто позволял Калинке дурачить людей.
— И как хитро кулаки поделили землю, — негодовал Ванаг. — Самой Саркалиене — тридцать гектаров, дочке — пятнадцать и ее родственнику — пятнадцать. Ничего себе хозяйство — в шестьдесят гектаров. Это, конечно, не то, что сто, но зато — чистых, без залежей и заросших кустарником полосок! На них пусть надрывается какой-нибудь новохозяин, пусть поднимает целину — ему к работе не привыкать. Я предлагаю: Саркалиене, как матери шуцмана, оставить восемь гектаров и четвертую часть построек. Родственникам землю не давать. Пусть возвращаются в свою волость. Там лучше знают, что и сколько им полагается.
Зента так и запротоколировала.
— Далее — усадьба Дудума. Пусть ему остаются тридцать, шуцманом и айзсаргом он не был, хотя язык у него, что грязное помело. Но оказывается, что и ему тридцати мало. Еще надо на имя сестры пятнадцать, Сиетниек останется жить у него по-прежнему, разница только в том, что часть земли может быть освобождена от поставок. Предлагаю Сиетниек земли не выделять.
— Но на самом деле работает-то Сиетниек, — вставил Лауск.
— Если она непременно захочет получить землю, мы ей выделим в другом месте. Тогда все будет ясно, — сказал Ванаг.
Затем последовали Думини, Миглы и остальные богатые дворы, где земля также была поделена между родней, а в одном случае даже между мужем и женой, под видом того, что они разводятся.
По поводу заявления Марии Перкон попросил слова и Озол. Он помнил эту семью с сорокового года, тогда она больше остальных радовалась полученной земле и весной обработала все до пяди. Мирдза передавала, что Марию загнали на болото. Он предложил выделить Перкон часть хозяйства Саркалисов с садом и половиной построек.
— Эта женщина заслужила лучшую жизнь, — закончил он. — Она воспитает из своих детей добрых граждан.
— Запротоколируйте, — коротко сказал Ванаг. — Я еще предлагаю усадьбу Калинки в земельный фонд не принимать. Он ее общипал и выдоил, как старую яловую корову, а теперь хочет всучить другому. И здесь вот, — он взмахнул бумагой, — его просьба — выделить ему, как безземельному крестьянину, осчастливившему государство своим хламом, пятнадцать гектаров земли имения вместе с соответствующими постройками. Решение уже приготовлено — не успели только подписать.
Открылась дверь, и вошел кузнец Саулит. Увидев, что помешал заседанию, он хотел уйти, но передумал и поманил Озола, чтобы тот вышел.
— Знаешь, зачем я тебя ищу? — заговорил он, когда Озол вышел к нему в сени. — Вчера я узнал от Лауска, что вы были на мельнице. Ремня там нет. Так вот что: под Новый год зашел я к сапожнику Веверу. А он как раз шьет новые сапоги и подошву прибивает из приводного ремня. Я его спросил — где ты ее взял? Он что-то буркнул. Потом попросил, чтобы я никому не говорил об этом. А меня это все время грызет. Черти этакие, такое добро переводят. Поэтому я пришел тебе рассказать.
— Спасибо, Саулит, что ты за дело болеешь, — поблагодарил Озол.
— Только я попрошу тебя оставить разговор между нами, — умолял Саулит. — С сапожником тоже в ладу жить надо. Иначе босиком находишься.
Подошел агент по заготовкам Лайвинь, старший брат Рудиса. Саулит простился и ушел. Озол приоткрыл дверь и, увидев, что заседание окончилось, предложил Лайвиню зайти. Тот принес с собой пачку бумаг, завернутых в газету, но развернул ее так неловко, что бумажки рассыпались по полу. Лайвинь сгреб их, но они перемешались: он растерянно развел руками и сказал:
— Сегодня ничего не получится. Я вчера всю ночь раскладывал, а теперь — опять каша.
— Нам твоя каша не нужна! — воскликнул Ванаг. — Давай точный список.
— Да ведь у меня было все так сложено, что никакого списка не требовалось, — пытался вывернуться Лайвинь.
— Ты брось шутки шутить! — крикнул на него Ванаг, побагровев от злости. — Чтобы через два часа был список, иначе полетишь к черту!
Лайвинь ушел покрасневший и испуганный.
— Я их терпеть не могу, этих Лайвиней, — объяснил Ванаг, оправдывая свою резкость. — У всей семьи уже издавна воровская слава. А теперь первыми примазались к советской работе. Представь себе, вчера вечером в мою комнату является Рудис — сопляк еще, а в кармане бутылка водки — и говорит: «Приятель, нет ли у тебя папироски?» Дал ему папироску, но сказал, что я ему никакой не приятель. А он опять: «Хо, я тоже почти комсомолец. Почти что принят, только эти девчонки хотят меня пе-ре-вос-пи-тать». Я его выпроводил вон, как козла из огорода. Убирайся, говорю, и с этого вечера ты на работе больше не числишься. Если такого примут в комсомол, то я уйду из организации, — добавил он.
Зента густо покраснела, вспомнив, что она позволила Майге уговорить себя принять Рудиса. К счастью, Мирдза рассказала о нем в городе, и билета ему не дали.
— В комсомол его не приняли, — сказала она, преодолев смущение. Вообще она как бы побаивалась Петера, ее смущала его стремительность, резкость выражений, в то же время привлекало суровое мужество его лица и глаз. Перенесенные страдания избороздили его лоб, а к темные волосы вплели несколько серебряных нитей, делавших его старше своих лет. В присутствии Петера она боялась говорить. Как бы не сказать чего такого, что вызовет у него насмешливую улыбку или резкое замечание, способное обжечь, словно внезапная вспышка скрытого пламени.
Когда Лауск ушел, Озол рассказал Петеру о ремне, из которого сапожник делал подметки. Глаза Ванага загорелись. Он решил немедленно найти оставшуюся часть ремня, не пожелал ждать ни минуты. Вскинув на плечо автомат, он пошел к милиционеру Канепу, чтобы вместе с ним пойти к сапожнику Веверу, жившему на противоположной окраине местечка.
Завидев вооруженных людей, Вевер всполошился. Взглянул на пришедших через очки, потом снял их и, протирая ветошью, посмотрел еще раз. Петер уже был готов поклясться, что ремень украл сам сапожник.
— Мы пришли по довольно неприятному, но серьезному делу, — начал Ванаг, сразу же без обиняков. — У нас имеются достоверные сведения, что вы использовали на подметки приводной ремень. Где вы его взяли?
— Мм… мм… — пробормотал сапожник и надел очки. — Это, так сказать, профессиональная тайна.
— Это — государственное дело, а не профессиональная тайна, — резко ответил Ванаг.
— Мм… но я не имею права выдавать своих клиентов, если мне не велено, — оправдывался Вевер.
— В таком случае мы вас арестуем, — заявил Канеп.
Сапожник испугался не на шутку.
— Этого вы, господа, конечно, не делайте! — стал просить он. — Я не вор и ничего плохого не натворил. Но что же мне остается, если наказано не говорить.
— Значит, вор может вам приказать молчать, а с нами вы считаться не хотите, — прикрикнул на него Ванаг, побагровев от злости.
— Я ведь тут ни при чем, господа, раз мне приказываете, то я скажу, — вздохнул Вевер, поежившись на стуле. — Только об одном прошу — не говорите никому, что я это сказал.
— Кто же, в конце концов, украл ремень? — спросил Канеп.
— Кусок для подошв мне принес господин Мигла, — сознался сапожник. — Только, бога ради, прошу, не говорите.
— Какой величины был кусок? — допытывался Ванаг.
— Ну, такой, — сапожник, показывая, развел руками, — две пары подошв. Сапоги делал. Только не расска…
— Остался у вас какой-нибудь обрезок? — спросил Канеп.
— Нет. Все до последнего кусочка взял. Наказал, чтобы не говорить. Но вы тоже не гово…
— Дело ясное, — перебил Ванаг. — Больше мы вас задерживать не станем. Спасибо за сведения. До свиданья!
— Только не… — все еще упрашивал сапожник, когда они закрывали за собой дверь.
С дежурным подводчиком они поехали к Мигле. Не обращая внимания на стоны Августа и призывы «господа Иисуса» в свидетели его невиновности, они тщательно обыскали весь дом. Но перерыть в сарае всю солому, они, конечно, не могли, больше всего им хотелось найти сапоги, сшитые Вевером. Сапог все же нигде не оказалось, и сколько они ни допрашивали Августа и его жену, те утверждали свое — никаких сапог у них не было, ибо, «если бы они были, то были бы и теперь», так быстро две пары не сносишь, — так они уверяли и оставались на своем. Не помогли ни резкие слова, ни угрозы ареста. Допросили также батрачку Иду, но она вела себя, как человек, которому в самом деле ничего не известно.
Ванаг и Канеп возвращались в местечко угрюмые. Ехали молча, так как в присутствии возчика не хотели говорить о подозрениях — куда могли деваться сапоги и кто их теперь носит. Ванага удручала неудача при обыске. Он представлял себе, как Август будет возмущаться и жаловаться при каждом удобном случае.
В тот день из уезда явился еще один гость — ревизор управления связи. Зелмена, как обычно, не было на месте, он, как и в предыдущую ночь, пил у Калинки и остался у него. Майга Расман старалась сгладить грешки своего начальника, но факты оставались фактами, и Зелмену, которого Рудис Лайвинь успел вызвать «телеграммой» в почтовое отделение, было сообщено, что он от работы освобождается. После такого оборота дел он пошел снова пить, а ревизор позвонил в уезд, чтобы немедленно прислали нового начальника отделения связи.
Свежие порывистые ветры подули над волостью. Озол не сомневался, что они выметут гниль и туман, поднимавшийся над волостью из каких-то глухих и вязких болот.
Перед отъездом в соседнюю волость Озол, прощаясь с Ванагом, вспомнил то, что забыл сказать, когда переправляли лошадей в имение.
— Ты не забудь Гаужену и остальным засчитать по наряду за то, что они нам помогли. А землемера мы тебе пришлем в ближайшие дни, — пообещал он, обернувшись, когда уже сел в сани.
17
ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА
Когда Эмма Сиетниек получила извещение о том, что решение о выделении ей пятнадцати гектаров из владений брата отменяется, она заплакала, как ребенок, жалобно и отчаянно. Густ взял из рук сестры листок бумаги, так расстроивший ее, прочитал и зло усмехнулся.
— Видишь, Эмма, как недолго ты радовалась! Плясала под дудку большевиков, вот и доплясалась. Чего хнычешь, как дурная. Разве я тебя гоню? Живи, как жила, и сыта будешь.
Но Эмме вовсе не хотелось удовлетвориться тем, что будет сыта. Она больше не могла видеть, как дети растут боязливыми, пугаясь злых взглядов и резких окриков, на которые Густ не скупился. За столом они ели воровато, ибо им давали понять, что они живут на чужих хлебах. За одежду, которую мать шила для них из своих или хозяйских обносков, надо было благоговейно благодарить дядю. Получи она свою землю, осуществилась бы давнишняя мечта — Эмма понемногу избавилась бы от опеки Густа. Вначале было бы трудно совсем порвать с этим домом: инвентаря своего нет, поэтому в первый год и плуг и косу пришлось бы просить у брата и за все, разумеется, потом отрабатывать.
Но уже первый урожай сделал бы ее более самостоятельной, а ведь урожаи снимались бы каждый год, с каждым годом дети становились бы более сильными работниками, и, наконец, они построили бы и свой дом и перестали бы нуждаться в подачках Густа.
А теперь об этом нечего было и думать. И за что ее так обижают, за что? Разве она мало работала, разве не испытала горечи батрацкой жизни? Или, может быть, потому, что она сестра Дудума? Она пойдет в исполком и спросит Ванага — почему он так поступил? Расскажет о своей жизни, и неужели он не поймет, что если землю делят, то и ей полагается, раз родители были так несправедливы и не дали ей надела.
Эмма вытерла слезы, оделась как могла лучше и пошла. На большаке она столкнулась с Яном Приеде, который тоже направлялся в местечко. Слово за слово — и она рассказала ему о всех своих невзгодах.
— Н-да, — сочувственно протянул Ян. — Это нехорошо. Но что поделаешь? — спросил он немного погодя и сам же ответил. — Придется жить, как раньше жила.
— Нет! — воскликнула Эмма. — У этого старого хрыча больше жить не хочу. Будь что будет, ни мне там покоя, ни детям. Эдвин у меня очень читать любит. По субботам обычно берет у учителя книгу, чтобы в воскресенье почитать. Но разве Густ даст? Перелистает все, и, не дай бог, если где-нибудь найдет слово «коммунист». Поднимает такой крик, что оглохнуть можно. Однажды со злости даже книгу в угол швырнул. Мальчонка плакал, жаловался — как я учителю такую потрепанную книгу отдам.
— Н-да, — проворчал Ян, и опять оба замолчали.
— Ты любишь лошадей? — спросил он, когда они уже успели пройти порядочное расстояние.
— Как — лошадей? — не поняла Эмма.
— Ну, нравится тебе ухаживать за ними?
— Отчего же? Лошадь ведь почти как человек. Особенно — жеребят маленьких люблю. Они такие нежные. Мордочки мягкие, как бархат.
— Тогда идем в имение к лошадям. На пункт работницей, — добавил Ян. — У меня там уже есть один, из армии вернулся. Но директор говорит, что нужны еще люди. Летом будет много работы. Нам и коров дадут, свиней надо будет откармливать. Все поля нужно засеять. Женщина на пункте очень понадобится. Там работы хватит. И тебе дело найдется и детям.
— Что же там, на пункте-то, и жалованье платят? — поинтересовалась Эмма.
— Ну да, платят! И жить в баронском особняке будешь. А лошадям хорошо. Чесоточных поставили отдельно. Каждый день лечим. Она пройдет, эта чесотка, только остальных лошадей надо беречь. Так пойдешь, что ли? — закончил Ян.
Эмма ответила не сразу. Она взвешивала все доводы. Как-то боязно было ломать привычную жизнь. Хоть и тяжело у Густа, но, когда вдруг надо решиться уйти, как-то жаль становится, да и боязно — уйдешь, а если там ничуть не лучше, что тогда станешь делать?
— Я, Ян, сперва посоветуюсь с детьми, — отговаривалась она, чтобы не давать сейчас же окончательного ответа. — Эдвин у меня большой мальчик, ему уже тринадцать лет, как же мне без него решать.
— Ну что ж, посоветуйся, — согласился Ян. — Он тоже там в школе будет. Значит, пойдем?
— А куда ты идешь? Разве в школу? — удивилась Эмма.
— В школу, — подтвердил Ян. — Там учитель что-то будет рассказывать. Так Мирдза Озол объявила. Я не хотел идти, а она говорит — иди, уж кто-нибудь лошадей накормит, не бойся. Я говорю — чего мне там делать? А она — сходи, что-нибудь новое услышишь. Ну, тогда я согласился, что ж, схожу.
— Сходи, — поддержала Эмма и собралась домой. Она решила сегодня с Ванагом не говорить. Хотела сначала обдумать, не лучше ли идти на коннопрокатный пункт.
— Пойдем со мной, — приглашал ее Ян. —
Послушаешь, что он расскажет. И парня там своего встретишь.
— Пожалуй, пойду, — согласилась Эмма. — Густ, правда, будет сердиться, что некому подать ужин, но пусть хоть раз почувствует, каково в доме без Эммы. Пусть узнает, чего стоит Эмма.
Класс, где должна была состояться лекция Салениека о воспитании характера, был битком набит. Пришли ученики старших классов, крестьянская молодежь; преобладали девушки, так как парней осталось немного. Были и родители, принесшие своим детям поесть и оставшиеся послушать, что будет рассказывать учитель. Были Мирдза и Зента, которые, славно шпульки, вертелись в переполненном помещении, пробираясь с необыкновенной ловкостью сквозь самую гущу людей.
Ян с Эммой стали в дверях. Им казалось, что внутри уже негде поместиться. Но их заметила Зента, попросила кого-то потесниться и нашла место для своего бывшего начальника и его спутницы.
Ян слушал, что Салениек рассказывал о советском человеке. Когда учитель сказал, что советский человек является борцом и, видя непорядки, не проходит равнодушно мимо, а сразу же вмешивается, добиваясь, чтобы их устранили, Ян съежился, как от оплеухи. Казалось, что Салениек поставил перед ним зеркало и Ян увидел в нем свое равнодушное, словно покрытое ржавчиной лицо. Надо признать — таким он был в исполкоме, но он не смеет быть таким на новой работе.
Правда, с лошадьми куда как проще, знаешь, чего они хотят и чего им надо. Людей иногда не поймешь. Когда говорит один, кажется, что он прав. А говорит об этом же другой, и сдается, что и тот прав. И тогда ты уже не понимаешь ничего. Правда как будто может быть только одна, но где она — на чьей стороне или, может, где-нибудь посередине, — в этом не так-то легко разобраться.
Пока он предавался размышлениям, Салениек в своем рассказе уже ушел порядочно вперед. Ян снова насторожился, когда тот стал рассказывать, что для воспитания характера важно приучать себя делать то, что необходимо, хотя делать этого очень не хочется.
И это правда, думал Ян. Когда даешь одолеть себя лени, то потом становишься таким неряшливым, что даже в воскресенье не хочется лицо умыть. Быть может, у него вся эта вялость оттого, что с малых лет он и переутомлялся и недоедал. Вот когда пас скотину у хозяина и в свободные воскресенья прибегал к матери, конечно, видел — надо бы ей дровишек нарубить, иногда мать, бывало, и сама намекнет: «Если есть у тебя время, Яник, то наруби», — а он только норовит забраться подальше от людей и поспать. Ведь вот как плохо, что тогда никто не учил, как нужно этот, ну, как его, «характер» воспитывать. Надо бы спросить учителя, может, и теперь еще не поздно что-нибудь сделать с собой. Но как тут спросишь, люди еще смеяться начнут.
Когда Салениек кончил, в классе на некоторое время воцарилась тишина. Потом Зента, сидевшая впереди за столом, начала аплодировать, и к ней присоединились все слушатели. Наконец и Ян ударил в ладоши, но позже всех, когда аплодисменты уже стихли; смущенно оглядываясь, он продолжал хлопать до тех пор, пока Эмма не толкнула его локтем, тогда он перестал.
Зента встала и спросила, не будет ли вопросов. Если чего не поняли, пусть смело спрашивают — товарищ Салениек все объяснит.
Яну очень хотелось спросить — как же быть с характером, можно ли еще себя переделать или же следует махнуть рукой: какой есть, таким и останешься, ничего тут не поправишь. Но ему было стыдно говорить в присутствии стольких людей, еще будут смеяться. Он ждал, может быть, кто-нибудь другой, в его возрасте, заинтересуется и спросит то, что ему так хотелось знать.
Слушатели молчали, косясь один на другого. Никто не осмеливался говорить, хотя охотно послушали бы еще, в особенности какие-нибудь практические советы о воспитании. Зента еще раз напомнила, что нечего стесняться, но и это не помогло. Молчание продолжалось. Зента беспокойно повернулась, и Яну показалось, что сейчас она распустит всех по домам, если уж нечего больше сказать. «Вот как оно получается, — подумал Ян, — а ведь учитель сказал: обязательно заставь себя сделать необходимое, хотя и не хочется делать, — именно этим характер и воспитывается». Ему не хотелось говорить в присутствии других. Но теперь именно надо бы себя заставить. Зента уже встала со своего стула и начала:
— Так как вопросов нет, то закроем сегодняшнее собрание. Поблагодарим…
— Прошу, у меня был бы… я хотел кое-что… — бессвязно выпалил Ян, вскочив на ноги.
— Слово предоставляется товарищу Приеде, — заявила Зента и села.
— Прошу, я хотел… я хотел бы знать… могу ли перевоспитать свой характер? — наконец выговорил он свой вопрос.
Некоторые девушки прыснули со смеху, но их осадил строгий взгляд Зенты.
Салениек серьезно объяснил, что воспитывать характер никогда не поздно. Главное, нужно иметь твердое намерение переделать себя, освободиться от плохих качеств.
— Товарищ Приеде поставил очень важный вопрос, спасибо ему за это. Нам всем следует подумать над тем, как отрешиться от многих таких черт характера, которые при новом, советском строе будут нам большой помехой: от безразличия к обществу, к общественной собственности, от стремления жить только для себя, искать только для себя пользу. Для советского человека такие качества не годятся.
Некоторые мамаши беспокойно заворочались, даже встали, собираясь уходить. Но Салениек не обращал на них внимания. Он довольно долго еще рассказывал, каким должен быть и каким не должен быть советский человек. Ян услышал, как перешептывались две его соседки.
— Ну, совсем как коммунист говорит, — сказала одна.
— Разве ты не знаешь — чей хлеб ест, тому и подпевает, — шепнула другая в ответ.
— Как же он не боится — немцы ведь еще близко, в Курземе? — удивлялась первая.
— Что ему — вернутся немцы, он перекрасится, — уверенно сказала вторая.
— Стать советским человеком это не значит перекраситься, — продолжал Салениек. — Недостаточно примкнуть к новой жизни, ее нужно понять. Надо видеть большие цели, которые указывает большевистская партия. Но об этом поговорим в другой раз.
Ян вышел вместе с Эммой. Она уже успела спросить Эдвина, что он думает о переходе на коннопрокатный пункт, и мальчик сразу же согласился — уж очень ему надоела опека в доме дяди.
— Значит, ты придешь? — переспросил Ян, прощаясь.
— Да, приду, — ответила Эмма.
Ванаг вышел из школы вместе с Мирдзой и Зентой. Мирдза в шутку предложила обоим проводить ее домой; они, не долго думая, согласились.
— Я иду потому, что мне очень не хочется идти, — шутила Зента, — но так как мне не хочется, то я должна идти, чтобы воспитать характер.
— В таком случае, мне опять-таки не надо было бы идти, так как мне как раз хочется идти, — вставил Петер тем же тоном.
— Нельзя ли было бы сделать эту прогулку воспитательной, — продолжала шутить Зента. — Скажем, Петеру хотелось бы проводить Мирдзу, но не хотелось бы идти вместе со мной обратно?
— Могло бы быть и наоборот, — поддразнила Мирдза.
— Но вдруг мне хочется и то, и другое: проводить Мирдзу, а потом возвратиться с Зентой? — не остался Ванаг в долгу.
— Тогда так и нужно сделать, — нашла Мирдза новое доказательство. — А то, какой же это характер, если ты не делаешь того, чего хочешь.
— Вас обеих, наверное, никто не переспорит, — сдался Петер. И они втроем пошли по большаку.
В эту светлую ночь им было так хорошо, месяц, словно играя в прятки, то исчезал за тучами, то снова высовывал свое круглое добродушное лицо, широко улыбаясь идущим.
Петеру казалось, что он освобождается от гнетущего ощущения, давившего его много лет, как тяжелый груз; он снова почувствовал, что ему лишь двадцать пять лет и что пережитые им ужасы никогда больше не повторятся. Он отвоевал себе другую жизнь, и ее у него никто уже не отнимет.
Еще два человека вышли вместе из школы. Фактически новый начальник почты Кадикис вышел один, но Майга Расман поспешила надеть шапочку и поправить шаль, чтобы одновременно с ним оказаться на лестнице. Как бы случайно она задела локтем Кадикиса и робко извинилась. Они пошли рядом, но Майга так часто поскальзывалась, что начальнику пришлось взять ее под руку. Майга восторгалась лекцией Салениека, уверяла, что лекция ей многое дала, и теперь она будет знать, как преодолеть некоторые свои слабости.
— Разве и вам свойственны слабости? — удивился Кадикис. — Я думал, что ваше сердце чисто, как первый снег.
— Все-таки, — задорно улыбнулась Майга. — Моя самая большая слабость — это мед с молоком. Зайдемте на минутку ко мне, я вас угощу.
Кто же в военное время, когда немцы разграбили все пасеки, может устоять перед соблазном отведать меду с молоком?
Таким образом Майга залучила его к себе. В прихожей она предложила гостю снять пальто, провела в теплую, по-мещански обставленную комнатку и усадила на диван с поношенным, но все еще красивым покрывалом.
Разговор не клеился. Майга то садилась на край дивана, то пересаживалась на стул против гостя, пробуя разные темы, стараясь выяснить, что его больше всего интересует, но Кадикис, притворяясь смущенным, следил за хозяйкой. Наконец Майга вспомнила, что у начальника есть собака и что владельцы собак обычно увлекаются разговорами о своих любимцах.
— Ваш Джек теперь, наверное, ревнует вас ко мне, — рассмеялась она.
— Он ведь не знает, где я. Думает, что все еще на лекции, — пошутил Кадикис.
— У вас есть хотя бы четвероногий друг. Вы не так одиноки, как я, — вздохнула Майга. — Наверное, ваш Джек очень умен и верен своему хозяину? В минуту опасности он защищал бы вас зубами и когтями.
— Особого ума я за ним не примечал, — ответил Кадикис. — И какие могут мне угрожать опасности?
— Вы еще не знаете этой местности! — воскликнула Майга. — Говорят, что здесь многие ограблены. Даже убийства были.
— К сожалению, я не так богат, чтобы меня стоило грабить, — улыбнулся Кадикис.
— Но на почте иногда накапливаются значительные суммы, — не унималась Майга. — И вопрос еще, разбираются ли бандиты, есть ли что грабить или нет. Может быть, вы слышали, недавно здесь ограбили и убили мать нашего нового председателя исполкома Ванага?
— Что-то слышал. Но кто, в самом деле, мог убить ее?
— Говорят, что дезертиры-красноармейцы, — равнодушно ответила Майга.
— Ну, а вы как думаете? — спросил Кадикис таким же тоном.
— По правде говоря, я над этим даже не думала, — уклонилась Майга от прямого ответа. — Слишком уж это ужасно, чтобы вдумываться… Но я ведь обещала угостить вас медом, — вдруг спохватилась она и выбежала на кухню. Кадикис остался сидеть, уставившись глазами в пол. Майга оставалась на кухне долго, временами казалось, что ее тень мелькала в щелке приоткрытой двери, но затем исчезала, даже шагов не было слышно.
Наконец она вошла с подносом в руках, накрыла стол и пригласила гостя полакомиться медом, который ей посчастливилось достать. Молоко уже было налито в стаканы, но Кадикис от него отказался, потому что не пьет его с детства, с тех пор, как в деревне однажды опился молоком.
— В таком случае мне придется достать вино, которое хотела сберечь ко дню своего рождения, — решила Майга и разыскала в углу комнаты бутылку вина.
— За знакомство и за добрые отношения на работе! — подняла она тост, с пленительной улыбкой глядя Кадикису в глаза.
— Согласен! — поддержал он.
— И за что еще будем пить? — спросила Майга, снова наполняя стаканы.
— Придумайте вы!
— За здоровье вашего верного друга! — Майга задорно чокнулась. — Я очень люблю собак, — начала она. — Вы, может, отпустите Джека погостить ко мне. Обещаю не убить его своею любовью.
— Он будет скучным гостем, — ответил Кадикис. — Еще скучнее меня.
— Вы, очевидно, напрашиваетесь на комплименты? — Майга посмотрела на него долгим взглядом. — Но вы ведь могли бы сделать жизнь Джека более интересной. Например, научить выслеживать. Быть может, он мог бы выследить какого-нибудь грабителя.
— Это для старика слишком трудно, — ответил Кадикис. — Он у меня нечто вроде домашней утвари. Все время жил у моей матери. Теперь ей трудно его прокормить, отдала мне.
Майга отодвинулась от стола, чтобы Кадикис увидел ее стройные, обтянутые шелковыми чулками ноги, открытые выше колен скользнувшей кверху узкой юбкой.
— О боже, как я пьяна! — воскликнула Майга и взгляд ее как бы говорил: «Ну и непонятливый же ты».
Но Кадикис не понимал. Борясь с зевотой, он встал из-за стола и, сославшись на работу, вежливо простился. Хотя Майга его успокаивала, что на почте теперь хватает работников — это не те времена, когда они с Зелменом были вдвоем, — Кадикис все же ушел.
— Хитра, и даже очень, — решил он, выйдя на улицу. — Ничего не поделаешь. Борьба будет нелегкой.
Мирдза неожиданно получила письмо от Эрика. Он был ранен и лежал в госпитале в уездном городе. Он ждал, что она, если это будет возможно, навестит его.
Она долго держала в руке маленький клочок бумаги, на котором были написаны эти немногие слова. Ей представились самые тяжелые ранения, о которых она слышала от отца, когда тот рассказывал о фронте и продолжительном пребывании в госпиталях. Она представляла самого Эрика, бледного, истекавшего кровью, боровшегося со смертью и, быть может, не победившего ее и до сих пор.
— Как же я могу не навестить тебя, мой герой? — шептала она, целуя письмо. Она пешком готова идти, завтра же, рано утром, соберется в путь. А сейчас она сбегает к матери Эрика, возможно, и та получила печальную весть и теперь плачет, надо ее утешить. Мирдзе и самой хотелось плакать, ведь как знать… Почему он не пишет о характере ранения? Если бы был легко ранен, то не стал бы скрывать, написал бы: дескать, не волнуйся, ничего серьезного. Но об этом в письме ни слова, значит, не хочет заранее расстраивать. Ей нужно спешить к Эрику, может, она должна попытаться обогнать смер… нет, нет, такую возможность нельзя допустить. «Жди меня, и я вернусь», — вспомнила она стихотворение, которое выучила наизусть и которое никогда теперь не забывала.
Мать Эрика, действительно, плакала. Она тоже получила письмо, такое же короткое, только в конце было добавлено, чтобы прислала чего-нибудь съестного.
— Мирдзинь, дочка, ты поезжай к нему, — просила Лидумиете. — Я бы сама поехала, но кто же останется со скотинкой. Ты возьми лошадь, Эрик ведь сам ее вырастил, и завтра же поезжай.
Проведя ночь в полусне и кошмарах, Мирдза выехала затемно. В санках у нее лежал объемистый узел, в который мать Эрика уложила разную снедь. Она подбадривала вороную лошадку, которая, казалось ей, слишком лениво трусила.
— Торопись, вороной! — понукала она, подергивая вожжами. Ей было жаль хлестнуть кнутом, ведь лошадка Эриком выращена.
«Эрик!» — в мыслях она рвалась к нему, лежавшему в госпитале, с простреленной грудью, со шрамом на щеке. «Почему именно так?» — удивлялась Мирдза своему предположению. Почему ей кажется, что он должен быть с простреленной грудью и шрамом на щеке? Ах, да. Так было у Упмалиса, который стал для нее символом солдата-героя.
Дорога тянулась бесконечно долго, и Мирдзе казалось, что она передумала множество дум и они все сводились лишь к одному: «Эрик, Эрик, только бы застать тебя живым!»
Поставив лошадь во дворе гостиницы, Мирдза сразу же побежала со своим узлом в госпиталь. Время посещения больных уже кончилось, и ее не хотели пустить в палату, но она разыскала дежурного врача и кое-как объяснила, что приехала из деревни и ей во что бы то ни стало надо повидать раненого Эрика Лидума и передать ему посылку от матери. Получив разрешение, она кинулась по лестнице наверх, но ее задержала сестра и увела в гардеробную. Но и после того, как она сняла пальто, ее дальше не пустили, надо было еще дождаться, пока ей принесут белый халат. А минуты мчались, время неумолимо летело вперед, и кто знает, не спешила ли вместе с ним и та, чтобы протянуть к Эрику свои руки…
— Третий этаж, пятидесятая палата! — крикнула сестра вслед нетерпеливой посетительнице.
Мирдза не шла по ступенькам, она летела, не переведя дыхания, распахнула дверь пятидесятой палаты и остановилась. Сестра, наверное, сказала неправильный номер: здесь не было ни одного тяжело раненного. Больные сидели на своих койках, читали, некоторые расхаживали, а трое, усевшись на койке, спиною к двери, даже играли в карты.
Она уже было хотела закрыть дверь, когда один из игроков обернулся. Это был Эрик, которого она со спины не узнала, потому что его густые волосы были коротко острижены. Мирдза была так поражена, что не могла выговорить ни слова, даже не улыбнулась. Эрик что-то сказал остальным игрокам, положил карты и пошел навстречу Мирдзе. Только теперь она заметила, что у него забинтована левая рука — и это было все. Ни шрама на щеке, виденного вчера ночью во сне, ни бледности на лице от потери крови.
— Значит, ты не тяжело ранен? — был первый вопрос Мирдзы. Эрик удивленно посмотрел на нее.
— Отделался более или менее удачно, — смеялся он, усаживая Мирдзу в коридоре на скамью. — Ну, скоро мы снова сможем быть вместе, — сказал он, ласково посмотрев Мирдзе в лицо и взяв ее руку. — Меня, наверное, скоро выпишут из госпиталя.
— Да разве ты… Разве ты не вернешься на фронт? — спросила Мирдза.
— Нет, возвращаться, наверное, не придется, — радовался Эрик, не замечая удивления в ее голосе. — Рука не гнется и такой останется довольно долго.
— Но… если ты… если ты сам очень будешь рваться на фронт, тогда, может, попадешь? — продолжала Мирдза, медленно выжимая из себя слова.
— Да зачем мне рваться? — не понял Эрик. — Я уже навоевался, пусть другие заканчивают. На фронте приятного мало. Счастлив, кто остается жив или хотя бы возвращается домой, не потеряв ни рук, ни ног. Мне, действительно, посчастливилось. Левая рука немного попорчена, но не велика беда. Со временем, может, поправится.
— Да. Конечно, — вяло соглашалась Мирдза. — Конечно.
— Ну, расскажи, как ты живешь? Помнишь, как нас помучили с письмами?
— Помню… — протянула Мирдза, глядя куда-то вдаль. — Эрик, а тебя в большом бою ранило? — спросила она почти с отчаянием, как утопающий, хватающийся за соломинку.
— Да это вовсе не было в бою, — откровенно ответил Эрик. — Мы стояли с котелками у кухни за обедом, и вдруг разорвалась мина. Повару пробило живот, он там же на месте умер. Впереди меня стоял ефрейтор, тому оторвало ногу. Мне на самом деле повезло.
— Да, тебе повезло, — грустно согласилась Мирдза.
— Мирдза, ты огорчена чем-нибудь? Ты какая-то странная. — Эрик, прислушиваясь к ее печальному голосу, заглянул Мирдзе в глаза.
— Нет, нет, — уклончиво ответила она. — Ничего.
— Чем ты теперь занимаешься?
— Всю зиму учусь. Хочу окончить среднюю школу, — рассказывала Мирдза.
— Вот что, — протянул Эрик, в свою очередь чем-то разочарованный, и добавил: — Но это ведь потребует довольно много времени?
— Не один год, конечно. Скорее нельзя. Кроме того, нужно много читать. Потом комсомольская работа. А весной начнутся полевые работы, — перечисляла Мирдза.
Эрик взял ее руку и хотел что-то сказать, но вошла сестра и напомнила, что посетительнице пора уходить. Мирдза отдала Эрику узел и рассеянно простилась.
Вечером, вернувшись с работы, Озол заметил, что у дочери заплаканные глаза.
— Что с тобой? — спросил он озабоченно. — Или Эрик тяжело ранен?
— Нет, — хмуро ответила Мирдза. — Папа, если бы ты знал, как это тяжело! — она прильнула к плечу отца. — Он ранен просто в руку.
— И поэтому ты плачешь? — улыбнулся отец, не поняв.
— Нет, не потому, — объяснила Мирдза, вытирая слезы. — Если бы хоть в бою его ранило, а то — стоял с котелком за кашей.
— На фронте ведь всякое случается, — утешал Озол.
— Но и это не главное, — продолжала объяснять Мирдза. — Папа, Эрик не герой. Он ранен около кухни, а не в бою.
— Так вот в чем беда! — понял наконец Озол. — И тебе кажется, что он тебя обманул? Давай поговорим. — Озол усадил дочь на диван и сам сел рядом. — Не обижаешь ли ты Эрика? Я уже сказал, что на фронте всякое случается. Отважный храбрец может выйти невредимым из самого ожесточенного боя и вдруг погибнуть у кухни. На фронте, как и в жизни, приходится выполнять разные работы и задания. Вот тот же повар. По-твоему, это достойная презрения должность. Эрику ты бы этого не простила. Но ты сама говоришь, что повар погиб. Значит, он тоже подвергался опасности. И без его работы фронтовики никак не могут обойтись.
— Это мне понятно, — возразила Мирдза. — Но Эрик не рвется обратно на фронт! Он даже рад, что так легко отделался и может попасть домой! Как он мог стать таким, таким… трусом!
— Мирдза, Мирдза, не бросайся словами, — упрекнул ее Озол.
— Но почему он не такой, каким должен быть? — упрямилась она. — Я его представляла себе другим.
— Вот ты и сама объяснила, — подхватил Озол. — Он такой, какой есть, а не такой, каким ты себе его представляла. Сразу переделать себя никто не может.
Мирдза мрачно молчала.
— Но если ты его любишь по-настоящему, — продолжал Озол, — ты можешь перевоспитать его. Подумай сама, как он рос. Семья не из бедных, мать очень религиозна. Что же другое могло из него получиться? Мне кажется, что Эрик и так лучше остальных хозяйских сынков. Он не против нас, не ругает большевиков. Из гитлеровского латышского легиона убежал, в нашу армию пошел. Ты говоришь, он не рвется обратно на фронт. Для этого нужна большая сознательность, пылкий патриотизм. Ну, этого в нем нет. Война скоро кончится, да и вообще — человек может проявить героизм не только на войне. Залечивание разрушенного войной тоже потребует много труда и героизма. Быть может, там Эрик лучше себя покажет, будет более настойчивым. Ты можешь увлечь его за собой, зажечь в нем интерес к общественным делам. Договорились, Мирдза?
— Я попытаюсь, — Мирдза посветлевшими глазами посмотрела на отца.
В тот вечер они к этой теме больше не возвращались.
— Кому-нибудь надо было бы рассказать нашей молодежи о войне, о героической борьбе Красной Армии, — заметила Мирдза. — Мы все жили под немцами, и у людей всяким вздором головы забиты.
— Ты поговори с Валдисом Упмалисом, — сказал Озол. — Он умеет увлекательно рассказывать. Но мне уже пора на доклад, — он посмотрел на часы, собираясь уходить. — Ах да, ты ведь можешь пойти со мной!
Они пошли в Народный дом, где в ярко освещенном зале собрались партийные, советские и комсомольские работники. Она встретилась с Вилисом Бауской и Эльзой, которые оживленно начали расспрашивать о работе в волости. Мирдза рассказывала о первой лекции, но глазами все время искала лицо с розоватым шрамом и не могла найти. Упмалис торопливо вошел в зал перед самым началом доклада. Увидев Озола, он остановился и поздоровался, узнав Мирдзу, дружески ей улыбнулся. Рядом с нею остался незанятым стул, он не стал искать другого места, сел и, словно виделся с нею только вчера, поинтересовался, как они с Зентой теперь уживаются, как работают. Мирдза не успела ответить, как на трибуну поднялся лектор. Он говорил об отвратительном облике латышских буржуазных националистов, освещая их гнусную роль на разных этапах истории. Мирдза внимательно слушала, ловя каждое слово докладчика: ей казалось, что тот рассеивает дымку, заволакивавшую жизнь, и она теперь видит более четко ее контуры. Если она до сих пор и презирала таких, как Саркалис, Дудум, Думини и Миглы, то все же не видела общих для них жадности и корысти.
После лекции Мирдза в гардеробной попросила Упмалиса, чтобы тот приехал к ним в волость. Секретарь обещал, но определенного дня не назвал, сказав, что сообщит Зенте по телефону. Когда они уже оделись, Мирдза наконец набралась смелости и задала Упмалису вопрос, который мучил ее с момента встречи с Эриком и в разрешении которого она не полагалась на отца, так как допускала, что тот хотел ее утешить.
— А вот, скажите мне…
— Скажи, — поправил ее Упмалис. — Мы ведь комсомольцы.
— Да, как же это, — продолжала Мирдза, — очень это плохо, если на фронте кого-нибудь ранит около кухни?
— Да, разумеется, плохо, — ответил Упмалис, не поняв ее.
— Нет, но это не стыдно? — уточнила Мирдза свой вопрос.
— Стыдно? Почему же стыдно? Я не понимаю. Позорным является лишь такое ранение, которое получают, «голосуя». Ты, может быть, не знаешь такого фронтового выражения. У нас в дивизии встречались такие маменькины сынки, которые во время обстрела высовывали из окопа руки, чтобы таким образом уйти с передовой. Но если ранило по-настоящему, так какая же разница, где.
— Спасибо! — радостно воскликнула Мирдза, а Упмалис так и не понял, почему она это спросила, что хотела выяснить и чему обрадовалась.
Ночью Мирдза долго думала об Эрике. Как несправедлива она была к нему, даже опрометчиво назвала трусом. Хорошо, что у нее такой отец, с которым можно поговорить. И хорошо, что есть такой секретарь, которому можно верить.
На следующее утро Мирдза еще раз пошла в госпиталь. Она искренне желала исправить свою ошибку по отношению к Эрику. Но только они разговорились, как Мирдза снова была ошарашена — оказывается, Эрик еще не вступил в комсомол. Когда она стала допытываться, почему, Эрик признался: на фронте комсомольцам, как и партийцам, всегда поручаются наиболее ответственные задания.
— И ты этого побоялся? — воскликнула Мирдза.
— Я думал о своей матери, — ответил Эрик уклончиво. — Я у нее теперь единственный. И еще я не мог себе представить, что больше не увижу тебя, Мирдзинь. — Он попытался заглянуть Мирдзе в глаза, но она их отвела, уставившись куда-то вдаль.
— А теперь, когда ты вернешься домой, ты ведь вступишь в комсомол? — допытывалась Мирдза, очнувшись от раздумья.
— Теперь бы можно, — ответил Эрик, но по тону его она поняла, что он говорит не от сердца и если вступит, то для того, чтобы доставить ей радость, но не потому, что комсомольская организация ему необходима, как воздух, которым дышишь, как дом, в котором живешь и работаешь среди близких.
— Но и там, в волости, комсомольцы занимают ответственные посты, — сказала Мирдза, строго посмотрев Эрику в глаза, словно испытывая его выдержку. — И надо учиться, нам надо много учиться. Ты ведь тоже не успел закончить среднюю школу. Эрик, давай соревноваться — кто кончит первым! — задорно засмеялась она.
— Я еще не знаю, — пробормотал Эрик. — Я ведь окончил только семь классов. С тех пор прошло пять лет, все позабыл.
— Начни сначала! — Мирдза с жаром пожала его здоровую руку.
— Затянется надолго, — покачал Эрик головой. — И разве среднее образование так необходимо? Заниматься своим хозяйством можно и без него. Для этого не нужны ни алгебра, ни физика, — усмехнулся он, пытаясь превратить разговор в шутку.
— Но, Эрик, если бы ты окончил среднюю школу, то мог бы учиться на агронома, — пыталась переубедить его Мирдза.
— Да я вовсе не хочу учиться на агронома, — ответил Эрик. — Столько, сколько мне требуется, я в сельском хозяйстве понимаю.
— Да, но видишь ли, — запнулась Мирдза, подыскивая новые доводы. — Тогда ты мог бы стать агрономом всей волости.
— А потом? Я учил бы других заниматься хозяйством, а тем временем запустил бы свою усадьбу, — возражал Эрик. — Теперь больше нельзя будет ни батраков держать, ни землю сдавать в аренду.
— Но работа агронома значительно важнее! — не унималась Мирдза. — Там…
— Мирдза… — перебил ее Эрик неуверенно, — ты… ты стала… ты изменилась…
Мирдза встрепенулась. Возможно, она сама и изменилась за это время или кое-что увидела и пережила, но ее чувства к Эрику не изменились. Просто она хочет его увлечь за собой в гору, а он боится подъема, боится трудностей и хочет остаться в тихой низине, защищенной от ветров, откуда не видно широких просторов.
— Эрик, ты меня любишь?
— Ты ведь это знаешь, — ответил он смущенно.
— Тогда хорошо! — продолжала Мирдза в том же тоне. — Тогда я помогу тебе перевоспитать твой характер. — Она стремительно поцеловала его, едва коснувшись губ, коротко переговорила о некоторых практических делах, о поездке Эрика домой и ушла.
Перед отъездом домой она зашла к отцу, чтобы захватить для волости почту. Отец дал ей сверток для коннопрокатного пункта.
— Тут лекарство. Отвези его Яну Приеде, пусть лечит чесоточных лошадей, — пояснил он.
Вечером, проезжая мимо имения, Мирдза решила немедленно передать посылку. Привязав лошадь, она постучалась в дверь кухни. Ей открыла Эмма Сиетниек, которая уже перебралась сюда и, засучив рукава, усердно скребла пол.
— Нет, это все же здорово! — обрадовался Ян. — Я товарища Озола вовсе и не просил. Мне, правда, пришло на ум, но я подумал, как же к нему с такими пустяками приставать. А он, вишь, сам догадался!
Затем Мирдза поехала к матери Эрика, вернула ей лошадь и успокоила, сказав, что Эрик ранен только в руку — никакие опасности ему не угрожают и скоро он будет дома.
— Ах, боже мой, как я тебе благодарна! — воскликнула мать. — Останется в живых, не надо будет больше идти на фронт!
— Да он вовсе и не собирается туда, — проговорила Мирдза без всякой радости. Мать заметила это и, когда Мирдза ушла, долго думала над тем, что должны означать эти ее слова и тон.
— Поди знай, — вздохнула она, — суженая ли она Эрику или нет? Смотри какая — вроде хочет, чтобы Эрик опять пошел на войну! Разве этого может желать настоящая невеста?
На следующий день, когда Мирдза отнесла в исполком присланные отцом документы, она увидела, что Петер и Зента сидят мрачные.
— Вчера ночью бандиты избили сапожника Вевера, — рассказывала Зента. — До потери сознания избили старика. Сегодня утром Канеп поехал в город сообщить об этом и получить оружие. Мы только что составили список людей, которые могли бы войти в группы истребителей.
Вошел старый Пакалн. Приветливо пожелав доброго утра, он положил на стол свои бумаги уполномоченного десятидворки и заявил:
— Так вот это последние. Теперь я назначен на другую должность. Еще в старые времена говорили, что нельзя служить на двух службах.
— На какую должность? — не понял Ванаг.
— Няней, — пояснил Пакалн, смеясь. — Маленького Юрита качать.
— И что ж? Поэтому вы не можете исполнять обязанности уполномоченного десятидворки? — резко спросил Ванаг.
— Нельзя, сынок. Юрит не пускает из дома.
— Такие причины каждый найдет, — бросил Ванаг.
— Пусть каждый вырастит по внуку, большое дело сделает, — с гордостью говорил Пакалн.
— Ну да, так это уж всегда было и будет, что от сынка кулака няня не смеет отойти ни на шаг, — вспылил Ванаг. — Как бы баловень не всплакнул лишний раз. У моей матери никто не спрашивал, есть ли у тебя на кого ребенка оставить. Работай сколько положено, и все.
Мирдза и Зента видели, как лицо старика мгновенно передернулось и он поднял плечи, словно его ударили кнутом. Так подействовало на него слово «кулак», которое Ванаг бросил ему, возможно не желая оскорбить, а лишь изливая горечь, которая все еще клокотала в нем и порой вырывалась наружу, когда он сравнивал жизнь матери и свою с жизнью других.
— Значит, все же кулак, — с обидой заговорил Пакалн. — Значит, все же! Ну, так чего же ты споришь, когда я отказываюсь от должности? Освободишься от кулака, сможешь поставить вместо него порядочного человека.
Он собрался уходить, хотел подать Мирдзе руку, но затем отдернул и уже в дверях пробормотал:
— Разве кулаку коммунист руку пожмет…
— Дедушка! — воскликнула Мирдза и побежала за ним. — Дедушка, это не надо так понимать!
— Пусть уши у меня и старые, но когда так громко говорят, то я еще довольно хорошо слышу, — не давал он себя уговорить. Мирдза вышла с Пакалном на лестницу, прошла до коновязи, но он больше не сказал ни слова, повернул лошадь и уехал.
Мирдза вернулась в исполком. Некоторое время все трое мрачно молчали. Мирдза первой нарушила тишину.
— Товарищ Ванаг, — сказала она, — я, как комсомолка, протестую. Нельзя так оскорблять людей.
Ванаг молчал.
— Почему ты не мог поговорить с ним спокойно? Он старый человек, сын в Красной Армии, маленькую Дзидриню убила немецкая мина, — продолжала Мирдза. — Я тоже не могу разобраться в том, кто кулак, кто нет, но если человек честен, как Пакалн, то его нельзя так ругать.
— Теперь многие прикидываются честными, — резко ответил Ванаг.
— В этом-то и разница, — вмешалась Зента, — иные только прикидываются, а иные в самом деле честны.
— В душу ни к кому не влезешь, — упрямился Ванаг.
— Но как же тогда судить о людях? — спросила Зента.
— Я смотрю, сколько у кого земли, и тогда мне все ясно, — не сдавался Ванаг. — У Пакална двадцать восемь гектаров, две лошади, машины. Кто же он, если не кулак?
— Я не знаю, кто он, — ответила Мирдза, — но если Саркалисы, Думини и Миглы кулаки, то Пакална нельзя кулаком называть. Я всю осень работала вместе с ним, зимой лес вместе рубили. Я не умею этого высказать, но я чувствую, — если бы все люди у нас были такими, так же честно работали бы и исполняли все распоряжения, то мы скоро стали бы на ноги.
— И если ты, Петер, судишь о людях только по гектарам, почему же ты прогнал Рудиса Лайвиня? — продолжала Зента. — У его отца, кажется, только полгектара. Вначале я тоже дала себя одурачить.
Прижатый к стене, Петер молчал. Когда Мирдза ушла, он долго сидел, погрузившись в размышления, потом тряхнул головой, подошел к Зенте, сел против нее и, виновато глядя ей в глаза, признался:
— Я погорячился, Зента. Очень прошу тебя, помоги мне совладать с собой. Я не злой. Но все эти годы… нет, я не могу так легко забыть. А иногда мне кажется — если я это забуду, во мне останется лишь пустота.
Зенте казалось, что она читает в душе Петера, как в открытой книге. В ее памяти воскресли школьные годы — три первые зимы они учились вместе в одном классе. В потертой, перешитой из материнской юбки одежде, Петер, съежившись, сидел на своей скамье. Наглые хозяйские сынки дразнили его, называли его сыном Лиены. Тогда она не понимала, что это значит. Но Петер это принимал как гнусное оскорбление его матери. В четвертом классе Зента Петера уже не видела. Она думала, что он перестал ходить в школу из-за насмешек грубых мальчишек, но теперь она понимала, что ему надо было зарабатывать себе на жизнь, мать-поденщица не могла посылать сына в школу, хотя он учился лучше тех, кто его дразнил и высмеивал. Работа у хозяев, тюрьма и Саласпилс — это все угловатым, резким почерком было вписано в его книгу жизни. Если это вычеркнуть, то останутся пустые листы. Нет, не пустые — закалка всей предыдущей жизни, партизанская жизнь, решимость идти по советскому пути, искреннее желание комсомольца стать человеком с большой буквы, как когда-то сказал Упмалис Мирдзе.
Она не могла не погладить жесткую руку, лежавшую на столе. От прикосновения кулак разжался, и маленькую руку Зенты осторожно взяла широкая ладонь.
— Спасибо, Зента, спасибо, — пробормотал он. — Если нужно, то ругай меня хорошенько!
— Петер, — тепло сказала Зента. — А что если бы ты… если бы мы вместе учились! По вечерам, в свободные минуты?
— Это было бы очень… Нет, тебе надоест тянуть меня, — он стал грустным. — Сколько же я учился? Мне надо начинать почти все сначала.
— Так начнем, да? — спокойно спросила Зента. — Завтра же?
— Хотя бы и сегодня! — радостно откликнулся Петер.
18
ПАЦИФИСТ СТАНОВИТСЯ УБИЙЦЕЙ
Вилюм Саркалис-Сарканбардис созвал очередной «военный совет».
— Одно теперь ясно, — начал он, — ориентироваться на Германию мы больше не можем. Гитлер все же эту войну прошляпил.
— Да, но на кого нам теперь опираться? — спросил Леопольд Мигла.
— Хотя бы на чертову бабушку. Но если мы будем продолжать сказки о возвращении немцев, то нам скоро перестанут верить. Черт бы взял этого Гитлера, пусть его корова забодает, с падалью нам нечего связываться. Теперь все надежды на англичан. Кто поверит, что Черчилль всерьез стал миловаться с большевиками. Как бы то ни было, но Прибалтику он русским не оставит. Откуда он бекон получал, если не из Латвии? Кто носил английский бостон, как не латышская знать? Дружба на коммерческих началах — это тебе не дружба народов, о которой трубят большевики, ха-ха-ха!
— Но когда мы этого дождемся? — вздохнул Силис.
— Балда! — обругал его Вилюм. — Разве английские лорды пешком ходят? Сядут на машины и в два дня будут здесь! И нам нечего больше возиться со старухами, — он посмотрел на Миглу, — надо взяться за тех, кто покрупнее. Придут англичане, чем мы сможем перед ними козырнуть? И надо дать людям понять, что мы здесь соль земли.
— Я все-таки не понимаю, когда придут англичане, мы под их царем будем, или же нас самих допустят к власти, как при Ульманисе? — поинтересовался Силис.
— Как бы там ни было, — отрезал Вилюм, — свиней растить ты сможешь, за бекон деньги платить будут, чего тебе еще надо? А эти голодранцы, что ныне землю делят, на коленях умолять будут, чтобы ты их в свинопасы взял.
— Поди тут угадай, может, и не плохо было бы, — пожал плечами Силис.
— Завтра же нам нужно начать важную акцию, — сообщил Вилюм. — Из города заявился некий Бауска, один из ихних главных, муж жены вот этого растяпы, — он показал на Янсона, который лежал на лавке и спал, — Милочка выяснила, что приезжий долго в нашей волости не задержится. Утром вручит земельные акты этим нищим, которые опять облизываются на нашу землю. Вечером в имении будет народное собрание, и оттуда он поедет дальше. Его-то нам на дороге и надо щелкнуть.
— Тогда заодно нужно закалить нашего растяпу, — усмехнулся Леопольд. — Понюхает крови, станет злее.
— Ты можешь взять его с собой, но надеяться на него одного нельзя, — указал Вилюм.
— Ол райт, это уж я сумею обделать. Достаточно, если он выстрелит хотя бы в воздух. Бауска будет убит, и мы присудим Янсону честь меткого выстрела.
— Не всыпать ли заодно и Салениеку? — спросил Гребер. — Что он воображает? Коммунизм начал проповедовать! У меня внутри прямо-таки клокочет, и знаете, почему? Когда большевики распространяются о своем марксизме, то иные могут не поверить: мол, у каждой птички своя песня. Но когда этим занимается человек, который был далек от большевиков и чуть ли не пастором стал, то люди подумают: может, и правы большевики, если такой умный и ученый человек перешел на их сторону.
— Ну, что ж, прикончим и его, — изъявил готовность Леопольд Мигла.
— Я думаю, что на первый раз хорошенько отлупим его, — ответил Гребер. — В виде предупреждения. Чтобы потихоньку отказался от своей болтовни. Пусть нашептывает людям, что большевики угрозами заставили его выступить.
— Ол райт, — согласился Готлиб. — Эта нагайка очень хорошо агитирует. — Он хлестнул по полу плетью, свитой из проволоки.
— Значит этой ночью вам надо разделиться на две группы, — распорядился Вилюм. — Леопольд, Янсон и Зупениек отправятся на облаву на Бауску, а Готлиб, Гребер и Силис — вразумлять Салениека. Сегодня суббота, вечером он будет спать у жены в своих «Кактах».
— Меня уж, право, увольте, — испуганно взмолился Силис. — Я не могу… внутри все переворачивается, когда вижу человеческую кровь.
— Ну, тогда пусть идет Арнис, — приказал Вилюм.
Арнис сморщился, но «командир» так грозно посмотрел на него, что он не осмелился возражать.
— Теперь надо подготовить этого белоручку. — Леопольд кивнул на Янсона. — Нужно выбить из него этот «пацифизм».
— Опять намалюем ему Эльзу и Бауску, это разозлит его, как быка — красная тряпка, — усмехнулся Готлиб.
— Эй, Янсон, выпей стаканчик, — предложил Вилюм, встряхнув Янсона за плечо.
Янсон проснулся, апатично зевнул и, пошарив руками по лавке, нащупал сборник стихов Карлиса Скалбе, который достали ему бандиты. Он раскрыл книгу и принялся читать.
— Ты даже не представляешь себе, какую птицу можешь сегодня поймать? — начал Вилюм.
— Нет, не представляю, — безразлично ответил Янсон и продолжал читать вполголоса:
— «Моя дорожка — холст льняной, разостланный на лугу, мечтательно я иду, ведя тебя нежно под руку».
— Нет, ты ее уж больше под руку не ведешь, — с издевкой усмехнулся Вилюм. — Ну, навостри уши и послушай, кого ты можешь встретить.
— Кого же?
— Мужа своей собственной жены! — сказал Вилюм, словно выстрелил, и фраза эта, действительно, поразила Янсона. Книга вывалилась у него из рук, упала на пол, и он нечаянно, как бы в поисках твердой почвы, наступил на нее ногой.
— Что? Мужа Эльзы? Нет, нет, нет, это не может… Этого не может быть! — бессвязно бормотал Янсон. — Это неправда. Ты меня просто обманываешь.
— Эх ты, дурачок, — вмешался в разговор Леопольд. — Ты что думал, Эльза живет монашкой? Такая молодая, красивая бабенка.
— Не смей так называть Эльзу! — воскликнул Янсон.
— Извини, — насмешливо поклонился Леопольд, — я хотел сказать — госпожа Бауска.
— Она — только моя жена и никого другого, моя! — исступленно твердил Янсон.
— Ну как же, — присоединился к насмешкам Готлиб. — Эльза жена Янсона, он только во временное пользование уступил ее большевикам.
Взрыв хохота потряс землянку. Янсон повалился на лавку и замахал руками, словно отгоняя грязную клевету.
Долго они растравляли Янсона, изображали мерзкие сцены, а он извивался, словно его кололи раскаленными иглами.
— Я бы уж не позволил другому лезть к моей жене. — Вилюм переменил тон. — Я такому типу сказал бы — руки прочь!
— Я убью этого негодяя! — выдохнул Янсон.
— Наконец-то ты заговорил, как настоящий мужчина, — похвалил Леопольд.
— Правильно, пока Бауска будет держать Эльзу в своих объятиях, ты ее обратно не получишь. Но если Бауски больше не будет, то она образумится, — убеждал Вилюм, подсев к Янсону.
— Вы ведь, наверное, жили в согласии? — сочувственно спросил Леопольд. — Раньше никогда не слышно было, чтобы она погуливала.
— Я как-то видел вас на одном вечере, — поддержал Готлиб. — Славная пара, подумал я тогда. Ты сам — такой молодой и статный, Эльза — миниатюрная, очень миленькая, интеллигентная. Я тогда подумал — вот если бы такую жену найти себе, тогда стоит жениться.
Готлиб вздохнул:
— Ты думаешь, Эльза живет с ним по доброй воле? Наверное, спасая тебя, она терпит всякие унижения. Должно быть, Бауска говорил ей: или ты оставайся у меня, или я твоего мужа, твоего Артура, передам в руки чека! Любя тебя, она не смеет пикнуть. И не зря они тебя осенью не арестовали. Мне совершенно ясно, что Эльза платит за тебя такую цену, которая для честной женщины хуже смерти.
— Ты сидишь сложа руки, а твоя жена терпит такие пытки, — разжигал Вилюм.
— Такую женщину надо бы объявить святой! — патетически воскликнул Гребер. —
Это наивысшее самопожертвование! Все святые Цецилии бледнеют перед нею.
— Эх, Янсон, Янсон, неужели у тебя нет человеческого сердца в груди! — воскликнул Леопольд с упреком.
— Да чего там, — Готлиб пренебрежительно махнул рукой и, подняв упавшую книгу, начал ее перелистывать. — Янсон только читает стишки и ждет, чтобы Эльза сама со всем справилась.
— Но это ведь ужасно, — продолжал Гребер, — даже самоубийством она не может покончить, зная, что тогда не сможет защищать своего любимого мужа.
— Все же не исключено, что она, отчаявшись, прибегнет к этому, — добавил Готлиб с опасением.
— Да, кто видел Эльзу осенью, говорят, что она, действительно, выглядит так, что может наложить на себя руки, — вспомнил Леопольд.
— А-а-а! — закричал Янсон голосом загнанного зверя. — Эльза, Эльза!
— Да, Эльза, Эльза, — передразнил Вилюм. — Спаси Эльзу, тогда ты будешь достоин ее жертв.
— Но как мне это сделать? — беспомощно пролепетал Янсон.
— Прикончить его! — воскликнул Леопольд, притворяясь возмущенным. — Как раз представляется удобный случай. Навряд ли еще когда-нибудь выпадет такой. Я готов тебе помочь.
— Ты помог бы? — уже тверже спросил Янсон.
— Конечно, — разорялся Леопольд.
— Я его застрелю! — Янсон с решимостью напряг мускулы и выпрямился во весь рост.
— Вот это я понимаю! — похвалил Готлиб. — Наконец-то в тебе проснулся настоящий латышский дух.
— Значит, ты твердо решил отомстить за Эльзу? — снова спросил Вилюм Янсона.
Тот вздрогнул и смешался, но затем снова выпрямился.
— Я верну себе Эльзу! — прошептал он, сжимая кулаки.
Вилюм отвел в сторону обоих братьев Мигл, Гребера и пришлых из других волостей и долго с ними шептался.
Вилис Бауска стоял в комнатке председателя исполкома Ванага и смотрел, как по улице со всех сторон стекаются к исполкому радостно взволнованные люди. Бывшие батраки, нарядившись в свою лучшую одежду, спешили навстречу событию, которое повернет их путь в гору. Знали ли они, что подъем не будет легким, что путь, по которому они решили идти, не ровен, изрыт военными машинами, перекопан траншеями и для того, чтобы на новых полях, на их собственных нивах заколосились хлеба, надо прежде всего убрать следы военных опустошений, заботливыми сильными руками разгладить изборожденное лицо земли? Понимают ли они, что Советское государство, которое снова дает им землю, сейчас все свои силы устремило на запад, где враг бьется в агонии и, сжатый тесным кольцом, отчаянно сопротивляется? Железо и чугун еще нужны для изготовления военного оружия, еще не настало время ковать из стали лемехи и косы — она еще необходима для штыков. Кое-какую тяжелую работу, которую при других обстоятельствах выполняла бы лошадь, придется одолевать силой собственных мышц, так как верных помощников крестьян ненасытные оккупанты поспешили угнать в свои имения. И все-таки люди наперекор клевете и угрозам врага идут сегодня получать акты на пользование землей, идут с уверенностью, что Советское государство — это их государство.
У исполкома Лауск встретил Марию Перкон, которая выглядела порозовевшей, то ли от быстрой ходьбы и мартовского ветра, то ли от волновавшего ее желания скорее получить в руки драгоценную грамоту, на которой будет написано ее имя и которая будет удостоверять, что пятнадцать гектаров жирной земли Саркалисов отдаются ей и ее детям.
— Даже не могу понять, Лауск, что происходит, — начала она, поздоровавшись, — недавно еще, осенью, казалось, что уж никогда не будет справедливости на свете.
— А куда же ей, справедливости-то, деваться, — ответил Лауск, улыбаясь во все свое усатое лицо. — Куда же ей деваться, — повторил он.
— Я им, красноармейцам, три пары носок связала и к празднику послала, — рассказывала Мария, полная благодарности. — Больше шерсти не было, а то связала бы еще, хотя и темно по вечерам. Сколько раз я думала, откуда это столько сил находят красноармейцы. Другой бы остановился на нашей границе, махнул бы рукой, пусть, мол, они сами у себя справляются с немцами. А они не такие. Знают, что нам немцев одолеть не под силу, мало нас. Более сильных уже давно по одному забрали, да многих из них извели. Вот я и связала носки. Хоть и пустяк, а все же мне очень хотелось свою руку приложить.

Разговаривая, они направились в исполком и вошли вместе с другими в большую до сих пор пустовавшую комнату. Сегодня она была натоплена и разукрашена по-праздничному. На столе, покрытом красной материей, были расставлены кувшины с зелеными еловыми ветками. Люди толпились в дверях, тихо перешептываясь, но никто не осмеливался войти первым, словно не решаясь нарушить строгую торжественность, царившую в помещении.
Но вот открылась дверь канцелярии, и из нее вышли представитель уезда Вилис Бауска, которого здесь видели впервые, председатель волостного исполкома Ванаг и секретарь Зента Плауде.
— Смелее, смелее, — подбадривал Бауска, — заходите и занимайте места! Вы ведь новые хозяева волости, — добавил он, улыбаясь, когда люди расступились, чтобы дать им дорогу. — Сегодня ваш день. Мы здесь только так, между прочим.
Когда новые хозяева уселись на расставленные в ряды стулья и земельная комиссия заняла места за столом, Ванаг взял слово, чтобы разъяснить собравшимся, почему в волости произошла задержка с вручением актов на пользование землей.
— Кулаку удалось втереться в среду наших работников, он начал было делить землю по-своему. Пока мы исправили сотворенные им подлости, пока измерили землю, чтобы каждый знал свои межи, почти подоспела весна. Мы сделали все, чтобы, как только высохнет земля, вы могли проложить первые борозды на своих полях. Слово имеет заместитель председателя уездного исполнительного комитета товарищ Бауска, — закончил он отрывисто.
Бауска встал и долго смотрел в лица сидевших перед ним людей, Он видел их впервые, но они казались ему старыми знакомыми, с которыми вместе вырос и изо дня в день вместе работал. Он и на самом деле рос среди таких же батраков и батрачек, среди парней и девушек, которые так же, как и он, с восьми лет оставляли родительские гнезда и уходили к чужим, богатым хозяевам зарабатывать скудный ломоть хлеба. Вилису казалось, что тут же, в этой комнате, среди других виднеется заросшее жесткой бородой и все же такое доброе лицо отца, он как бы кивает ему и говорит: «Помнишь, сынок, как я прежде каждый вечер, словно отче наш, твердил: «Ах, Вилис, если бы нам дали кусочек топкого болота да еще полоску целины в Сухом бору, тогда можно было бы сказать, что на свете есть три счастливых человека». Да, отец и мать умерли, так и не получив ни топкого болота, ни песчаной целины. А здесь — другие такие же отцы и матери, которые всю жизнь могли только посматривать на лежавшую вокруг невозделанную землю; но они не смели о ней даже мечтать.
Он говорил с этими людьми, как со старыми знакомыми, проверяя, доходят ли его слова до сердец слушателей. Торжественным спокойствием веяло от обветренных лиц, в которых чувствовалась твердая решимость своим трудом воздвигнуть памятник тем, кто отдал жизнь за Советскую родину.
Зента назвала имя крестьянина, которому первому предстояло получить акт. То был Екаб Лауск, сидевший рядом с Бауской. Хотя он сам принимал участие в распределении земли и уже привык к мысли, что надел, отнятый в первое военное лето шуцманом Стендером, снова возвращается ему, у него, вчерашнего батрака, задрожала рука, протянутая за актом.
Затем вызвали Марию Перкон. Как она ни старалась сдержать себя перед людьми, все же, когда Бауска вложил ей в левую руку акт, а правую пожал и тряхнул, из глаз многострадальной женщины брызнули слезы. Мария пыталась что-то сказать, раскрыла рот, но слезы сдавили горло, она только покачала головой и хотела вернуться на свое место, но Бауска обнял ее за плечи, привлек к себе и, ободряюще заглянув в глаза, сказал:
— Не плачь, мать, Красная Армия отомстит и за твои страдания!
«Даже спасибо не сказала, — подумала Мария, усаживаясь на стул, — думы о Симане все перешибли — забыла».
— Эльмар Эзер, — вызвала Зента, и к столу подошел молодой парень, лет шестнадцати, не больше.
«Ишь, какой смельчак, — думал Бауска, всматриваясь в сухощавое, энергичное лицо не по летам вытянувшегося паренька, — такой молодой, а не робеет перед самостоятельной жизнью».
А Зента решила, что сразу же после собрания с этим парнем надо побеседовать и дать ему устав комсомола.
После вручения актов начали выступать сами новохозяева. Они не искали красивых слов, некоторые даже не могли связно высказать свои мысли. Но все они испытывали одно и то же, хотя не умели это выразить словами.
Когда люди разошлись, Бауска поднялся в комнатку Ванага отдохнуть. В дороге он, должно быть, немного простудился. Растянувшись на кровати Петера, Бауска попытался на минутку заснуть, но им овладели мысли об Эльзе. Перед его отъездом она сказала ему, что через некоторое время в их жизнь войдет третий — крохотное шумное существо, которое принесет в дом много радости. Помнила бы только Эльза, что ей нельзя бегать в легком осеннем пальтишке. Как только вернется, надо будет наконец оформить брак с Эльзой, чтобы его сыну или дочери не надо было начинать жизнь под чужим именем. Валдис Бауска — так они решили назвать маленького человечка, если он будет мальчиком, — в честь фронтового товарища Валдиса Упмалиса, а если появится девочка, тогда она будет Валдой. Так они условились, и им было очень приятно, что они уже теперь могли называть по имени своего будущего ребенка.
За дверью на лестнице послышались торопливые шаги, и после сильного стука в комнату ворвалась Мирдза, а сразу же за нею — Зента и Ванаг.
— Я все же первая! — торжествовала Мирдза, здороваясь с Вилисом.
— Это потому, что я впервые в жизни был кавалером и пропустил женщину вперед, — смеялся Ванаг.
Все они были так молоды и веселы, что Вилис мгновенно забыл усталость, забыл раненую руку, которая сегодня снова стала болеть.
— Как олени! — радовался он, ласково поглядывая то на одного, то на другого. — Если ваша волость не выйдет в передовые, то пусть старость на вас навалится!
— Выйдет, товарищ заместитель председателя, — обещал Ванаг, став навытяжку.
— Зента, сколько у тебя комсомольцев? — спросил Бауска.
— Восемь, — ответила та.
— Включая старца Петера, — добавил Ванаг, склонив голову, чтобы показать седые нити в темных волосах.
— До моего следующего приезда тебе, Зента, не мешало бы привлечь еще восемь таких же молодых летами старцев. Главное, смотри, чтобы у всех были такие же молодые сердца, как у Петера, а на седые волосы можешь не обращать внимания, — шутил Бауска.
— Есть привлечь! — ответила Зента, подражая Ванагу и тоже став навытяжку.
— Этой весной вам придется потрудиться как следует, — Бауска посерьезнел. — Людей мало, но надо засеять всю годную землю. Как обстоит дело с ремонтом машин? Кузнецы и мастерские есть?
— Работы непочатый край, — согласился Ванаг. — Когда начинаешь думать, волосы дыбом становятся.
— Ну, пугаться не следует, — улыбнулся Бауска. — Главное, работать без суетни.
— Нам нужно строить маслодельный завод, — вставил Ванаг.
— И народный дом, — добавила Мирдза. — Мы думаем на следующей неделе устроить субботник по подвозке камня.
— Вот это уже нечто реальное, — оживился Бауска. — Ты, Петер, смотри, как бы тебя девушки не опередили, — подзадорил он Ванага.
— Что ж, сделают свою работу, придут мне на помощь, — улыбнулся Петер.
— Ишь, хитрый какой! — пошутила Зента. — Думаешь увильнуть от нашего субботника? И ты будешь таскать камни для народного дома.
— При таком грозном начальстве — придется, — вздохнул Петер, улыбаясь. — У нас с ней такие странные отношения: с одной стороны, Зента мое начальство, с другой, — я ее прямой начальник. Как же разобраться, кому кого слушать?
— Надо слушать того, кто предлагает что-нибудь деловое, — решил Бауска.
Он посмотрел на часы и встал.
— Дорогие детки, с вами очень хорошо, приятно быть среди молодежи, но время неумолимо. Пора на собрание. Прямо жаль с вами расставаться. Надо будет попроситься в вашу волость на какое-нибудь местечко. Скажем, к тебе в помощники. Да, кто твой заместитель?
— Лауск, — ответил Петер.
— Тот, что сидел рядом со мной? Кажется, хороший человек. И этого паренька — как его звать? — которому вручали акт, тоже не следует упускать из виду. Я смотрю — люди у вас здесь хорошие. Надо их только привлечь, активизировать. Мне приходилось бывать и в таких волостях, где иногда отталкивают полезных людей. Обругают честных середняков кулаками. И как раз наиболее трудолюбивых.
Петер густо покраснел. Мирдза переглянулась с Зентой, но так как Ванаг об этой ошибке промолчал, то и они ничего не сказали, не желая омрачать минуту отъезда Бауски.
Вилис снял с крючка свою шинель и стал медленно одеваться, левая, неподвижная рука болела, ему трудно было засунуть ее в рукав. Наконец Ванаг спохватился и помог ему. Потом он сам надел пальто и повесил на шею автомат.
— Поедем все вместе, — сказал он. — А то, что скажет уезд, если наши бандиты ухлопают их работника?
— Вот уж действительно зараза, — сердился Бауска. — Завелись, как клопы… Надо будет сделать основательную чистку. Прямо беда — здесь такие большие леса, ты ведь знаешь, как трудно в чаще поймать человека. Вот проклятые шершни! Все так опустошено, надо изо всех сил налечь на работу, а они забрались в щели, да еще мешают другим работать.
— Мы их выкурим, — сказал Ванаг с решимостью. — Только бы проследить, где у них гнездо.
— Несомненно выкурим, — сказал Бауска. — И именно потому, что народ на нашей стороне. Эти убийцы и грабители для людей прямо проклятье. Ну, пора ехать, чтобы не опоздать.
Общее собрание созвали в имении, здесь были самые просторные помещения. Свою речь перед крестьянами Бауска начал с того же, о чем уже говорил при вручении земельных актов, потом он перешел к задачам, которые нужно выполнить, чтобы скорее залечить раны, нанесенные Советской Латвии.
Вилис чувствовал, что его одолевает усталость, мешающая сконцентрировать мысли, чтобы выразить их с бесспорной убедительностью. Он напряг все силы, чтобы справиться с болью, которая время от времени схватывала раненую руку.
«Нашла время, когда болеть», — с досадой подумал он и тут же продолжал, чтобы не потерять нить мысли.
— Товарищи! — сказал он в заключение крестьянам. — Вы знаете поговорку: «Вера горами движет». Раньше вы этого в жизни нигде не видели. Но есть страна, где люди так верят в свои силы, так верят организатору своих сил — большевистской партии, что не только горы передвинули, а соединили моря, заставили реки течь не там, где они проложили себе русло, но там, где это нужно человеку. С такой верой мы выйдем на наши опустошенные поля, и вы увидите, какие тяжелые колосья уже этой осенью будут вам кланяться, чествуя тружеников и их любовь к своей земле.
Заключительные слова всколыхнули слушателей. Встал какой-то старик и начал говорить о мельнице. Такая хорошая мельница не работает. Молоть негде. Вор унес ремень. Но разве нельзя попытаться сделать, как когда-то делали, — соткать привод самим из пеньковых ниток. Так долго, как покупной, не выдержит, но некоторое время все же послужит.
Другой напомнил о восстановлении маслодельного завода. У крестьян почти не осталось сепараторов. Немцы заставили свезти головки сепараторов на маслодельный завод, чтобы крестьяне не могли дома масло сбивать, там они и сгорели. У некоторых маслобойки были спрятаны в мочилах для льна, но, когда людей угнали, этим добром поживились воры. Теперь к тем, у кого уцелел сепаратор, едут из пяти и шести дворов молоко перегонять. А один человек (он не назвал Думиня по имени) даже деньги берет за пользование сепаратором. Правительство и не знает, какое масло сдают иные хозяева. Агент по заготовкам — тот все принимает. Люди, которым совесть не позволяет подсовывать городскому рабочему вместо масла вареную брюкву и творог, только удивляются, как мошенники на базаре деньги загребают.
Третий жаловался, что нигде нельзя купить календарь.
Выступил и Салениек. Ему, как учителю, больно, что новое поколение не получает советских книг.
Отвечая, Бауска рассказал о трудностях восстановления, когда война еще продолжается: ведь заводы работают для военных нужд, железные дороги, автотранспорт заняты перевозкой военных материалов.
Собрание уже шло к концу, когда еще какой-то человек попросил слова. То был старый Пакалн, который задал вопрос — кто является кулаком?
— Как же это так? — допытывался Пакалн. — Если у меня всего двадцать восемь гектаров, а пашни всего-то гектаров десять, батраков не было и теперь нет, а кое-какими машинами я обзавелся, являюсь ли я кулаком?
— Нет, товарищ Пакалн, если вы только своим трудом, не используя чужую рабочую силу, добились известного достатка, то кулаком вас нельзя назвать и никто не назовет.
— Да уже назвали! — обиженно отозвался Пакалн и сел.
— А если назвали, то это большая ошибка, — пояснил Бауска, вопросительно посмотрев на Ванага, который сидел, опустив голову. — Я уже не раз предупреждал своих работников, чтобы не смешивали середняков с кулаками.
Зента наклонилась к Петеру и шепнула:
— Тебе надо извиниться!
Петер упрямо молчал. Но когда на него посмотрел Бауска, очевидно угадавший виновника конфликта, Петер почувствовал, что этот глубокий, пристальный взгляд требует от него объяснения. Да, надо сказать несколько слов, признать свою ошибку, иначе в глазах Бауски появится осуждение.
— Я погорячился, — признался он, не поднимая головы, — это было неправильно.
Зента видела, как трудно было Петеру произнести эти слова, но обрадовалась, что он их все-таки сказал. Бедный парень, ему пришлось перебороть себя. Можно себе представить, какой перелом произошел в нем в эти немногие минуты, ведь до сих пор она никак не могла уговорить его пойти к Пакалну и побеседовать с ним наедине, извиниться. А теперь он сделал это перед всей волостью. Зента незаметно пожала Петеру руку.
— Товарищ Ванаг допустил большую ошибку, — сказал Бауска, — но приятно то, что он ее признал. Он молодой работник, сами знаете, сколько перестрадал за свою короткую жизнь, но это, конечно, не дает ему права быть несдержанным. Будем надеяться, и я даже глубоко верю, что в будущем он сумеет крепко держать себя в руках. В этом ему поможет комсомольская организация и также каждый из вас, вся общественность — ваша строгая, но дружеская критика.
Когда собрание кончилось, Бауске громко и долго аплодировали. Старики наклонялись друг к другу и шептали:
— Вот если бы все работники были такими толковыми, как этот, тогда уж… тогда, да… Если бы такие почаще приезжали! Сразу стало яснее…
Бауска зашел к Яну Приеде. Он решил переночевать у него, а рано утром отправиться в город, завернув по дороге на МТС и в соседние волости. Комната у Яна была тепло натоплена, и Вилис с удовольствием прилег на диван. Эмма Сиетниек подала на стол ужин, а Ян с Иваном после собрания опять ушли к своим лошадям.
Бауске вдруг пришло в голову — хорошо бы еще побеседовать с Ванагом, а то не показалось бы председателю, что он, Вилис, остался о нем плохого мнения. Он попросил Эмму пойти посмотреть, в имении ли еще Ванаг, и если не уехал — пусть зайдет. Пока Бауска ждал, кто-то постучал — это был старый Пакалн.
— Вы уж не сердитесь на меня, что не даю вам покоя, — начал он, — но кто знает, когда опять приедете. Видите, как-то некрасиво сегодня получилось. Не думайте, что я на Петера Ванага жаловаться хотел или что-нибудь в этом роде. Когда вы упомянули, сколько он перестрадал, меня точно обухом по голове ударило. Мне подумалось: и впрямь ведь так, а я, старый хрыч, еще ссоры ищу с ним.
— Ничего, ничего, отец, — успокаивал его Бауска. — Всегда лучше напрямик высказаться, чем кулаки сжимать в карманах.
— Знаете, как это у нас тогда получилось, — рассказывал Пакалн. — Он такой горячий, а мне словно кто-то все время нашептывал: «Молод еще на старика нападать! Заработай такие кривые пальцы, — он разжал свои ладони, но пальцев выпрямить не мог, — тогда ругай меня!» Я ведь не так хорошо понимаю эти новые порядки, как вы, молодые, но своим старым умом соображаю, что тот, кто работу делает, нынешней власти вреда не причиняет. А у нас есть такие — языком горы готовы сдвинуть, а на работе ни с места.
— Они нам больше всех вредят, — прервал его Бауска.
— Да, хорошего от них не жди, — продолжал Пакалн. — Но раз я свою работу выполняю, почему же меня тогда равняют с этими, ну, кулаками. Вы тоже сказали, что кулаки те, у кого машины. Кое-какие машины, правда, у меня имеются.
— Я, кажется, неточно выразился, — признался Бауска, — вы не поняли меня. Машины могут быть разные. Например, такие, которые используют только в своем хозяйстве или же одалживают соседу, чтобы помочь, но есть такие, как молотилки, тракторы, грузовые автомашины, лесопильные станки, которые приносят доход.
— Ну вот, теперь и мне ясно, — обрадовался Пакалн. — А то я думал…
— Что я вас назвал кулаком? — засмеялся Бауска.
Вошел Петер и вместе с ним Зента и Мирдза.
— Петер, сынок, — Пакалн пошел ему навстречу, протянув руки, — на пожми и не сердись, что так получилось. Эх, зачем мне надо было перед людьми! Можно было наедине. Ну, теперь я побегу домой. Юрит будет шуметь, что плохо слежу за ним. Так бывайте все здоровы! Заезжайте еще как-нибудь, товарищ Бауска. Мы ведь ничего не знаем, ни о войне, ни что было, ни что будет. Когда газеты читаем — это одно, а на словах яснее получается.
— Видишь, Петер, как получилось, — заметил Бауска после ухода Пакална, — Какой ты из этого сделаешь вывод? Учиться надо!
— Да, надо учиться! — подтвердил Ванаг с решимостью.
— Мы, кажется, совсем замучили товарища Бауску, — вмешалась Зента. — Надо дать человеку отдохнуть.
— Завтра тебя проводит Канеп, — сказал Ванаг. — Он эту ночь переспит здесь же.
— К чему это, — махнул Бауска рукой. — Что вы это — словно невесть какую важную личность оберегаете.
— Любимого человека оберегаем, — улыбнулась Мирдза. — Мы тебя очень, очень будем ждать.
Вилис Бауска проснулся рано утром. За дверью слышалась тихая возня. Кто-то собирался войти, но, не решившись, отпустил дверную ручку. Бауска крикнул, и вошел Ян Приеде.
— Возчик приехал, — сообщил он. — Я говорю, еще темно, куда торопиться, а он отвечает, что велено в пять часов.
— Правильно, хорошо, что он такой аккуратный, — ответил Бауска и вскочил с кровати. — У меня сегодня еще много работы, некогда долго спать.
— Эмма, ты скорей приготовь завтрак, — крикнул Ян в кухню.
— Не надо, зачем беспокоить человека, — запротестовал Вилис, одеваясь.
— Как это не надо, — настаивал Ян. — Лошадь тоже не гоняют некормленую, тем более человека!
В шесть часов Бауска с Канепом уселись в просторные сани. До восхода солнца оставалось еще больше часа, но именно по морозцу была самая езда, так как мартовские ветры и солнце уже растопили на южных склонах снег.
Ехали молча. Бауска думал о вчерашних собраниях. Вспоминал и другие волости, где председатели жаловались, что не могут работать, просили у уезда работников. Наверное, не замечали, что у них на месте есть такие же Лауски, Пакалны и многие другие, как здесь. Люди есть, только надо уметь отыскать их, по-дружески взять за руки, и они пойдут с тобой.
На востоке обозначился едва заметный светлеющий полукруг. К нему, легко покачиваясь на ветру, тянулись черные шпили сосен. Начинался Большой бор. Вилис вспомнил, как он шел через него вместе с Эльзой прошлой осенью. Как пустынно тогда было в этой местности, не слышно было ни лая собак, ни пения петухов. Лишь на западе временами громыхали орудия, рвались снаряды. В Курземе еще до сих пор грохочет. Как странно — война еще бушует с жуткой ожесточенностью, а здесь люди уже борются за расцвет мирной жизни. Значит, верят, что немцу не вернуться. Скорее бы сдавить ему горло, тогда с фронта возвратятся люди, которые так истосковались по мирному труду.
«Эльза, наверное, уже встала и читает. — Мысли Бауски обратились к дому. — Сидит на диване, в ватнике и валенках. Маленькая и теплая, как на вербе барашек. Скоро, через полгода, она станет матерью, и будут в доме два таких барашка — побольше и поменьше».
На крутом подъеме, где дорога шла в гору, лошадь споткнулась. Возчик и Канеп выскочили из саней, чтобы помочь ей освободить ноги, запутавшиеся в клубке проволоки. Бауска тоже хотел вылезть, но Канеп удержал его.
— Сидите, товарищ Бауска! — крикнул он. — Мы сейчас же поедем дальше.
В это мгновение поблизости раздались два выстрела, Вилису в спину ударило что-го твердое и горячее, он еще услышал автоматную очередь, и его сознание начало заволакиваться. Ему казалось, что он по-прежнему на поле боя, что больше нигде и не был, а Эльзу, свою работу, людей, строящих новую жизнь, видел лишь в коротком сне перед наступлением. Он уже не чувствовал, как склонялся головой на спинку саней, как текла теплая струя крови, текла и остановилась, и вместе с нею остановилось сердце, только что бившееся, полное любви к людям, восстанавливающим жизнь, к Эльзе, готовящейся стать матерью, к своему еще не рожденному ребенку, которого ему лишь мысленно довелось покачать.
19
ПАРТОРГ ВОЛОСТИ
Озола вызвал к себе секретарь уездного комитета Рендниек. Усадив его на стул против себя, он некоторое время молчал, словно обдумывая, как лучше начать разговор.
— Товарищ Озол, — сказал он наконец, — ты неплохо работал в нашем аппарате, поэтому не пойми превратно то, что я тебе скажу. Мы решили послать тебя на работу непосредственно в волость. У новых работников не хватает опыта, политического образования, и они сами не справляются. Надо им помочь. В каждой волости нужен партийный организатор. Парторгам предстоит трудная работа. Она потребует большой настойчивости, выдержки, гибкости. Мы посылаем тебя в твою родную волость. С одной стороны, тебе там легче будет работать, так как ты знаешь людей. С другой стороны — это трудная волость. Убийство Бауски говорит о том, что там, очевидно, находится бандитский центр. И ты ни на минуту не должен забывать, что бандиты нападают из-за угла, стреляют в спину. Это тоже война, и ты знаешь, что на войне партийцев ставят на самые ответственные участки.
— Я это понимаю, — коротко ответил Озол.
— Тогда ты и другое поймешь — что новая должность не понижение по работе, а почетный долг партийца, — сказал Рендниек наконец-то, с чего хотел начать.
— Любое поручение, которое дает мне партия, я рассматриваю, как выражение доверия, — ответил Озол с жаром.
Получив более подробные указания, он простился с секретарем, зная, что у того занята каждая минута. Придя домой, Озол прежде всего уложил книги — своих надежных советников, к которым он обращался повседневно. Укладываясь, он наткнулся на взятую недавно у Вилиса Бауски книгу, на которой было написано имя ее владельца. Взять книгу с собой или отдать Эльзе? Все-таки надо отдать. Необходимо навестить Эльзу, проститься с нею перед отъездом. После похорон Вилиса она захворала, и врач, несмотря на ее сопротивление, заставил ее побыть некоторое время дома. Как это тяжело — именно теперь она должна сидеть в комнате, где все напоминает о любимом человеке; вечером, в привычный час, она смотрит на часы, потом обращает взгляд к дверям в ожидании, что они откроются и войдет он — добрый, надежный друг. Снова и снова сердце сжимается от боли при мысли, что он уже никогда, никогда не придет.
У дверей квартиры Эльзы Озолу пришлось подождать. Он сердился на себя за свое тайное желание не застать ее дома. Тогда он смог бы оставить в почтовом ящике записку, дескать, был, но не застал, желает ей поскорее поправиться, быть стойкой в горе и так далее. Это было бы значительно легче, чем смотреть на бледное лицо, полное тоски и боли, слушать глухой от сдерживамых слез голос.
К дверям приближались медленные шаги. Щелкнул ключ. Дверь открыла Эльза, в ватнике и валенках. Ее хрупкая фигурка стала как бы еще меньше. Несмотря на то, что Эльза скоро должна была стать матерью, она сама напоминала ребенка, нуждающегося в поддержке, в дружеском слове и теплой ласке.
— Я, наверное, побеспокоил тебя, — извинился Озол. — Поднял тебя, больную, с постели.
— Но зато на мою другую, более тяжелую болезнь, каждый гость действует, как лучшее лекарство, — ответила Эльза. — Я благодарна Упмалису, что ему не надоедает каждый день забегать ко мне. Рендниек тоже заходил несколько раз. Я знаю, как мало у них времени, и все же они меня не забывают. Заглядывают также и мои девушки, комсомолки. Сначала они приходили робкие, с серьезными лицами, боялись слово погромче выговорить. Потом, наверное, Упмалис сказал им, что так нехорошо. И теперь они приходят с деловыми разговорами, иногда даже шумят и, если бывает чему порадоваться, то даже смеются.
— Но разве… — Озол осекся, не договорив.
— Ты хотел спросить, не тяжело ли мне это? — угадала Эльза. — Порой словно пробуждается нечто вроде зависти к ним — да, вам ничего, никакие трагедии не нарушили ритма вашей жизни. Но тогда я вспоминаю двух человек. В Горьком я с благоговением относилась к Софье Андреевне, с которой жила на одной квартире. Она проводила на фронт мужа и двух сыновей. Сама работала учительницей. Трижды она получала извещения о смерти: ваш муж Сергей Иванович погиб смертью храбрых; ваш сын Никита Сергеевич погиб смертью храбрых; ваш сын Владимир Сергеевич погиб смертью храбрых. Но я не видела, чтобы она плакала. Лишь однажды я слышала, как она всхлипывала, думая, что меня нет дома. После третьего извещения о смерти я пошла вместе с нею на школьный вечер. Она вела второй класс — все малыши, почти у всех отцы на фронте. И Соня нашла в тот вечер силы развлекать детей сказками, хоровыми песнями и, наконец, играми! Только время от времени она выбегала в коридор, чтобы смахнуть слезы. «Дети не должны расти без радости», — сказала она мне, когда мы возвращались домой, как бы извиняясь за свою веселость.
Эльза умолкла, может быть, она мысленно перенеслась в далекий Горький, к Софье Андреевне.
— А кто второй? — поинтересовался Озол.
— Второй? — переспросила Эльза. — Второй — это Рендниек. Я вижу, ты удивляешься. Мне рассказал Упмалис, а не он сам, какой ужасный удар ожидал Рендниека при возвращении сюда. Он ведь женился лишь в сороковом году. В момент эвакуации его жена находилась в Цесисе, в больнице, и должна была родить. Осенью ее замучили немцы. Жив ли ребенок, так и не удалось выяснить.
— Фашисты всем нам причинили горя гораздо больше, чем мы можем себе представить! — воскликнул Озол, поражаясь выдержанности Рендниека на работе и в частных беседах.
— Стараюсь быть достойной памяти Вилиса, — сказала Эльза просто.
Вечером Озол долго думал, отчего зависит поворот в жизни человека — от случая ли? Та же Эльза, если бы она не жила в военные годы в Советской стране, между советскими людьми, возможно, осталась бы женой обывателя Янсона. События могли унести ее в противоположный лагерь, в лучшем случае — в «нейтральную зону»; она спокойно прожила бы при немцах и так же спокойно продолжала бы жить и теперь. Но ей довелось уехать, и за эти годы она стала настоящим советским человеком. Но все же — случай ли это? Конечно, бывало и так, что иной оказывался в эвакуации из-за случая и оставался таким же, каким был, не заметив тех огромных преобразований, которые за двадцать пять лет произошли в великой стране. Его самой большой заботой были оставшиеся дома вещи. В памяти всплыла какая-то женщина, которая в первые дни эвакуации на станции Бологое, где эшелон стоял несколько дней, только тем и занималась, что собирала вокруг себя приезжающих на базар колхозниц и показывала им захваченные с собой тряпки — шелковые рубашки, платья и даже лифчики; она хвасталась на ломаном русском языке: «Чего только у меня в Рига не быль, лифчики из шельк и это… (она провела рукой вокруг пояса) из шельк. Ну, эс юмс
[9] скажу — чистый парадиз
[10]». Другая хвасталась своей кладовой, в которой остались и консервы, и варенье, и ветчина, и сахар. Муж первой женщины оказался вместе с Озолом на фронте и каждый раз, получив письмо от жены, ходил несколько дней угрюмым.
Эльза если не вполне сознавала, то по крайней мере чувствовала, что настало время, когда надо быстро и твердо решить, на чьей стороне хочешь быть. Значит, это не случай, не совпадение — у Эльзы и раньше, хотя и в зародыше, были качества, которые развились в военное время и помогают теперь стойко переносить тяжелое горе.
Счастлив тот муж, у кого жена не похожа на куклу, которую носят на руках, у кого она друг и боевой товарищ. Таким другом Эльза была для Бауски. «А Оля у меня такая?» — подумал он и тут же вспомнил свое возвращение и пережитые тогда сомнения. Оля не была такой, как Эльза, личное горе надломило ее, как ветер надламывает хрупкий цветок. «Я начинаю их обоих сравнивать и это уже нехорошо», — вдруг прозвучали у него в ушах слова Эльзы, сказанные ею осенью, когда она только что вернулась в родные места и обратилась к нему за советом, как «к сильному человеку». Почему он сравнивает свою жену с Эльзой? Может быть, потому, что образ Эльзы стоит перед его глазами — больной, трогательный, хрупкий ребенок, которого хочется утешить, приласкать, быть к нему добрым, вызвать улыбку на бледном лице с темными полукружьями под глазами? Но Эльза не нуждается в таких утешениях, ее душевная сила вызывает уважение, пробуждает желание иметь такого стойкого и нежного друга. Озол покачал головой. Теперь он возвращается домой и ежедневно будет уделять хотя бы немного времени Оле. Надо помочь ей подняться, увлечь ее за собой. Они с Мирдзой как бы выбрали себе в жизни лучшее — целеустремленную общественную работу. Оле они оставили лишь заботы о доме, о них, о пище и одежде. И даже кажется естественным, что она вяжет чулки и перчатки, зашивает или штопает белье и никто ей не рассказывает, что пишут в газетах, не читает ей новых книг, которые отвлекли бы ее мысли от иголки, открыли бы широкие горизонты.
С такими намерениями он через несколько дней возвращался в родной дом.
Новому назначению Озола больше всех радовалась Мирдза. Ей казалось, что с приездом отца работа в волости примет тот размах, который она наблюдала в городе. Волость больше не будет казаться маленьким провинциальным захолустьем с резко очерченными границами, но сольется с уездом, с республикой, со всем обширным Союзом.
Ольга, правда, улыбалась, помогая мужу раскладывать привезенные связки книг, но в то же время на ее лице отражалось опасение и даже страх, который она вначале пыталась скрыть, но потом все-таки, не стерпев, высказала:
— Откровенно говоря, мне, Юрис, не очень нравится, что ты перебрался к нам.
— Что же это ты — на старости лет разводиться, что ли, со мной хочешь? — шутил Озол. — Ну, конечно, что тебе за интерес с таким полуинвалидом.
— Да нет! — воскликнула Ольга, опустив голову. — Скорее уж тебе может не понравиться такая седая жена.
— Я всегда очень уважал седые головы, — продолжал Озол шутить, погладив волосы жены. — А вот тебе почему-то не нравится, что я перебрался в семейное гнездо.
— Ты не хочешь меня понять, — Ольга стала серьезной. — Пока ты жил там, в городе, я была за тебя спокойна. Но здесь, да еще на такой должности! Сам знаешь, что бандиты норовят убить тех, кто от новой власти. Вон что случилось с Бауской. Пусть и говорят, что муж Эльзы отомстил, но тут и другое было. А Салениека так избили, что и сейчас порой теряет сознание.
— Ну и что ж! — заметил Озол. — Ведь кто-нибудь да должен здесь работать.
— Но почему именно ты… — пробормотала Ольга.
— А почему именно другой? — горячился Озол. — Если бы солдаты спрашивали — почему мне надо идти на передовую, а не другому?
— Но здесь ведь не война, — неуверенно пыталась возражать Ольга.
— И здесь война, и, может, она будет более продолжительной, чем на фронте, — резко ответил Озол. — А мое место на передовой линии, если уж не там, то здесь.
Ольга замолчала. Долго молчал и Озол. Против своей воли он снова стал сравнивать двух женщин — Эльза не побоялась пустить Бауску в волость, в которой свирепствовали бандиты, не сказала: «Почему именно тебе надо ехать?» И снова ему пришлось заставить себя отогнать эти воспоминания и думать только об Ольге. Он взял ее за обе руки и, крепко сжимая их, сказал:
— Оля, милая, почему ты не хочешь быть моим боевым товарищем? Ты мне больше поможешь, если станешь рядом со мной. И если нужно будет, зарядишь и подашь оружие. А не так, как сейчас, — ходишь за мной и охаешь.
— Ты за эти годы стал таким странным, — сказала Ольга. — Мне все кажется, что семья тебя больше не интересует.
— Это не так! — протестовал Озол. — Совсем не так. Моя семья только стала более многолюдной, — улыбнулся он. — И ты, наверное, ревнуешь, что все свои мысли я не могу посвятить лишь вам троим! Ну, признайся!
— А ну тебя, Юрис, когда ты говоришь, я не могу понять — всерьез ты или в шутку, — уклонилась Ольга от ответа.
— Нам надо заново знакомиться, Оля, — смеялся Озол. — За эти годы я, действительно, изменился. Но не думай, что оставлю тебя неизменившейся — хочешь того или не хочешь, но я не позволю тебе только возиться по дому.
— Да куда уж мне, — отмахнулась Ольга. — Пусть молодые занимаются, Мирдза такая проворная. Не знаю — в кого она уродилась.
— В свой век уродилась! — подхватил Озол. — Нехорошо хвастаться своим ребенком, но Мирдза мне нравится. Она еще не сложилась, все в ней бродит и формируется, но в ней чувствуется жизнь, молодость всей страны.
— Не такая, как я, — добавила Ольга.
— Опять начинаешь, — упрекнул Озол. — Ты словно нарочно уговариваешь себя, что стара и только годишься, чтобы для нас, «проворных», чулки штопать и похлебку варить. Погоди, мы и тебе найдем другую работу. И тогда годы побегут обратно. Будешь только удивляться — вот тебе уже тридцать, вот уже двадцать пять! В один прекрасный день я только рот разину — какая молоденькая у меня Оля!
— С ума ты сошел, право, — рассмеялась и Ольга. — Разошелся, как мальчишка! Я лучше подам ужин.
— А я тебе помогу, — вызвался Озол. — Надо привыкать к тому, что я больше не гость в своем доме.
Ольга не хотела, чтобы ей помогали — там и одной делать нечего, но Озол вышел с нею на кухню, взял из ее рук тарелки и ложки, понес в комнату и со звоном расставил на столе.
Услышав шум, вышла из своей комнаты Мирдза — поздоровавшись и поговорив немного с отцом, она ушла кончать задачу по алгебре.
— Ты, папа, должно быть, хочешь меня пристыдить, — упрекнула она отца, увидев, что он хлопочет по хозяйству. — Мирдза, мол, важная барышня, привыкла садиться за стол, когда уже все готово.
— Ты мне лучше скажи, чему равен угол в квадрате? — шутил Озол, потянув дочь за прядь волос.
— Девяноста градусам, — ответила Мирдза и гордо посмотрела отцу в глаза, как бы говоря: «Вот и не удалось поймать на удочку!»
— Садись. Пять! — Озол указал ей на стул, подражая тону учителя. — А чему равно
a плюс
b?
—
a плюс
b равно
c, — не подумав, сказала Мирдза и тут же закричала: — Нет, нет, я оговорилась!
— Ничего не поделаешь! Два! — смеялся Озол. —
a плюс
b есть
a плюс
b. По алгебре тебя надо будет проверить. Откровенно говоря, мне тоже не мешало бы освежить свои познания. Сколько уже утекло воды с тех пор, как я за сарайчиком учился.
— Ах, боже мой, как же я одна двух школьников в школу собирать буду, — теперь к ним присоединилась и Ольга. — А что будет, если и Карлен тоже вздумает учиться этим «а» и «бе»?
— Непременно захочет! — воскликнула Мирдза.
— Тогда будем учиться вчетвером, — радовался Озол. — Попросим комиссара просвещения, чтобы открыл для нас здесь, на коннопрокатном пункте, вечернюю школу.
— Папа, такая школа в самом деле нужна, — подхватила Мирдза. — Тогда многие бы учились. Одному трудно себя заставить взяться за учебу. Я иногда хожу к Салениеку. Петеру Ванагу помогает Зента. А если бы открылась вечерняя школа, многие пошли бы туда. В особенности комсомольцы.
— Много их у вас? А как же Эрик? — спросил Озол, пытливо посмотрев на Мирдзу.
Мирдза смутилась и даже слегка зарделась. На ее лицо легла едва заметная тень недовольства.
— Ему ведь во всем мамашу надо слушать, — наконец заметила она с легким пренебрежением. — Комсомольцы в бога не верят, а ей кажется, что без божьей воли у Эрика волос с головы не упадет.
— А Эрик верит?
— Этого я не знаю. Мне стыдно его спрашивать, — тихо ответила Мирдза.
— Все же не худо спросить, — посоветовал Озол. — Пусть начинает думать своим умом. Мать уже стара — ее не переделаешь. Так и отдаст душу прямо в руки своему выдуманному богу. Но Эрик еще молодой, его еще можно переубедить.
Мирдза молчала. В присутствии отца и матери ей было неловко проявлять интерес к Эрику; он уже вернулся из госпиталя и при последней встрече дал понять, что Мирдзе надо было бы перейти в его дом хозяйкой. Даже комнату начал ремонтировать. Пусть ремонтирует, все это хорошо. Но когда она заговорила о его вступлении в комсомол, он пробормотал что-то невнятное. Зато его мать насторожилась и проявила словоохотливость. Начала возмущаться, что комсомольцы в бога не веруют. Вот я Мирдза, уже взрослая девушка, а еще не конфирмовалась, какой же пастор станет ее венчать. «Да ведь церкви-то больше нет, — возразила Мирдза шуткой, — так что всем теперь придется обойтись без пасторского венчания». «Бог ты мой! — рассердилась старушка. — Что это будет за девушка, которая без венчания пойдет к парню!» Ей нельзя было втолковать, что можно сочетаться браком и в загсе. «Это не законный брак, — говорила она, — мало ли что там какой-то безбожник запишет, дети будут все равно что в позоре прижитые». Мирдза тогда сдержала себя — нельзя ведь старого человека высмеивать или сердиться на него, но на Эрика, когда мать вышла, она рассердилась. Вот тихоня! Не держит ни ту, ни другую сторону. Мог хотя бы сказать: дескать, мать у меня человек старого закала, мы ей на словах перечить не станем, но поступим так, как сами решим. Но об этом ни слова! Начал только жаловаться, что портного не найти и приходится носить солдатскую одежду. Но Мирдзе нравится именно эта скромная красноармейская форма, свидетельствующая о том, что Эрик был на фронте.
Мирдза так задумалась, что не заметила наступившей за
столом тишины. Опомнилась, когда мать и отец положили ложки, а она еще не съела и половины тарелки своего молочного супа. Мать добродушно посмотрела на нее и сказала словами народной песни:
— «Девушка приметна та, что под осень уведут. Не поет и не смеется, видно, думой занята».
Мирдза бросила ложку, вскочила из-за стола и, обиженно воскликнув:
— Зря надеешься, не уведут, неправда! — убежала к себе.
— Словно больная! — рассердилась мать. — Уж и пошутить нельзя.
— Ничего, ничего, — улыбнулся Озол. — Пройдет. Ты помнишь, как мы тоже когда-то болели? Эх, молодость!
Укладываясь спать, он положил на стул у кровати автомат. Ольга вздохнула:
— Господи, и что же это за жизнь? Как на войне. Кто знает, как Карлен спит?
— Что там особенного — постелет шинель под бок, положит шинель под голову, укроется шинелью, прижмет вот такую невесту к сердцу, — шутил Озол, прижимая к груди автомат.
— Скажи, Юрис, откровенно, — боязливо взглянула Ольга на мужа, — как там, на войне, многие погибают?
— Война без жертв не бывает, — уклончиво ответил Озол, — но кто же идет в бой с мыслью о гибели. Идут в бой, чтобы жить.
— Ну да. Ты так говоришь… — протянула Ольга, — чтобы меня успокоить.
— Оля, — начал Озол серьезно, — мы нашими опасениями никому помочь не можем. Погибнуть может каждый, это мы там рассудком понимали, но никто не хотел этому верить, пока не падал. Но и тогда не верил, если еще был в состоянии мыслить.
— Не знаю, почему Карлен не пишет? — продолжала Ольга свою мысль. — Или почта не приходит, или… что-нибудь другое… — она не назвала это «другое» своим именем, — сердце противилось даже в мыслях допустить, что сын погиб или изувечен.
Озол сидел в комнатке Кадикиса, на втором этаже исполкома, и слушал его рассказ об убийстве Бауски. По показаниям милиционера Канепа и возчика, бандитов было трое. У опушки леса, где дорога поднимается в гору, они набросали обрывков телефонной проволоки, которые все еще валяются на всех обочинах дорог, и лошадь запуталась. Убирая проволоку, Канеп совершил непоправимую ошибку, назвав по имени Бауску. Таким образом, бандиты, засевшие в кустах, точно знали, что оставшийся в санях — Бауска, и стреляли в него с обеих сторон. Испуганные отстреливавшимся Канепом, двое уцелевших скрылись в кустах, оставив на дороге убитого Янсона. Собака отказалась пойти по следам бандитов, значит, подошвы их обуви были смазаны бензином или керосином. В ту же ночь другие трое бандитов избили Салениека. Уходя, они выдернули из лампы фитиль и смазали им подошвы. Салениека только недавно удалось расспросить, так как он долго лежал без сознания. Ручаться он не может: бандиты были загримированы и держали во рту пробки, но все же Салениек по голосу в одном из них узнал здешнего пастора Гребера. Воинская часть, прибывшая прочесать лес, ничего не нашла — ни следов, ни улик. Бандиты или очень умело замаскировались, или живут где-то в домах, или же перебрались в другое место. Во всяком случае, они пока что ничем себя не проявляют.
— А как эта вертушка, что работает на почте? — спросил Озол. — Через нее нельзя напасть на след? Как она ведет себя после этого случая?
— Она является воплощением английского хладнокровия, — улыбнулся Кадикис. — Нет, что я говорю! — в ней так и вскипело возмущение против Янсона, что он так подло отомстил своему «сопернику». К возмущению, как патока, была примешана радость, что «этот тряпка и пьяница получил по заслугам». Возможно, что эта радость очень искренняя.
— Так? — удивился Озол.
— Да, она может быть искренней, — подчеркнул Кадикис. — Кем был Янсон? Действительно, тряпкой и пьяницей, как сказала Расман. Он мог оказаться для бандитов помехой. Убежать у него не хватило бы ловкости, но если бы он попался, то все мог рассказать. Теперь он мертв, им самим не надо убирать его с дороги, к тому же он не успел рассказать, где скрываются бандиты. Как же тут не радоваться? Кроме того, Янсон перед смертью успел сказать, будто Бауску — человека, которого местные жители вспоминают с глубоким уважением, — застрелил именно он, в отместку за то, что тот отнял у него жену.
— Как ты думаешь, на допросе Расман не признается? — спросил Озол.
— Если перед нею на столе не будет улик, то мы абсолютно ничего не узнаем, — сказал Кадикис. — Черт ее знает, — под конец он начал сомневаться, — или она очень хитра, или же мы ее зря подозреваем. Иногда бывает так: стоит лишь высказать подозрение о ком-нибудь, и каждое слово и даже взгляд этого человека начинает казаться подозрительным. Я вспоминаю подполье, когда провокаторы применяли такой прием: навлекали подозрение именно на наших лучших товарищей. В последнее время Расман стала как бы серьезнее. Вертится вокруг Ванага и Зенты, которые по вечерам вместе учатся. И сама в перерывах между телефонными разговорами смотрит в школьные учебники. Как-то даже попросила почитать «Краткий курс истории партии».
— И ты дал?
— Нет. Мне самому нужен. Если действительно захочет, то достанет, — закончил Кадикис.
— Да, сложное дело, — вздохнул Озол. — Но их нужно изловить. Они парализуют всю нашу работу. Люди запуганы, боятся чем-нибудь выделиться. Даже скрывают их преступления. Вон как у сапожника Вевера вышло. Кстати, разве на основании его показаний нельзя было арестовать пройдоху Миглу? Хотя бы за кражу ремня?
— А как докажешь, что он украл? — заметил Кадикис. — Если он и сознался бы, что заказывал сапоги, так это еще не значит, что он стащил приводной ремень на мельнице. У него самого есть молотилка, почему он не мог изрезать на подметки старый ремень? И если захочет, может сказать, что сапоги продал.
— Но почему он отрицает? Как он это объяснит на суде? — рассуждал Озол.
— Почему отрицает? Это он тоже сможет объяснить. Боялся, что его примут за спекулянта, — сказал Кадикис. — Мне кажется, что эта шайка попадется. Только вся вместе. Преждевременно изъять из их цепи одно звено — значит насторожить остальных. Пусть они пока не догадываются, кого мы подозреваем и за кем следим.
— Комсомольцы предупреждены? — спросил Озол.
— Пока нет, — ответит Кадикис. — Боюсь, что молодежь слишком резко изменит свое отношение к Майге и этим выдаст нас. Но у них возникло естественное стремление к самоохранению на основании личной антипатии. Но тут, кажется, надо благодарить вашу дочь.
Озол направился было домой, но потом вспомнил, что заодно надо проведать и Салениека. Возможно, весенние работы уже завтра увлекут его в такой круговорот, что будет трудно найти время для спокойной беседы.
Салениек лежал на кровати. Синеватое осунувшееся лицо без слов свидетельствовало о том, что он с трудом отвоевал у смерти свою жизнь. При виде Озола его глаза все же оживились и он даже попытался приподняться.
— Врач разрешил вам вставать? — спросил Озол, пожимая Салениеку руку. — Вы лежите. Значит, тяжело ранены?
— На тыловом фронте, — поморщился Салениек.
— Фронт есть фронт, — сказал Озол. — И если удар был направлен именное вас, значит, говоря военным языком, враг считает вас важным участком этого фронта.
— Я мало успел сделать, — пожалел Салениек, — всего лишь один доклад.
— Ничего, успеете больше, — сказал Озол.
— Посмотрим, что будет, — неопределенно протянул Салениек.
— Что будет? Кризис преодолен. На Майский праздник сможете взойти на трибуну, — обнадеживал Озол.
— Я не знаю… еще раз это пережить… Нет, я не могу вам сказать, что мне больнее — ссадины или моральное унижение, — Салениек заворочался и сморщился от боли. — Этакие выродки, и еще осмеливаются тебя топтать и бить!
— А подумали ли вы, сколько миллионов людей претерпели еще более ужасные мучения и унижения! — воскликнул Озол.
— Я, кажется, плохой борец, — вздохнул Салениек. — Когда я начал связно думать, моим единственным желанием было скорее выздороветь и уехать отсюда. Все равно куда, но только не оставаться здесь.
— Это была бы капитуляция, — возразил Озол. — Притом нелогичная. Если так, то было бы проще обещать тогда бандитам отказаться от проповеди коммунизма. После этого они, действительно, стали бы над вами издеваться: «Ага, парень, разыграл героя, но все же струсил!» Отбросьте эти сомнения и чувствуйте себя раненым, который хочет скорее вернуться на фронт. К тому же с решимостью — бороться еще ожесточеннее.
— Вы меня пристыдили, товарищ Озол, — застонал Салениек.
— Чем?
— Напомнили мне о том, каким должен быть советский человек. Это тема, на которую я говорил другим и за которую избили меня бандиты. Спасибо, что напомнили, спасибо! — он схватил руку Озола и попытался пожать ее. — Я не уеду! Никуда не уеду! Я им еще покажу, как проповедуют коммунизм!
— Только об одном я вас попрошу, — продолжал он после короткого молчания. — Дайте мне оружие! Как это ужасно, чувствовать себя беспомощным перед такими зверями.
— У вас раньше могло быть оружие, — напомнил Озол, — почему вы не вступили в истребители? Тогда, быть может, и не произошло бы этого. Бандиты храбры только перед безоружным.
— Тогда… тогда я думал иначе, — признался Салениек. — Мне казалось, что истребители — это нечто вроде… полицейских.
«Вот бедняга, — подумал Озол, уходя. — Все еще мечется в противоречиях. Убеждение идейного человека перемешивается в нем с пассивностью буржуазного интеллигента-белоручки. Закалку, закалку, вот что ему нужно!»
Вечером Озол погрузился в изучение данных о семенном фонде; чтобы легче было запомнить, он отмечал крестиком хозяйства, у которых зерна хватало, черточкой — у которых его недоставало. Против хозяйств, у которых могли быть излишки зерна, ставил красным карандашом второй крестик. Вот у Миглы, Думиня, Саркалиене и других богатеев определенно имеются излишки. Надо только подумать, как добиться, чтобы они не сидели, словно драконы, на своих мешках с хлебом. Пойти к каждому на дом? Они пообещают и подпишутся, и потом распустят слухи, что Озол угрозой заставил их поделиться зерном Этого от них можно ожидать. Предложение должно быть публичным и согласие тоже. Надо провести собрания по десятидворкам. Пусть уполномоченные соберут своих людей в один дом, тогда каждый сможет лучше высказать, что у него на душе. Завтра же надо начать с ближнего конца волости. В эту десятидворку входит и усадьба Миглы, а он самый изворотливый из всех кулаков. Его надо прижать первым, чтобы не успел придумать, как половчее увильнуть.
Крестик и черточка, черточка и крестик, да к нему еще красный крестик — за этим прошел вечер. Маленькая лампочка выгорела досуха. Больше нельзя сидеть, а то на завтра и на послезавтра не хватит керосина. Проклятый приводной ремень! Нет света. Нет муки. Оля сегодня варила зерно и пропускала через мясорубку, чтобы примешать к тесту. Вчера она толкла в ступке ячмень на крупу. Получается, что немцы отбросили нас далеко назад. Теперь мы мечтаем о достижениях техники, которые у нас уже когда-то были и превзойти которые уже тогда было нашей целью. Однако все же вам, дьяволам, пришлось испытать нашу технику, нашу военную технику! Напрасно радуетесь, что мы остались без света и хлеба. После победы все у нас появится!
Темную ночь сменило светлое, солнечное утро. На рассвете немного подморозило, но ледяная корка была не настолько толстой, чтобы противиться теплой солнечной волне. Под крышами, на подветренной стороне, длинные ледяные сосульки вскоре начали таять и слезиться. Весна приближалась большими шагами. Об этом настойчиво говорила синица, усевшаяся на сиреневую ветку; она напоминала, что пора ковать лемехи.
Озола с самого утра охватило странное беспокойство. Несколько лет назад он чувствовал себя ответственным только за свою семью и за свой небольшой клочок земли. А теперь он отвечает за всю волость, за всех ее жителей. Отвечает перед уездными организациями, а те — перед руководителями республики, республика, в свою очередь, — перед всем Советским Союзом. От него, Озола, ждут, чтобы волость стала единым организмом, в котором каждый житель согласованно работает с соседями и служит великой цели. На этом организме есть еще болячки старого мира — бандиты, вредители, распространители нелепых слухов. Тут, очевидно, не обойтись без хирургического вмешательства.
Насилу он заставил себя обратиться непосредственно к заботам этого дня. Попросил Мирдзу сходить к уполномоченному десятидворки Акментыню, чтобы тот к вечеру созвал своих людей на собрание. Вместе с дочерью Озол дошел до имения, куда завернул, чтобы посмотреть, как хозяйничает Ян Приеде.
Яна он нашел в большом сарае, где тот любовался тремя жнейками. Очевидно, они только что были получены и Приеде еще не успел их осмотреть.
— Здорово, хозяин! — весело крикнул Озол. — Ишь, разбогател. Как бы не возгордился.
— Что ты, что ты, — отмахнулся Ян обеими руками. — Я вот смотрю, хорошие машины. Почти новые.
— Будут ли они под силу твоим клячам? — шутил Озол.
— Да ну, неужто парой не потянут?
— Конечно, будешь стегать, так потянут, пока дух вон, — подзадоривал его Озол.
— У меня только один немного послабее, — простодушно принялся рассказывать Ян. — Иногда у него ноги не гнутся. Наверно, в конюшне Калинки ревматизм схватил. Остальные потянут.
— Ну, не скрытничай, покажи мне твоих кляч, — Озолу хотелось поскорее посмотреть, как теперь выглядят лошади.
Ян не заставил, как в свое время Калинка, упрашивать себя. Он так проворно зашагал к конюшне, что Озол с трудом успевал за ним.
Двери конюшни были распахнуты, и там внутри кто-то орудовал щеткой.
— Но скажи, где ты взял этих лошадей? — Озол состроил удивленное лицо. — Тракторная станция новых, что ли, дала?
— Как? Разве не помнишь? Зимой ведь при тебе переводили, — в свою очередь удивился Ян.
— Помню, но это не те лошади! — воскликнул Озол.
— Как же не те? — возразил Ян. — Вот — две вороные, четыре гнедые и одна рыжая кобыла. А одна гнедая стоит отдельно, она ожеребилась. Чесоточных вылечили. Ты сам лекарство присылал.
— Ну, послушай, Ян, я как сейчас помню, что это были за лошади! Кожа да кости! Я уже думал, что они больше не жильцы, но мы увели их, чтобы напоследок хоть погрелись в теплой конюшне. — Озол совсем сбил с толку Яна.
— Да нет же! — не соглашался Ян. — Если лошадь как следует кормить, она поправится.
— Ведь это львы, а не лошади, — хвалил Озол, любуясь откормленными и вычищенными животными. — Тебе за такую работу надо медаль дать. — Он посмотрел на Яна и увидел, что его лицо озарила гордая и радостная улыбка: его работу оценили, ее признали и похвалили.
— Я покажу тебе жеребят, — ему не терпелось свести Озола в смежное отделение, словно он боялся, что Озол может уйти, не посмотрев.
— Буланый весь в мать. Такой длинноногий. Другая — кобылка, гнедая, с отметиной на лбу.
Жеребята, услышав голос Яна, радостно заржали. Они выбежали навстречу и мягкими мордочками ткнулись в его руки.
— Пошли, пошли, — ласково отгонял их Ян. — Как дети, все ждут, чтобы принесли полакомиться. Эй, ты, Банга, — крикнул он на гнедую кобылу, — опять разлеглась. Она у нас такая грязнуха, — объяснил он Озолу. — Ложится куда попало.
Налюбовавшись на поправившихся лошадей, они вышли из конюшни. Озол думал, что Яну больше нечего показывать и что тот ведет его в дом. Но Приеде зашагал в сторону коровника, и Озолу пришлось последовать за ним.
— Теперь я тебе покажу еще одни хоромы, — сказал Ян, открывая двери, и Озолу послышалась в его голосе гордость, у него, мол, есть что показать. И в самом деле — в коровнике стояли и лежали пять бурых коров, они неторопливо жевали, шевеля ушами. Потом надо было осмотреть телят и овец, а в отдельном хлеву — огромную тучную свиноматку. Вот каким богатым стало хозяйство Яна. Этих новых питомцев он получил из МТС еще при старом директоре.
— Теперь здесь Эмма хозяйничает, — рассказывал Ян. — Эмма Сиетниек, ну — сестра Густа Дудума, — напомнил он. — Не могла больше вытерпеть у этого старого злыдня, говорит она, вот и пришла сюда. Двое ребят у нее ходят в школу. Летом пособят на работах. Умный паренек у нее — этот Эдвин. Когда приходит по воскресеньям домой, то читает нам книги. И чего только не услышишь!

— Жить веселее, когда молодежь в доме, не так ли, Ян? — улыбаясь, говорил Озол.
— Конечно, веселее, — подтвердил Приеде. — Вот девочка, Гайдиня, эта любит петь. Эмма говорит, что в доме Густа рта не раскрывала. А теперь — как иволга.
— Теперь Калинка к тебе с водкой не пристает? — вспомнил Озол.
— Один раз пробовал. В самом начале. Пришел с бутылкой самогона. Но Эмма выгнала. Говорит, если еще раз явишься, первой попавшейся палкой перекрещу. Она строгая. Мне, говорит, детей надо воспитывать, а они ничему хорошему у пьяниц не научатся.
Они вытерли ноги о разостланные перед кухней еловые ветки и через сени прошли в кухню. Здесь все блестело — стены, белая изразцовая плита, латунные дверные ручки и кран от водопровода. Озол вспомнил, как хозяйничала здесь зимой Розалия Мелнайс, и теперь в самом деле не узнал кухни. А Ян уже рассказывал:
— Когда я сюда перебрался, здесь было грязнее, чем в батрацкой у Думиня. Но Эмма сказала: «Я в таком хлеву жить не стану. Ты мужчина — выбели стены, а я выскребу всю грязь».
— Выходит, Эмма серьезная женщина? — похвалил Озол.
— Все аккуратно делает, будь то для скотины или для человека, — восторгался Ян.
Вошла Эмма, высокая и стройная, в белом фартуке. Поздоровавшись с Озолом, она побранила Яна за то, что принимает гостя на кухне и не приглашает в комнату.
— У вас такая чистая кухня, что приятно в ней побыть, — похвалил Озол, и Эмма, довольная, заулыбалась.
— Так пойдем же в комнату, раз приглашают, — сказал Ян. — Да, кто мог бы подумать, что я когда-нибудь буду жить в имении? Словно какой-нибудь барон.
— Довольно бароны пожили и повластвовали. Теперь и рабочий человек может вечером прилечь на мягкую постель, — ответил Озол, окидывая взглядом комнату с пышно застланной кроватью. — Ну-ка, Ян, расскажи, как ты думаешь справиться с работами. Сколько у тебя земли?
— Сорок гектаров. Все — пахота да луга.
— Тогда тебе нужно больше работников. Лошадей тоже маловато. Иначе новохозяевам ничем не поможешь.
— Да я ведь не знаю, могу ли сам нанимать людей, или нет, — сказал Ян. — Старый директор МТС говорил — если можешь сам найти хорошего человека, бери. А теперь новый по-другому — сам не нанимай, я тебе пришлю. А Эмма говорит — если понашлют нам всяких лентяев, толку не будет.
— Почему старого директора перевели на другое место?
— Да на какой-то другой МТС надо было навести порядок. А того, оттуда, прислали к нам.
— Ах, вон что, — проворчал Озол. — А как же у тебя с семенами — есть?
— Семена получил еще от старого директора, от Гравитиса. Но теперь новый, Трейманис, говорит, что часть заберет обратно. Будто слишком много выдано.
— На самом деле слишком много?
— Да нет же! — загорячился Ян. — Едва-едва хватит, чтобы все засеять. Картофеля маловато. Свинья опоросится, и Эмма говорит, что весь приплод держать надо. Чем кормить будем, если картофеля не будет?
— Ты семян не отдавай ни одной горсти, — сказал Озол. — Подумай, что будет, если поля останутся незасеянными? Вся волость пальцами начнет указывать. Плуги в исправности?
— Надо бы еще кое-что починить, — признался Ян. — Мы там, на кузнице, сами пробуем, да плохо спорится, не как у кузнеца.
— А разве ты не можешь взять Саулита заведующим кузницей?
— Да я ведь и хотел. А директор говорит — пришлю. И до сих пор все присылает.
— Если ты не поторопишься, то мы возьмем Саулита к себе. Откроем в местечке большую кузницу.
— Да, но что я могу поделать, если директор говорит — я пришлю! — заволновался Ян.
— Тебе нужно на него нажимать покрепче, чтобы скорее решал, — посоветовал Озол. — Видишь, весна не ждет.
— Завтра же съезжу, — решил Ян.
— Подай ему письменное требование, — настаивал Озол, допуская, что Трейманис бюрократ. — А то потом еще скажет, что вовремя не позаботился.
Когда они снова вошли в кухню, Эмма уже поставила на стол обед, она и слушать не хотела, что гость уйдет, отказавшись закусить. Настаивал и Ян, как умел. Чтобы не обидеть приветливых людей, Озол сел за стол. Эмма налила в тарелки молочную похлебку, нарезала ржаного домашнего хлеба, и они принялись за еду. Озол вспомнил угощение, приготовленное ему и Ванагу в доме Миглы, от которого они отказались. Как вкусна бывает самая простая еда за столом с хорошими людьми и какими противными могут показаться изысканные блюда, если их подают с корыстной целью подкупить, выказать притворную любезность, чтобы вынудить и тебя быть любезным и уступчивым. У этих же людей нет никаких задних мыслей, им нечего скрывать, они делают свою работу честно, быть может, даже не сознавая ее значения, делают так, потому что иначе не умеют.
— Вы не обиделись тогда, что так получилось с наделом земли? — спросил Озол Эмму. — В тот раз могли, да и сейчас еще можете, попросить землю в другом месте.
— Потом я сама поняла, что никакого толка на земле Густа все равно не было бы, — спокойно ответила Эмма. — Опять пришлось бы на него работать. Просить теперь? Сын собирается в город учиться, его к машинам тянет. Что я одна смогу без своего пахаря?
Озолу показалось, что она исподтишка бросила на Яна многозначительный взгляд, но тот как ни в чем не бывало отправлял в рот ложку за ложкой и закусывал хлебом.
— И так неплохо получается, — продолжала Эмма. — Главное, тебя никто не ругает. Дети тоже могут спокойно учиться.
— Значит, Ян вас не ругает? — улыбнулся Озол. — Хороший начальник?
— Да за что же ругать, если все исправно делает, — проворчал Ян.
Озол посмотрел на часы. Пора идти на собрание десятидворки. Он поблагодарил за обед и простился, пообещав еще как-нибудь заглянуть.
Уполномоченному десятидворки Акментыню удалось собрать всех своих людей. Даже Август Мигла сидел, забравшись в угол потемнее, притворяясь, что не видит Озола и не замечает, что тот видит его.
Озол начал свою речь. Рассказал, как далеко продвинулась Красная Армия, напомнил, какой ущерб нанесли немцы всей стране, и в частности Латвии.
Когда он кончил и Акментынь предложил начать запись, кто сколько может сдать в семенной фонд, первым встал Пакалн.
— Правильные слова товарищ Озол сказал. Так нельзя землю поганить, как в прошлом году. От этого нам всем плохо. Если бы бодяк и сурепица разрастались только на пустующих полях, тогда еще ничего. Но они угрожают перекинуться и на другие. Так мы по уши зарастем сорняками. Ясно, что нужно помочь соседу семенами. Я сам считаю, что пять пур пшеницы и пять пур овса могу одолжить другим. О картошке я уже договорился с Марией Перкон, дам ей столько, чтобы хватило для посадки. Запиши так, как я сказал.
Еще один хозяин поддержал Пакална, потом кто-то заворчал, что настоящий хозяин должен приберечь семена для будущего года, разве можно знать, что этим летом уродится. Но если уж на то пошло, то он может дать три пуры ячменя и, если кому понадобится, пуру яровой ржи.
Озол наблюдал, как Август Мигла, прячась за спинами других, все больше съеживался, втягивал голову в плечи и наконец совсем нагнулся к своим ботинкам, словно хотел затянуть развязавшиеся шнурки.
— Что ты Август, кошелек уронил, что ли? — невинно спросил сосед.
Мигла встрепенулся, как лунатик, которого внезапно окликнули.
— Нет, нет, — бормотал он, — я так. У меня шнурок развязался.
— Ты, слышал, записывают, кто сколько может дать семян? — толкнул его сосед.
— Ах, так. Мне уж… — беспомощно мямлил Мигла, но потом передумал. — Да, я тоже мог бы малость выделить. Можно сеять пореже. Ближнему ведь надо помочь.
— Я думаю, что у Миглы сердце такое же широкое, как его клеть, — сказал Озол, не скрывая иронии.
— Нынче там все же пустовато, — пожаловался Август.
— Где, в клети или в сердце?
— В клети, в клети, — торопливо пояснил Август. — Но если ближнему надо помочь, так можно наскрести. Таков уж обычай братьев во христе. От себя можно урвать кусок, но от ближнего никогда.
— Не гони так много самогона, тогда хватит и себе, и ближнему, — бросил кто-то.
— Ах, боже мой, да разве я этим занимаюсь! — обиженно воскликнул Август. — Чего только люди не выдумывают? Не зря в старину говорили, что языком можно человеку даже хребтину сломать.
— Так сколько же с тебя записать? — нетерпеливо спросил Акментынь.
— Ну, пиши и с меня столько же, — великодушно уступил Мигла.
— Сколько это? — не понял Акментынь.
— Ну, сколько записал с предыдущего.
— Тогда и впрямь земля возопит к небу, — заметил Пакалн.
— Ну, пиши и с меня столько, сколько с Пакална, — уступил Август.
— Я думал, что Мигла будет впереди всех, — сказал Озол, — но оказывается, что он, занимаясь небесными делами, стал равнодушным к земным.
— Пиши, пиши, Август, побольше, — выкрикнул кто-то из соседей. — С радостью отдающих земное бог любит. У тебя семян хватит. Не было такого года, чтобы в эту пору возами не возил в город.
— Ну, тогда пиши семь пур овса, — наконец, сдался Мигла.
— Так. А еще? — спросил Акментынь.
— Разве еще? — встрепенулся Август. — Ах да! Ну, тогда пиши еще… сколько Пакалн дал пшеницы?
— Пять пур.
— Тогда пиши пять пур пшеницы.
— Так. А еще?
— Разве еще?
— Август, пиши картошку! Она у тебя все равно до следующей весны сгниет! — подсказывали Мигле.
— Ах, картошку тоже можно? — притворяясь непонимающим, переспросил Август. — Значит, и картошку можно? Ну, тогда пиши десять пур.
— Пиши двадцать, не позорь своего двора!
— Пусть будет двадцать, — вздохнул Август, откинувшись на спинку стула.
«Каждое зерно нужно вытягивать, как гвоздь из новой доски, — думал Озол, шагая в темноте домой. — Хорошо, что крестьяне сами помогали нажимать на более жирных и скупых. А лучше всего, когда такие, как Пакалн, отзываются первыми. Да, теперь изо дня в день придется раскусывать такие твердые орехи».
Дома ожидала свежая «Циня». Озол погрузился в чтение. Борьба на двух фронтах — военном и восстановительном — красной нитью проходила по каждой странице. Но разве это два фронта? Нет — это один фронт. Когда бойцы, преследуя врага, устремляются вперед, сразу же за ними следуют тыловые части — исправляют и строят мосты, восстанавливают разрушенные железные дороги, засыпают вырытые ямы, чтобы связать фронт с питающими его центрами глубокого тыла. Мирные жители являются нынче фронтовиками, и кто этого не сознает, должен быть приравнен к дезертиру.
Он наткнулся на короткое сообщение из какой-то волости, где крестьяне почти уже выполнили полугодовой план поставок молока и мяса. Сегодня он совсем забыл затронуть вопрос о поставках. На завтрашнем и других собраниях десятидворок непременно надо будет поговорить об этом. Вдруг он вспомнил, что до сих пор не поинтересовался, как дела в его собственном хозяйстве. Сдано ли что-нибудь. Как бы кто-нибудь не указал — нас, мол, учишь, а у себя порядка не навел.
— Оля, — позвал он, — ты масла сдавала сколько-нибудь?
— Немного сдала — в феврале, — ответила Ольга. — Но многие не сдавали вовсе.
— Это для нас не оправдание. У тебя ничего не накопилось?
— Есть кое-что. Я хотела послать на базар. Мирдзе надо бы к лету платьице. Говорят, что у спекулянтов за масло можно что угодно купить, — рассказывала Ольга.
— Мирдза как-нибудь обойдется. Завтра же надо будет сдать всю норму, — сказал Озол.
— Неужели это так спешно? — не соглашалась Ольга. — Скоро корова пойдет на травку, молока будет больше, тогда и сдадим.
— Будем ждать мы — будут ждать остальные, а тем временем Карлен на фронте пусть потерпит. Пусть погрызет сухари, — мягко упрекнул Озол.
— Ой, как же я об этом не подумала! — смутилась Ольга. — Я думала, что там их всем обеспечивают.
— Конечно, обеспечивают. Но нигде ничего с неба не падает.
— Я завтра же сдам, а Мирдза перешьет себе из старой юбки, — Ольга засуетилась, словно еще сегодня вечером хотела отнести масло, чтобы оно скорее попало к Карлену.
Одно должны понять все матери — войну надо кончать как можно скорее, и чем быстрее она кончится, тем больше у их сыновей надежды остаться в живых — в каком лагере они бы ни были. Каждый день требует жертв, и среди них может оказаться и мой, и твой, и еще чей-нибудь сын. Это он скажет матерям и отцам, и они поймут.
20
ПОБЕДА
В тот вечер Озол пришел домой усталым, но радостным. Он обошел значительную часть волости. Всюду на полях хлопотали люди, правда, в одиночку, — словно кем-то разбросанные и даже какие-то жалкие и одинокие в своей борьбе с не вспаханными осенью полями, но все-таки уверенные, что волна войны обратно не покатится. Беседуя с ними, он мог сообщить, что Красная Армия водрузила в Берлине над рейхстагом красное знамя победы, и ему отвечали: «Значит, скоро окончится!» Победа! Слово это как бы звенело в чистом весеннем воздухе, о победе пели жаворонки, о ней шелестели набухающие почками рощи и обычно угрюмые боры.
Тяжело людям на весеннем трудовом фронте, Озол остановился, чтобы поговорить с Балдиниете, которая сама ходила за плугом на прошлогоднем жнивье. После каждой борозды она останавливалась, чтобы вытереть пот и дать отдохнуть рукам. Маленький Ваня там же пас овцу и двух ягнят.
— Что же это такое, — весело воскликнул Озол, — почему же ты не пускаешь мужчину к плугу?
Она улыбнулась:
— Нынче у всех одинаковые права — что у мужчин, что у женщин. Раньше было не так. Потому только этой весной научилась пахать. К вечеру Володя прибегает из школы и боронит. Ох, трудновато. Кончилась бы скорей эта ужасная война!
Он рассказал ей о взятии Берлина, и в глазах пожилой женщины сверкнули слезы.
— Наконец-то прикончат этих зверей! Может быть, и мои сыновья вернутся… Живы ли они?
Потом он поговорил с Пакалном. Трудно старику. Прямо неудобно было подходить к нему, казалось, он мог упрекнуть: «Чего расхаживаешь, как раньше надсмотрщик? Возьмись-ка лучше за плуг!» Пакалн не сказал этого, даже пошутил, но было видно, что старик сильно устал. Надо поговорить с Мирдзой, пусть устроят хотя бы воскресник, чтобы по крайней мере поднять жнивье. Коннопрокатный пункт дополнительно лошадей не получил. На четырех пахали землю пункта, одна еще больна, и ее нужно лечить, две выделены в безлошадные хозяйства: Марии Перкон и Эльмару Эзеру. Не хватает, всюду не хватает рук и тягла, но все же чувствуется, что жизнь идет вперед; хотя и медленно, но борозда ложится за бороздой. Семена уже розданы и ждут, когда их бросят в землю.
Войдя на кухню, Озол увидел Мирдзу, которая процеживала вечерний удой. Он хотел поздороваться с ней, но дочь подняла на него воспаленные, заплаканные глаза. Озол остановился. Некоторое время они смотрели друг на друга, он пытался угадать, что могло произойти, а она не находила слов, чтобы сообщить о случившемся. Ее молчание и заплаканные глаза вселяли самые страшные предчувствия. И все же не хотелось верить, хотелось, чтобы все оказалось лишь маленьким личным горем Мирдзы, которое в молодости так быстро возникает и столь же быстро проходит. Но она не прятала своего лица, а смотрела отцу прямо в глаза, и это говорило совсем о другом.
— Мирдза, разве… — нарушил он молчание, но у него не хватило силы, чтобы продолжать.
Она подошла к нему, положила ему руки на плечи и прошептала:
— Да, папа. Карлен… погиб.
Два слова. Роковые слова, которые миллионам родителей доставляли в эти годы столько горя, которые говорили миллионам детей и жен, что они стали сиротами и вдовами. И вот эти слова сказаны ему и Ольге. Их сына больше нет. Есть лишь его могила — одинокая или общая. Перед ней стояли товарищи с непокрытыми головами, прозвучал последний салют, потом — живые двинулись вперед — на запад, отомстить за погибших товарищей, отомстить за родину и страдания народа. Но Карлен уже не может пойти вместе с ними, земля держит его в железных объятиях, и никогда он не увидит солнца, которое в неизменном сиянии ежедневно будет совершать свой путь над его могилой. Он уже не услышит жаворонков, которые после грохота орудий снова зальются своей вечной песней о радости и весне. И когда прозвучит победный салют, они будут знать, что у них уже нет сына и некого больше ждать.
Вдруг он вспомнил об Оле и сиплым голосом с трудом спросил:
— А мать… знает?
Мирдза кивнула головой.
— Плачет?
— Не плачет. Сидит и смотрит в одну точку. Не говорит.
Озол знал, что он должен пойти в комнату, попытаться вывести Ольгу из оцепенения. Пусть она лучше плачет, мать не может не плакать по своему ребенку, но пусть не смотрит в одну точку. Он знает, что она видит — своего единственного сына, истекающего кровью. Надо идти. Но ноги стали тяжелыми, как набухшие от воды бревна. Как их заставить перешагнуть через порог?
Собравшись с силой, он заставил себя двинуться. Открыл дверь и шагнул в комнату. Там сидела Ольга и слепыми, устремленными вдаль глазами смотрела на стену. Перед нею не было стены, не было ничего, кроме пустоты, в которой временами мелькало лицо сына. Мелькало и исчезало, так как над ним кружил песок, сухой песок, который накапливался, приобретал форму продолговатой прямоугольной могилы. В могиле лежал Карлен, ее любимый сын, холодный и безмолвный, и не было такой силы, которая открыла бы в земле узкую щель, чтобы выпустить его на поверхность. Мир внезапно стал большой бесцветной пустыней, где однообразно, не унимаясь, кружит песок, кружит бесшумно, беззвучно. В мире нет больше звуков, она не слышит, как Юрис что-то говорит, зовет ее по имени. Она знает, что он зовет ее, что он говорит слова утешения, но они не доходят до нее. Ее уши забиты песком, полны песка и глаза, которые не видят Юриса, стоящего рядом; да, он стоит рядом, но она его не различает, только сознает, что он находится поблизости. Он кладет ей на плечо руку, она и это сознает, но не чувствует, ибо превратилась в застывшее изваяние. Окаменевшая женщина сидит посреди пустыни, как памятник на могильном холмике, под которым покоится ее сын, ее любимый, единственный сын.
Она наконец чувствует, как на ее голову, на ее окаменевшую голову, падает теплая капля, затем еще одна, еще и еще. Пусть падают, пусть увлажняют песок, тогда на могиле Карлена пробьется травка, ветры принесут пушинки одуванчика, те прорастут и зацветут, желтые, как солнце, как солнечные зайчики, которые Карлен в детстве ловил на стене, когда Мирдза играла с зеркальцем. Мирдза была сестричкой Карлена. Была? Как трудно это представить. Нет, она существует где-то вне этой пустыни. Там существует и Юрис, который когда-то играл с детьми, усадив их к себе на колени. Малыши весело смеялись, держась друг за дружку. Как же это случилось? Была семья: муж, дочь, сын… А теперь остались только Карлен в своей могиле и она, окаменевшая от горя женщина. Но дождь льет и льет, ее каменные волосы стали мокрыми, и теплая влага просачивается все глубже, камень рыхлеет. Она уже чувствует — тяжелая рука лежит на ее плече. Это рука Юриса. Значит, он не где-нибудь в другом месте. Он здесь, рядом, он обнимает ее плечи, его рука тяжела и временами вздрагивает. Но на ее голову продолжают падать теплые капли, и вдруг она поняла, что это слезы Юриса, что он плачет по своему сыну, — на ее волосы падают слезы отца Карлена, они проникают в ее окаменевшее сердце, оно начинает пульсировать и мощной волной гонит по жилам что-то теплое. Вот это теплое уже подкатило к глазам, давит и внезапно прорывается, прокладывая дорогу прегражденному ручью, который теперь начинает мчаться по щекам и, как ливень, орошает сложенные на коленях руки. Она плачет! Плачет и Юрис, обняв ее, прильнув к ее плечу. Теперь она отчетливо чувствует, как в его груди бушуют мучительные рыдания, и это так необычно, что он плачет. Плачет Юрис, которого она никогда не видела плачущим.
— Юрис! Милый Юрис! — воскликнула она и припала к его груди, заплакав навзрыд, как ребенок. Юрис гладил ее волосы, щеки, руки, но всюду, куда он обращал свое лицо, оставались следы слез — теплая влага с соленым привкусом, ощущаемым Ольгой, когда капля скатывалась на ее губы. И ей стало так жаль сильного, всегда спокойного мужа, порыв нежности согрел сердце, она почувствовала себя его матерью, которой надо быть сильнее ребенка и найти для него слова утешения.
— Юрис, милый Юрис! — повторяла она и сама начала гладить его голову, склонившуюся теперь к ее груди. Ее глаза прозрели, она четко, необычайно четко увидела седые нити в его русых волосах и заметила, что на висках седина гуще. Неужели седина появилась лишь теперь за несколько мгновений, ведь она не замечала ее раньше? Почему она не пыталась заглянуть в сердце Юриса, не понимала, что в долгие военные годы его мучили мысли о судьбе ее и детей и он, наверное, ругал себя и проклинал, что уехал, не успев взять их с собой, или не остался защищать их.
— Милый Юрис! — повторила она еще раз и попыталась поднять его голову, чтобы посмотреть ему в глаза. — Это надо перенести… Что же поделаешь? Надо перенести… — шептала она, не находя других слов, чтобы утешить его. — Соберемся с силами… Перенесем…
Эти немногие слова, теплота и сочувствие в голосе Ольги, вырвали Юриса из острых когтей отчаяния. Как же это получилось, что его, обычно утешавшего Ольгу, теперь утешала она, подавленная скорбью женщина, все это время глядевшая в свое горе, как плакучая ива в поток.
— Оля, ты… ты утешаешь меня! — заговорил он тихим, усталым голосом. — Надо перенести… Будем переносить вместе.
— Только не плачь, Юрис, — умоляла Ольга, гладя его голову. — Не будем плакать.
Но слезы текли из ее глаз, и она не могла их сдержать.
В слезах этих уже не было прежней опустошительности.
Они не стыдились своих слез, не старались их скрыть, чувствуя, что надо дать им волю, чтобы они не остались невыплаканными, не накопились бы в груди и не затвердели, как камень.
Через некоторое время открылась дверь и тихо, словно в комнату больных, вошла Мирдза. Видно было, что она опять плакала в одиночестве, не решаясь беспокоить родителей в эту тяжелую для них минуту. Но потом она вспомнила, что на столе остались два письма — краткое извещение о смерти Карлена и еще одно, более объемистое, которое она вскрыла, но не успела прочесть. Под ним была подпись — Митя. Она хотела спрятать оба письма до завтра, когда у отца и матери хотя бы немного утихнет боль, чтобы эти письма новым напоминанием не бередили родителям еще свежую рану.
— Мирдзинь, ты, наверное, уже убралась по хозяйству? — заметив ее, сказала мать таким тоном, словно провинилась перед дочерью, взвалив на нее домашние хлопоты, а сама освободилась от всего, чтобы в это время побывать на могиле Карлена.
— Я все сделала, мамочка, — ласково ответила Мирдза и медленно направилась к столу. Но когда она протянула руку за письмами, мать повернулась к ней, сразу сообразив, для чего Мирдза пришла, вспомнила, что Юрис не читал извещения, да она и сама не читала — сразу обо всем догадалась, увидев, как сильно побледнела дочь.
— Дай, Мирдзинь, пусть отец прочтет, — она протянула руку. — И зажги свет.
Только теперь она заметила, что уже темно и миновали долгие часы с тех пор, как Гаужен мимоходом занес письма.
Озол взял краткое извещение и, сразу же переводя, прочел Оле:
«Ваш сын, Карл Юрьевич Озол, пал смертью храбрых в боях за Кенигсберг 9 апреля 1945 года».
— Второе — от Мити, от друга Карлена, — поспешила сказать Мирдза. — Оно подлиннее. Может, прочтем лучше завтра?
Озол чувствовал, что его глаза устали и при слабом свете, даже от нескольких строчек, уже начали болеть. Он провел по ним рукой и смахнул оставшуюся на ресницах влагу. Он видел — Ольге не терпелось узнать, что пишет Митя о ее сыне, о последних днях и минутах его жизни, но Озол не был в силах прочитать письмо. Нет, только не сегодня, Оле тоже надо отдохнуть.
— Прочтем завтра, — сказал он. — Пойдем спать.
Он помог Оле раздеться, укрыл ее и лишь после этого лег сам. Некоторое время они молчали, каждый ожидая, чтобы другой уснул первым. Но сон бежал от них, и вскоре они поняли, что оба видят одни и те же картины прошлого, которые память хранит неприкосновенными, пока близкие люди живы, и обращается к ним, только когда мы теряем кого-нибудь.
— Ты помнишь, как Мирдза радовалась, когда Карлен впервые улыбнулся? — заговорила Ольга. — «Блатик смеется!» — говорила она. А ты помнишь, как он начал ходить? Идет и спотыкается, но сердится, когда его поддерживают. Хочется самому!
— А помнишь?.. — так начиналась каждая фраза. Да, надо привыкать к тому, что все, связанное с Карленом, будет лишь воспоминанием, книгой прошлого, перелистываемой в часы одиночества. Завтра, послезавтра жизнь увлечет их в бурлящий водоворот, работа, хотя бы силой, заставит оторваться от воспоминаний, ибо жизнь не может остановиться и работа не может оставаться несделанной, подъем в гору надо продолжать еще напряженнее. Полки Красной Армии приближаются к победе, но пока не отзвучит последний выстрел, еще многие матери и отцы получат такую же скорбную весть. И как бы эта весть ни потрясла, как бы ни прижала к земле, надо подниматься, надо работать.
Озол дал Оле вдоволь наговориться, побродить в памяти по самым заветным тропинкам, пройденным вместе с Карленом. Она не может не думать о своем сыне и правильно поступает, что делится с ним. От этого их горе становится общим, они вместе как бы испытывают тяжесть песка, покрывающего теперь Карлена.
К утру Ольга перебрала все, что сохранила память, вплоть до того дня, когда сына увели шуцманы, чтобы отправить в немецкую армию. Как он сдерживал себя, чтобы не огорчать мать, издали оглянулся и помахал рукой. В последний раз…
Еще сильнее, чем когда-либо, чем в тот день, когда пришло от Карлена первое письмо с вестью, что он перешел на сторону Красной Армии, Озолом овладела гордость, что его сын нашел путь к полкам армии, несущей на своих знаменах звезду свободы. Ему надо было высказать это Ольге, чтобы и она поняла, какой у них вырос сын, — может, незаметно для них самих унаследовавший дух свободолюбия, царивший в их семье.
— Оля, наши сердца теперь — как открытые раны, — сказал он, прижимая ее руку к своей груди. — И единственное утешение — это сознание, что не случилось хуже.
— Что же может быть хуже смерти? — простонала Ольга, не поняв его. — Я за это время все передумала. Пусть он возвратился бы без ног, без рук, думала я, мне бы не надоело ходить за ним, кормить его, если бы он сам не мог, но лишь бы он был жив!
— Да, Оля, это не
было бы самым худшим. Но как было бы оскорбительно для его памяти, если бы он погиб там, на другой стороне. Если бы не успел или не сумел перейти на нашу сторону. Мне кажется, что ему было бы очень стыдно, если бы он даже остался в живых. Ты подумай, как шуцманы, угождая немцам, издевались над ним и какие в нем бушевали чувства, когда эти же самые немцы и шуцманы совали ему в руки оружие и приказывали — стреляй! В кого? В своего же отца, в людей, которых он ждал, как братьев. Ты помнишь, какие радостные были его письма? В каждом слове чувствовался человек, нашедший свое настоящее место.
— Я тоже понимала, что Карлен был горд, что он в Красной Армии, — вспоминала Ольга. — И он всегда был во всем уверен, словно ему ничто не угрожало.
— Даже погибнуть легче, когда погибаешь за близкое, свое дело, — продолжал Озол. — Я тебе, Оля, завтра дам книжки о молодежи Краснодона, о Зое Космодемьянской. Ты увидишь, какие муки приняли советские юноши и девушки и какими гордыми и несломленными они сумели остаться.
— Раньше я всегда думала, что герои — это особые люди, или в других условиях рожденные, или иначе воспитанные, — продолжала Оля свою мысль. — Но видишь, о Карлене тоже пишут, что он погиб геройской смертью.
— В героя человек иногда вырастает в одно мгновение, — ответил Озол. — Иного человека видишь изо дня в день, и тебе в голову не приходит, что он может быть, героем. Простой парень, говорит так, как все, одет в такую же серую шинель. Но случится бой, и вернувшиеся рассказывают, что этот простой парень бросился грудью на вражеский пулемет, заставил его замолчать и помог товарищам прорваться вперед.
— Что, и Карлен мог бы так поступить? — воскликнула Ольга, не то испуганно, не то удивленно.
— Но ведь не только это является геройством. На самом деле почти каждый красноармеец — герой. В мирное время мы никогда не сумели бы себе представить, что человек дни и ночи может лежать в болоте, способен вплавь пересекать широкие реки, в воде которых еще поблескивают осколки льдин. Я вспоминаю, как вся рота смеялась над письмом, в котором жена поучала мужа, чтобы тот берег свои ноги от сырости и почаще переобувался. Смеялся и сам муж. Это был добродушный смех, так как бедная жена не знала, что мы иногда неделями лежали в воде, не переобуваясь.
— Смотри, Юрис, уже совсем светло! — воскликнула Ольга. — Можно прочесть письмо друга Карлена.
Не заснув ни на минуту, они встали и оделись. Словно угадав их намерение, пришла из своей комнаты Мирдза, бледная, со следами вчерашних слез на лице.
Озол вынул из конверта письмо Мити.
«Дорогие друзья! — писал Митя. — Если бы это зависело от меня, то я желал бы, чтобы не мне пришлось писать вам это письмо, пусть лучше бы ваш сын писал моим родителям. А еще лучше — если бы ни мне, ни ему не надо было бы писать это письмо. Карлушу определили в наш взвод в декабре прошлого года. Вначале мы не могли как следует сговориться, но он быстро научился русскому языку. Мы сдружились. Он дружил со всеми, но особенно со мной. Так как он очень сознательно выполнял все боевые задания, то в январе его приняли в комсомол. Карлуша этому очень радовался. Когда стало известно, что нашему полку предстоят ожесточенные бои, мы с Карлушей условились: если один из нас погибнет, то другой напишет его родителям. Карлуша просил, чтобы я писал так: вы не плачьте много обо мне, немцы только этого и хотят, чтобы вы плакали. Но им назло не надо плакать. Нужно давать врагам отпор, где только можно. Наш яблоневый сад они спилили, но вы посадите новый. А Мирдза пусть сделает ту работу, которую делал бы я как комсомолец, если бы вернулся домой. Так он велел написать. Он погиб в большом бою, самом ожесточенном из всех, в которых нам приходилось участвовать. Карлушу похоронили в обшей братской могиле. Он пал за нашу родину, за свой латышский народ. Исполните его последнее желание. И знайте, мы отомстим за смерть Карлуши, мы всыплем немцам так, что они нас долго помнить будут. Советские люди умеют защищать свою родину, потому что нигде нет такой страны, как наша. Это я могу сказать именно теперь, когда нахожусь за границей. Желаю вам всего наилучшего.
Митя».
Для матери было святым каждое слово, сказанное сыном в его последнем завещании, и она опять не могла сдержать слез.
Озол думал о письме Мити. Маленькие соколята — ведь ни тот, ни другой не думали, что погибнут, по крайней мере, не верили этому, как не верит каждый боец. И уговорились они лишь потому, чтобы друг друга и самих себя убедить в том, что они не боятся смерти, что созрели для подвига и самопожертвования. Спасибо обоим за то, что перед боем они подумали о своих близких, помогли матерям перенести горе, помогли им быть достойными своих сыновей. Вот Ольга уже вытерла слезы, тяжело ей не плакать, но на ее лице появляется еще не созревшая решимость исполнить желание сына — не плакать, работой дать отпор немцам — убийцам сына.
Ольга украдкой взглянула на мужа, словно боясь, что тот упрекнет ее в слабости, ведь Карлен велел передать, чтобы не плакали. Она заметила, как посерело за ночь лицо Юриса, какие глубокие складки легли на лбу и вокруг рта, и решила: «Нет, я буду сдерживать себя хотя бы в его присутствии, если уж иначе не смогу, то поплачу одна, чтобы ему не надо было горевать еще и за меня».
Мирдза тихо выскользнула из комнаты и пошла доить корову. «Вот как они оба жалеют меня, — думала Ольга, — Юриса я всю ночь мучила своими разговорами. Не будь этого, он, быть может, на минутку смог бы вздремнуть. Ему ведь предстоит тяжелый день — опять какое-нибудь собрание. Надо позаботиться о завтраке». Только теперь она вспомнила, что вчера никто не ужинал, вчерашний обед еще стоит в плите, так как Юриса весь день не было дома. «Так нельзя, если хочешь жить, — а жить надо, — значит нужно работать. Работа — лучшее лекарство для раненого сердца».
Она захлопотала, убрала комнаты, затопила плиту, поставила на стол завтрак. День вошел в колею. Так надо, так должно быть, живой обязан жить.
Когда Озол уходил, Мирдза в комнате была одна. Он наказал ей, чтобы спрятала письма и не старалась делать вместо матери всю работу.
— Пусть работает до устали, — сказал он, — это будет лучше, чем сидеть и ломать руки. Хорошо, что она так перенесла первые мгновения. Я опасался… — Он не сказал, чего опасался, но Мирдза поняла. Она сама боялась, что мать свалится и даже потеряет рассудок. Ольга собралась с силами, словно всей душой почувствовала, что бойцы Великой Отечественной войны не умирают, что они будут жить вечно в труде народа и в отвоеванной ими свободе.
Настало утро 9 мая. Незабвенное утро в истории человечества. Утро, которого ждали почти четыре года. О нем столько думали, столько мечтали, за него боролись миллионы, и многие сложили головы. Вечная слава им, героям, павшим в боях за честь и независимость родины!
В тот день с самого утра из города во все волости по телефонным проводам мчалась гордая и радостная весть: «Германия капитулировала! Германия на коленях!» Петеру Ванагу об этом сообщил начальник почты Кадикис, которому позвонили из уездного комитета партии. Но только он положил трубку, как снова раздался звонок — уездный комитет комсомола вызвал Зенту, чтобы сообщить ей то же самое. Петер и Зента торопились порадовать друг друга радостной вестью и столкнулись на полдороге.
— Петер! Ты…
— Зента! Знаешь…
— Нет, я тебе расскажу!
— Германия…
— Германия капитулировала!
Лишь теперь Зента заметила, что Петер обнял ее плечи, и она, откинув голову, смотрит вверх и видит, как искрятся радостью его обычно грустные глаза. Она забыла, что слишком долго смотрит в его глаза.
Они молчали, пока Зенте не показалось, что только она хотела еще что-то сказать Петеру, а у него нечего было больше сказать ей. Стремительно, даже слишком стремительно, она вырвалась из рук Петера, желая показать, что у нее в мыслях ничего другого не было. Она и на самом деле не думала о другом, это ей только казалось, что Петер мог воспринять это ее молчание по-своему. И поэтому она весело и беззаботно рассмеялась и, став в позу подчиненного, спросила:
— Может быть, товарищ председатель, вы разрешите секретарше поехать и сообщить эту весть товарищу Озолу?
Петер смутился. Он сердился на себя за то, что так долго обнимал Зенту и почему-то не в состоянии был отпустить ее; он сердился, что, забывшись, быть может, напугал Зенту: теперь она будет с ним более сдержанной, возможно, даже постарается избегать его; прекрасные часы совместной их учебы могут потерять прежнюю теплоту и сердечность, которой дышала комнатушка Зенты. Чтобы этого не случилось, чтобы Зента убедилась, что неправильно поняла его рассеянность, он, подражая ее шутливой манере, тоже ответил просьбой:
— Может быть, вы, товарищ комсорг, разрешите известить Озола рядовому комсомольцу Петеру Ванагу?
— Ты признаешь меня своим начальником? — рассмеялась Зента. — В таком случае я приказываю тебе остаться на месте.
— В таком случае я тоже использую свои начальнические права, — подражал ей Ванаг, — и…
— Петер! — прервала его Зента. — На этот раз прошу, разреши мне! Я скажу тебе, почему. Я перед Мирдзой в долгу. Когда освободили Ригу, я ей этого не сообщила. Теперь я хотела бы порадовать ее вестью о победе… Но… мы уже не будем так шумно радоваться, как бы радовались, если бы не погиб ее брат.
— Ладно, поезжай ты, — уступил Ванаг. — Но погоди, давай обсудим, как организовать митинг. Озол сможет говорить? Мне кажется, ему будет тяжело.
— Пусть он только откроет, а говорить будешь ты, — предложила Зента.
— Это будет не то, — с сожалением сказал Ванаг. — Я не умею так, как Озол.
— В такой день не придется искать слов или доказательств, — убеждала Зента. — Победа скажет сама за себя и убедит, на чьей стороне была и есть правда.
— Я попытаюсь, — согласился Петер. — Но надо бы еще кому-нибудь выступить. Тебе тоже нужно сказать несколько слов молодежи.
— Я тоже попытаюсь, — пообещала Зента. — Надо объявить о митинге. Я сообщу уполномоченным десятидворок на том конце волости.
— Посыльный известит остальных. Назначим — после обеда, на пять часов, чтобы успеть оповестить людей и чтобы они успели собраться. Теперь все будут беречь лошадей и пойдут пешком.
На митинг собралось несколько сот человек. Наблюдая из окна исполкома, Озол заметил, что большинство собравшихся — женщины в платочках и девушки с непокрытыми головами; между мелькавшими платками и цветными кофточками бородатые старики выделялись, словно редкие пни среди полевых цветов. Еще реже промелькнет среди них крепкое дерево — мужчина в расцвете сил. Он заметил Гаужена, и вдруг ему пришло на ум, что упустил его из виду. Сельскохозяйственная комиссия еще не имела полного состава, он очень пригодился бы со своим знанием машин, особенно осенью, во время молотьбы.
— Товарищ Салениек! — вдруг услышал он радостное восклицание Зенты и отвернулся от окна. Действительно, это был Салениек, еще бледный и осунувшийся, но все-таки настолько поправившийся, что обходился без палки.
— Я больше не мог оставаться в постели, — сказал он, словно объясняя свое появление. — Просто не мог в такой день лежать. Мне тоже надо кое-что сказать. Накопилось за это время.
Они вышли из исполкома. Двор и старые липы, под которыми стояли люди, напомнили Озолу о другом собрании прошлой осенью. Двор тот же, липы — те же, но люди изменились. Тогда большинство посматривало недоверчиво, боязливо оглядываясь, не подсматривает ли кто, что они пришли слушать большевика, да и самого большевика они побаивались — разве мало запугивали их самыми вздорными слухами. Все, кто собрался сегодня, смотрели на него доверчиво — победоносные ветры вымели из их голов последние остатки страха перед тем, что окруженные в Курземе немцы могут прорвать железное кольцо и снова растоптать их нивы и сады. Но кое-где мелькают и злобные взгляды. Вот сидит Густ Дудум, он, наверное, пришел только для того, чтобы посмотреть на Зенту. Его рысьи глаза часто меняют выражение: когда они смотрят на Озола или Ванага, в них сверкают искры ненависти; обращенные на Зенту, они становятся похожими на глаза кошки, которая ластится к хозяйке, несущей из клети мясо.
«Хиреющие побеги обреченного на гибель класса! — Озолу хотелось плюнуть. — Митинг надо открывать для тех людей, которые видят в этом дне праздник. Но не для дудумов, потерявших последнюю надежду еще когда-нибудь воскреснуть в своем кулацком великолепии».
Озол хотел только открыть митинг, но он не мог не сказать людям того, о чем они еще недостаточно слышали, не мог не рассказать о борьбе Красной Армии, о латышских стрелках — гвардейцах, которые кровью завоевали для своего народа почетное место в семье советских народов.
В эту минуту он подумал о своем сыне. Отчетливее, чем когда-либо, Карлен предстал перед его глазами тринадцатилетним улыбающимся мальчиком с пионерским галстуком, таким, каким он видел его тогда, в последний раз. Он пал, защищая свою родину. И Озол чувствовал, что в нем как бы говорят два человека. Один — отец, у которого сердце обливается кровью при одной мысли о погибшем сыне. Другой — это член партии, парторг, всем сердцем своим и разумом сознающий значение этого дня, вот об этом он должен сказать слушателям, насколько велик этот день. Значит, надо говорить, отогнать дорогое ему видение — образ любимого мальчика, который, не всегда удается так ярко воскресить в памяти. Пронеслись годы и события, а великие события и сильные переживания порой как бы стирают многое из запечатлевшегося ранее в мозгу.
Озол собрался с силами. Нельзя примешивать к ликованию народа горечь личной скорби. «Спи, мой мальчик, среди павших героев. Вы пали за будущность человечества, за общество, в котором война больше не будет возможна. Вы умерли с чистой совестью».
Он провел ладонью по глазам и лбу и удивился, что лоб совершенно мокрый. Но ведь еще не все сказано. Надо зажечь сердца этих людей, чтобы они видели в себе соучастников великой победы, чтобы в них пробудилось желание закрепить эту победу, полюбить свою свободную страну, отдать все силы ради ее восстановления и расцвета.
Кончив речь, Озол тяжелыми шагами, словно после самой трудной работы, отошел в сторону и сел на скамейку. Аплодисменты участников митинга донеслись до него откуда-то издалека, словно плеск морских волн о берег. Что это? Отклик на его слова? Он не понимал. Он видел, что на крыльцо поднялся Ванаг. Петер говорил с жаром, порою морща лоб, затем все складки опять разглаживались, и его лицо выглядело молодым и приветливым. Но Озол не мог уловить его речи, до него долетали и проникали в душу лишь отдельные слова, да и то нужно было сосредоточиться, чтобы понять их смысл. Когда Ванаг сошел со ступенек, на его место стал Лауск и заговорил о севе. В его голубых блеклых глазах, отражавших вечернее солнце, сияла искренняя радость, что «времена немцев и шуцманов навсегда кончились» — именно так он сказал. Это было так просто и сердечно сказано, что многие слушатели одобрительно закивали головами.
После Лауска выступила Зента. Обращаясь к молодежи волости, она подчеркнула, что эта историческая победа именно юношам и девушкам дала больше, чем кому-либо. Призывала их учиться, читать, стать культурными людьми. Говорила о героизме, который можно проявить не только на поле боя, но и в напряженной борьбе.
Затем на ступеньки поднялся Салениек. Видно было, что ему трудно держаться на ногах, он хотел прислониться к косяку, но собрался с силами и выпрямился.
Салениек говорил горячо. Но Озолу почему-то казалось, что своей речью он старается убедить и самого себя, взорвать все мосты к своему прошлому, заставить уняться «червя», про которого рассказывал зимой. Может быть, и вернуть долг, ибо, не уйдя на фронт, он все время чувствовал себя должником.
Видимо, Салениек говорил бы еще долго, но вдруг он побледнел и пошатнулся. Озол вскочил со скамейки и взял его под руку. Опираясь на плечо Озола, Салениек дал увести себя в исполком, где опустился на стул.
— Вы хорошо говорили, товарищ Салениек, — сказал Озол, подавая ему стакан воды. — Теперь, надеюсь, вы будете выступать почаще. Вам только надо поправить здоровье.
— Не знаю, удастся ли, — пытался шутить Салениек. — Мои высказывания дойдут до бандитов, и теперь они меня уже не станут предупреждать.
— Теперь их у нас уже давно не видно было, — сказал Озол. — Возможно, перебрались в другую волость или в город и пытаются легализироваться.
— Все может быть. А может, они только притихли. Во всяком случае я должен быть готовым ко всему, — рассуждал Салениек.
— Я позвоню завтра в отдел народного образования, чтобы вас послали в санаторий, — обещал Озол. — Вам надо… — он не успел окончить, со двора послышался шум, аплодисменты и восклицания. Озол подошел к окну и увидел, как Ванаг, Зента и Мирдза обступили молодого человека в шинели без погон и ведут его к ступенькам. То был Упмалис, приехавший без предупреждения на праздник. Озол извинился перед Салениеком, что оставляет его одного, и поспешил на двор. Едва Озол сбежал со ступенек, как комсомольцы втащили туда возбужденного, раскрасневшегося Упмалиса. Он передал привет собравшимся, и в частности молодежи, от укома комсомола и несколькими фразами вызвал среди слушателей столько радости, что казалось, только этих фраз и не хватало, чтобы все, особенно молодежь, поняли, что этот день — день ликования, что после митинга не хочется снова каждому залезть в свой дом, как в пещеру, хочется быть вместе, говорить, петь, танцевать, чего так долго не делали, так как все время это казалось неуместным.
Словно отгадав желание молодежи, Упмалис предложил провести этот вечер всем вместе. Но кто-то заметил, что танцевать негде, и все почувствовали, как это плохо, когда нет Народного дома.
— Действительно негде танцевать? — спросил Упмалис. — Тогда ничего другого не остается, как отправиться в лес, заготовить бревна и построить Народный дом. Согласны?
Молодежь смеялась шутке, но сегодня она даже была бы согласна поехать в лес за бревнами. И это было бы очень весело и даже отвечало бы возникшему на митинге настроению — трудиться, строить, восстанавливать.
В эту минуту встал Ян Приеде. Молодежь притихла, все смотрели на него с опаской, как бы он не испортил радостного настроения. Неожиданно он заявил:
— Если уж хочется поплясать, то можно у нас на пункте. В замке есть большой зал. Эмма его вымыла.
Упмалис первый зааплодировал, к нему присоединилась и молодежь. Но Ян стоял и ждал, чтобы аплодисменты затихли, он еще не успел всего сказать. Упмалис это заметил и сделал знак, чтобы замолчали.
— Музыкант там тоже будет. У Ивана гармошка. И он умеет играть, — сказал Ян и сел.
— Зал есть, и музыка есть! — воскликнул Упмалис. — Пошли, ребята, лучшего и желать нельзя! — Он замешался в толпе молодежи вместе с Ванагом, Зентой и Мирдзой, которые не отходили от него ни на шаг. К ним пробирался старик. Его седобородое лицо в игре солнечных лучей, пробивавшихся сквозь ветви лип, само светилось, как солнце. То был старый Пакалн, который искал не Упмалиса, а Ванага и, наконец, ухватив его за рукав, попытался отвести в сторону. Появление старика показалось Петеру не очень уместным, это ведь был Пакалн, которого он назвал кулаком, за что потом пришлось извиниться на собрании. И хотя Петер не таил в сердце обиды, все же каждое напоминание об этом случае, — а таким живым напоминанием был старый Пакалн собственной персоной, — было неприятно.
Упмалис также заметил Пакална и приветливо посмотрел на него, ожидая, что тот скажет.
— Сынок, ты помнишь, как мы тогда повздорили? — сказал Пакалн, чтобы напомнить неприятную стычку. — Это когда ты меня кулаком обозвал.
— Это уже давно забыто! — нетерпеливо и даже резко воскликнул Петер.
— А я, сынок, не забыл, — улыбнулся старик, и Петера это начало злить. Не будь Зенты и Упмалиса, он, наверное, бросил бы ему новое оскорбление, хотя он только потому и сердился, что Пакалн напомнил о старой стычке при них. — Я, сынок, не забыл, — спокойно продолжал Пакалн, его не смутил нервный жест Петера. — У тебя тогда чуть было неприятность не получилась из-за такого старого хрыча. Я от этого долго расстраивался. А потом подумал, что я мог бы сделать хорошего, чтобы ты видел, как меня самого вся эта жалоба за сердце задела. И знаешь, что я придумал? Я придумал соткать для мельницы ремень. Он другим, правда, больше нужен, чем тебе, ведь у тебя-то самого и молоть нечего. Но с тебя спрашивают. Вот я и соткал, пока Юрит спал. Ремень там, в телеге. Пойдем, возьми.
— Петер, поцелуй у дедушки руку! — задорно воскликнула Мирдза, и ее глаза довольно засияли; она стояла перед Ванагом такая гордая, словно хотела сказать: «Ага, вот видишь, каков старый Пакалн! Видишь, что я была права!»
Петеру показалось, что его кто-то подтолкнул к Пакалну, и он, чтобы не споткнуться, обхватил его шею и прижался губами к бородатой щеке.
— Это, действительно, подарок ко Дню победы! — радовалась Зента, зная, как Петер болеет за мельницу.
— Так пойдем, посмотрим, — предложил Пакалн. — Испытайте, достаточно ли крепок. Не соткал ли я из гнилых ниток.
Все вышли на улицу, где на повозке Пакална лежал большой, аккуратно скатанный моток. Они с благоговением осмотрели его, но Пакалну хотелось больше веселья в эту минуту, и быть может, еще хотелось, чтобы все собравшиеся видели, на что способен такой старик. Он предложил молодежи размотать ремень и испытать его крепость.

— Ну-ка, станьте на каждый конец человек по десять и давайте тягаться! — предложил он. Этого не надо было повторять. В несколько мгновений ремень был растянут во всю длину через улицу, и соревнующиеся с веселым смехом и криком потянули крепкий ремень за концы, порой чуть не падая наземь от более сильных рывков противника.
— Сделан на совесть! Выдержит! — объявил Упмалис результаты соревнования.
После этого ремень внесли в исполком, и теперь можно было бы расходиться. Но сегодня в поле все равно идти уже поздно, а майский вечер был полон дыханья весны. Все знали, что орудия замолкли, из рук смерти вырвана коса, которой она размахивала почти четыре года — и не только над полем боя, но и всюду, где орудовали немцы. Поэтому людям не хотелось расходиться по домам, они еще чего-то ждали и, разделившись на группы, беседовали, шутили и поглядывали на других, таких же говорливых и улыбающихся. Лишь один человек, с кисло сморщенным лицом, ни на кого не глядя, выбрасывая вперед трость, заковылял к своей бричке, отвязал лошадь, важно развалился в повозке и медленно поехал прочь, но вдруг, то ли вспомнив что-то неприятное, то ли вымещая досаду, согнулся крючком и хлестнул кнутом лошадь так сильно, что та вертанула хвостом и резко рванулась. Это было настолько комично, что все стоявшие на улице захохотали и смеялись, пока повозка не исчезла за поворотом.
— Густа слепень укусил! — воскликнул кто-то, и новая волна хохота прокатилась по улице.
— Разве лошадь виновата, если у самого какая-нибудь неприятность, — сказал Ян Приеде с упреком. — Ну, пойдете в имение плясать? — спросил он молодежь, окружавшую Упмалиса.
— Да! Пошли! — радостно отозвались веселые голоса.
— Пойдем все вместе, — предложил Упмалис.
Из исполкома вышли Озол и Салениек. Только теперь Упмалис заметил, насколько изменился его фронтовой товарищ с тех пор, как уехал из города.
— Ты болен? — справился он сочувственно.
— Немного устал, — ответил Озол. — Мирдза тебе все расскажет. А я поеду домой. Приходи к нам ночевать, — пригласил он.
Мирдза замялась в нерешительности. Ей хотелось идти вместе с молодежью в имение, но усталый вид отца, его бледность и серьезный взгляд напомнили, что дома осталась мать, которая сегодня весь день одна и чего только она не передумала. Словно угадав ее колебания, Озол сказал:
— Иди, Мирдза, иди. Упмалис вам что-нибудь расскажет. Вы ведь не будете только танцевать. Меня подвезет Салениек.
Он сел в повозку и уехал. Уехал и Пакалн. Люди постарше начали расходиться, а молодежь по два, по три, по четыре двинулась к имению. У Упмалиса была автомашина, он велел водителю отвезти Яна Приеде и еще кое-кого в имение, чтобы подготовили зал к приему гостей, а сам отправился пешком. Он пошел рядом с Мирдзой, желая узнать, почему так изменился отец.
Мирдза заметила среди молодежи Эрика. Он шел один, ни с кем не разговаривая, и все замедлял шаг, очевидно, ожидая, что она к нему подойдет. Он был в новом костюме, который ему, наконец, удалось сшить. Зеленовато-серый цвет домашнего сукна напоминал немецкие мундиры. Да, красноармейская форма ему не нравилась, ибо она была хлопчатобумажной, ведь Эрик в армии был рядовым бойцом и не заслужил ни одной нашивки. Это бы еще ничего. Но в новом костюме он выглядел типичным хозяйским сынком, и походка у него была медленная и вразвалку, и Мирдза чувствовала, что ее злит и новый его костюм, и сходство с хозяйским сынком, и медленная походка, и то, что Эрик идет один и ждет только ее, не вступая в разговор с другими. Он как-то отличался от веселой толпы, в которой преобладали дети бывших батраков и мелких хозяев. Но затем Мирдза подумала, что Эрик все-таки был на фронте, участвовал в боях и ранен. И ей стало жаль, что он так одинок, хотелось позвать его к себе, познакомить с Упмалисом. Но все-таки она этого не сделала, так как понимала, что он им чужой, что ему не о чем говорить с Упмалисом, и ей будет неудобно, если он промолчит все время или будет разговаривать только с нею.
— Расскажи, Мирдза, что с твоим отцом? — поинтересовался Упмалис. И Мирдза рассказала, что погиб ее брат. Упмалис долго молчал, и Мирдзе понравилось, что он молчит, не пытается утешать, не вздыхает — ведь все равно ничем уже нельзя помочь. Надо стиснуть зубы и перенести.
На коннопрокатном пункте Иван встретил гостей веселым маршем — ноги так и поднимались в такт музыке. Молодежь с шумом ринулась в зал мимо Яна Приеде, который, благодушно улыбаясь, стоял в сторонке, как радушный хозяин, пригласивший много гостей и вовсе не обижающийся, что они его не замечают.
Иван с аккордеоном тоже прошел в зал, и сразу же начались танцы: стремительная полька, так хорошо отвечавшая настроению. Танцевали почти все, и в их движениях выражалась горячая жажда радости и веселья, которая во время войны не могла проявиться, но которая жила в каждом.
— Ты ведь сегодня не будешь танцевать, — сказал Упмалис Мирдзе, словно извиняясь, но и не сомневаясь в этом. Он пригласил Зенту. Мирдза была ему благодарна за то, что он столь тактично понял ее чувства, когда ноги как будто сами по себе поднимаются в ритме польки, а сердце противится дать им волю, ибо каждое мгновение вспоминает Карлена, не дожившего до этого вечера.
Случилось так, что Эрик подошел к Мирдзе сразу же после того, как Упмалис, хорошо поняв настроение девушки, оставил ее одну и ушел танцевать с Зентой. Эрик как назло не сумел так чутко уловить настроение Мирдзы. Он схватил ее за руку, стащил с подоконника, где она сидела, и весело воскликнул:
— Пошли танцевать!
Никогда, при других обстоятельствах, Мирдзу не рассердила бы эта непринужденность, вполне естественная между молодыми людьми, объяснившимися в любви, но после того, как Упмалис счел само собой понятным, что Мирдза в этот вечер не может танцевать, приглашение Эрика ей показалось настолько грубым, даже неприличным, что она не сдержалась и, вырвав руку, сказала:
— Удивляюсь, как ты не понимаешь, что я сегодня не могу танцевать!
Слова эти, сами по себе, еще ничего не значили, но она произнесла их так, что Эрик съежился и, в нерешительности переминаясь, остался стоять там же, у окна. Быть может, ему надо было сгладить свою вину, выразить сожаление, объяснить Мирдзе, что хотел ее развлечь, но Эрик этого не сделал, и по его глазам не видно было, чтобы он понял, почему Мирдза так себя ведет. И для нее стало нестерпимым это, казалось, равнодушное молчание. Ничего не сказав, она соскочила с подоконника и выбежала в соседнюю комнату. Здесь она осталась одна, обуреваемая неясными чувствами, и лишь когда Музыка смолкла, она вернулась в зал. Тут она увидела, что Упмалис собрал вокруг себя молодежь и хочет ей что-то рассказать. Эрика Мирдза больше не видела и с облегченным сердцем устроилась на своем подоконнике, но ее заметила Зента и увлекла к себе. Упмалис говорил о войне, постепенно переходя от больших общих картин к отдельным эпизодам, рассказывал преимущественно о комсомольцах, об их героических делах и любви к родине. Он умел установить живой контакт с юношами и девушками, из которых многие были сверстниками тех, о ком шел рассказ, и теперь жалели, что не успели сделать ничего такого, чтобы и их имена также были упомянуты в истории Отечественной войны. Упмалис говорил просто, без напыщенных фраз, которые зачастую ослепляют самих рассказчиков, но не согревают слушателей. Так же просто он и закончил:
— Ну, теперь отдохнули, потанцуем еще, пока Иван в силах держать свою гармошку. Потом я вам расскажу еще что-нибудь — о вас самих.
Потом он рассказал о молодежи в тылу во время войны. Об их работе на полях и заводах. Он обратился к «ним самим» и спросил, могут ли они сказать с чистой совестью, что за эти восемь месяцев со дня освобождения от немцев они работали так много и так хорошо, что лучше и больше работать нельзя. Никто этого не мог утверждать, ибо никто ничего особенного не сделал, и теперь всем было даже стыдно, что среди них нет ни одного, проявившего геройство хотя бы в мирном труде. Но затем Упмалис успокоил слушателей, сказав, что еще не поздно, если война и кончилась, то последующие годы потребуют от народа самоотверженного труда в восстановлении и строительстве.
— А почему вам не стать героями? — спросил Упмалис, и ему ответили молчаливые вопросительные взгляды; «Да, но как же это сделать?» И он тут же объяснил: — Каждый участок поднятой и засеянной целины — это ведь то же самое, что выигранное сражение. — Он предложил сегодня же вечером организовать молодежные бригады и распределить между ними работу, чтобы завтра все знали, за что браться. Когда бригады были сформированы и избраны бригадиры, Упмалис еще посоветовал обратиться к Зенте Плауде и ознакомиться с уставом комсомола. Пусть каждый спросит себя, не хочет ли он стать членом славной семьи комсомольцев?
После всего этого бригады должны были станцевать хотя бы еще один танец — так они просили Ивана, — потом еще один, самый уж последний. Мирдза смотрела, как Зента танцует с Петером, а Упмалис с Лаймой Гаужен, которая теперь тоже была бригадиром. Ей стало грустно, она почувствовала себя одинокой. Эрика она оттолкнула, и никто другой ею не интересуется. «Конечно, у них братья не погибли, они могут танцевать и веселиться», — уличила она себя в несправедливом упреке и, сдержав слезы, снова вышла в соседнюю комнату, чтобы не смотреть на веселые лица и на танцы. Посмотрев в окно, она увидела, что над озером уже начал брезжить рассвет. Почему она здесь томится, почему не уходит? Никому она не нужна, да ей и самой здесь нечего больше делать.
Чья-то рука коснулась ее плеча, и приветливый голос сказал:
— Мирдза, ты все одна? Прости, что я тебя оставил, но надо было расшевелить ребят. Твой отец пригласил меня к себе переночевать. Ночь, правда, уже прошла, но все-таки следовало бы вздремнуть. Если ты не возражаешь, пойдем, «виллис» я оставлю здесь, в сарае.
Разумеется, Мирдза не имела ничего против того, чтобы идти домой вместе с Упмалисом. Желая избежать лишнего шума, они, ни с кем не попрощавшись, вышли на свежий утренний воздух и направились домой, прислушиваясь, как согласованно звучат их шаги, словно они оба долгое время прошагали в одном строю.
21
УКУС ГАДЮКИ
Озол готовил отчет о своей работе в волости. Завтра ему надо ехать в уезд, отчитаться в том, как он работал, оправдал ли оказанное ему доверие. Что он мог записать в свой актив, чем его волость выделялась среди прочих и насколько ей удалось выбраться из разрухи, в которую ее ввергли немцы. Все это у него спросят. Как странно — всю весну и лето он работал не покладая рук, присутствовал всюду, где что-нибудь делали или должны были делать, а теперь о своей работе как будто рассказывать нечего, ничего не закончено, правда, многое начато, но пока не доведено до конца. Для постройки маслодельного завода привезены камни и бревна, но не оказалось цемента. Быть может, виновато правление сельскохозяйственного кооператива, что не удосужилось поискать. Кто-то из крестьян напомнил, что можно и самим обжечь известь. Поблизости уцелела старая кустарная печь для обжига известняка, а известняк для одной постройки, у которой частично уцелел фундамент, найдется там же, около печи. Но теперь, в разгар уборки урожая, нельзя отвлекать людей на дополнительные работы. Мельница работает, однако это не его заслуга. Не сотки́ старый Пакалн приводного ремня, так она, может, по сей день стояла бы. Электричества все еще нет, у динамо-машины отвинчены и утащены некоторые части, найти их или достать новые не удалось. Нет порядка и в кооперативном магазине — недостает именно тех товаров, которые в крестьянском хозяйстве больше всего нужны: подков, кос, лемехов. Летом подковы привезли, но для всех не хватило, к тому же они оказались одного и того же размера, и кузнецы немало потрудились, перековывая их. Соли привезли как будто достаточно, и все же ее получили только самые расторопные покупатели. Те, что пришли в магазин попозже, получили совершенно сырую, подмоченную, а некоторым и такой не досталось. Завмаг — бывший лавочник имения — предъявил акт о том, что соль в пути попала под дождь, потому и испортилась. Пора бы уже выдавать товары за сданные сверх нормы масло и яйца, но доставка все задерживается, и крестьяне уже начинают посмеиваться, дескать, обещанного три года ждут. Лучше уж везти продукты на базар или выменять у спекулянтов на одежду и обувь. Почти каждый, кому настает очередь ехать в наряд, требует, чтобы выдали подковных гвоздей, сколько же можно гонять лошадей нековаными. В иных домах не осталось ни одной косы, приходится просить у соседей хоть какую-нибудь старую, заржавленную. Кое у кого кос напихано во всех углах, но именно такие никогда в этом не признаются и другому не дадут, да еще сами больше всех начнут жаловаться на нехватки. Новохозяевам Озол помог получить от государства ссуды, многие купили лошадей и коров, начали отстраиваться. Теперь люди жнут, поля не останутся неубранными, однако весной много земли осталось неподнятой. Молодежные бригады работали на совесть, но что они могли поделать, если лошадей не хватало. МТС не выделила волости ни одного трактора, хотя Озол сам поехал к директору, заставил его отказаться от договора с Миглой и заключить договора с безлошадными новохозяевами. Не дождавшись обещанных машин, крестьяне наведались в МТС и поинтересовались, когда же прибудут тракторы; им ответили: «Не ждите, машины испортились, из ремонта выйдут не скоро». Незасеянные поля в крестьянских хозяйствах это, конечно, беда, и даже очень большая, от этого уменьшается количество хлеба, столь необходимого стране, но необработанные земли государственного фонда — это уже настоящее несчастье: они и урожая не дают, и служат предметом зубоскальства для бывших крупных хозяев: землю-то, мол, у нас отобрали, а девать ее некуда! Плохо и то, что безземельные крестьяне до сих пор не затребовали себе наделов. Когда спрашиваешь, почему, то отвечают, что не стоит, мол, начинать, все равно в будущую весну всех сгонят в колхозы, какой смысл один год трудиться, дом строить, скотом обзаводиться, раз все равно отберут. Ему об этом никто, конечно, прямо не говорит, а ссылаются на отсутствие инвентаря и скота. А кое-кто просто запуган — англичане и шведы не оставят Латвию большевикам, уже собирают войска и летом, самое позднее осенью, будут тут. О таких слухах узнает Мирдза от молодежи, и когда он на собраниях десятидворок начинает их опровергать, то все молчат, а кое-кто даже ухмыляется про себя: «Посмотрим, кто будет прав». И вот слухи ползут, а легковерные люди продолжают работать на хозяев без трудовых соглашений и даже скрывают, что работают батраками, выдают себя за постояльцев. Некоторые даже выдают хозяйских коров за своих, чтобы владельцам приходилось меньше сдавать молока.
Один из больных вопросов — подсобное хозяйство ОРСа железнодорожников в «Стендерах». Как же это снова случилось, что заведующим туда втерся не кто иной, как Ян Калинка. А постоянными рабочими числятся его жена, Освальд Марцинкевич, старый Лайвинь и еще всякие бездельники, сменяющие друг друга. Случайно или не случайно, но это подсобное хозяйство люди назвали колхозом и вот друг другу показывают, как выглядят колхозы. Озол долгое время обходил «Стендеры», считая, что подсобное хозяйство — не его забота, но когда услышал толки о непорядках, он решил зайти туда. Там, действительно, видно было, как не надо вести хозяйство. Картошка заросла сорняком; с весны ее ни разу не окучивали. Хлеб такой редкий, что «колос у колоса не слышал голоса». Клевер скошен, но не убран, новая отава проросла сквозь валки. Прямо по валкам разгуливали четыре коровы, раскормленные до того, что шерсть лоснилась. Сам Калинка с Марцинкевичем, вооружившись длинными шестами, сбивали с верхушек яблонь яблоки, срывая вместе с плодами мелкие ветки. На каждом шагу чувствовалось, что расхищается богатое хозяйство.
— Как же вы так запустили свое хозяйство? — сердито спросил Озол.
— Как запустили? — наивно спросил Калинка. — Посмотрите на наших коров — таких не найдешь во всей волости!
Таких коров, на самом деле, ни у кого не было, ведь нигде скоту не скармливали весь корм еще летом.
— Но на что похожи у вас хлеба и картофель? — упрекнул Озол, но Калинку и это не смутило.
— Что поделаешь, если весной прислали невсхожие семена? — оправдывался он. — Наш начальник говорит, что хлеб — это не столь важно, хлеба хватит по карточкам, главное, чтобы в ОРСе были молочные продукты; как мне сказано, так и делаю.
— Но как вы рассчитаетесь с государством по поставкам хлеба и картофеля? — спросил Озол.
Калинка состроил удивленное лицо.
— А чего нам рассчитываться? Агент по заготовкам говорит, что мы социалистическое хозяйство, и с нас ничего не причитается.
Вот тебе и раз! Нет, о Калинке надо поговорить в другом месте. А с ним и говорить-то не стоит.
Все это было так нехорошо, недостатков и ошибок так бесконечно много, что он, Озол, вынужден был спросить себя: а где же был он? Он ведь не сидел дома, не засиживался в своей комнате в исполкоме. Присутствовал на всех собраниях, обошел в волости большую часть крестьянских дворов, в первую очередь — новых и мелких хозяев, знал, чего у них не хватает, призывал комсомольцев и молодежь оказывать им помощь.
Размышления Озола прервал стук в дверь. Вошла Балдиниете, разрумянившаяся от радости, поздоровалась и тут же вытащила из кармана письмо.
— Ольгертинь, мой сынок, написал! — воскликнула она. — Попал в плен. Не могу выговорить, под каким городом работает на земляных работах.
Озол прочитал обратный адрес: Медвежьегорск.
— И вот я прибежала просить вас, — торопливо продолжала Балдиниете, — нельзя ли написать такое письмо, чтобы его отпустили домой. Ваша жена ведь тоже знает, как его тогда силой увезли, вместе с вашим Карленом.
— Сомневаюсь, поможет ли сейчас мое письмо, — уклончиво ответил Озол.
— Ах, боже мой, как же не поможет! За что теперь Ольгертиню терпеть? Разве он виноват, что Вилюм Саркалис его тогда угнал? Сарай хотел спалить, в котором Ольгертинь прятался.
— Я верю, что это было так, — уверял Озол. — Но раз ваш Ольгерт воевал и взят в плен вместе с немцами…
— Но что же он мог поделать? — нетерпеливо прервала Балдиниете.
— …это мое письмо ему пока не может помочь, — кончил Озол.
— Ах, что вы говорите! — упрекнула Балдиниете. — Вы ведь в партии на большой должности, неужто вам не поверят?
— Будьте терпеливей. Вы хотя знаете, что сын жив, можете переписываться. Я своего сына уже не дождусь.
— Но Ольгертиня все же надо пустить домой, — ответила Балдиниете, как бы не расслышав последней фразы Озола. — Я больше не могу одна с работой управиться. Строиться тоже надо, этим летом поставили только срубы для дома и хлева. Для крыши гвоздей не достали. Как долго можно под чужим кровом ютиться, все не то, что в своем доме. Надо бы всех латышей домой пустить, зачем им томиться на чужбине.
— А если эти латыши помогали немцам воевать и разрушать, то теперь они должны в известной мере отстроить разрушенное. Я повторяю — будьте терпеливы. Соответствующие учреждения должны выяснить, что собой представляет каждый из взятых в плен легионеров, — пытался объяснить Озол.
— Но разве он виноват? — вздохнула Балдиниете.
— Я не говорю, что он виноват, — Озол ласково посмотрел ей в глаза, вспомнив, что она все же мать, что сын для нее все и поэтому ее никакими общими словами не переубедишь. — Но подумайте только об одном: наши учреждения теперь должны решить судьбы многих тысяч и поэтому не могут заниматься просьбами отдельных лиц. Поверьте, что все уладится и вашему Ольгертиню не придется оставаться в плену дольше других. Что он еще пишет?
— Пишет, что Лаймон, наверное, остался у англичан. Ах, боже, боже, когда я дождусь своих сыночков! — запричитала Балдиниете, забыв, что она плачется перед отцом, который потерял своего сына и никогда больше его не дождется. — Если вы не хотите мне помочь, — протянула она разочарованно и даже обиженно, — тогда другое дело. Так нечего мне понапрасну говорить. — И она взяла со стола письмо и бережно сунула в карман.
— Вы не хотите меня понять, — сказал Озол. — Поверьте, никого не обидят. Дайте же срок выяснить. В легионах были и такие, которые добровольно пошли воевать против большевиков. Разве таких можно пустить домой? Нельзя. Они будут вредить нам.
— Но Ольгертинь не пошел добровольно, — продолжала Балдиниете свое, и Озолу пришлось отказаться от надежды растолковать ей смысл и логику всего происходящего. Она ушла, обиженная несправедливостью, причиняемой ее Ольгертиню.
Вернулась Мирдза и рассказала, что ее бригада сегодня сжала весь хлеб Марии Перкон. Озол заметил, что дочь чем-то взволнована и озабочена, видел, что она хочет поговорить с ним о чем-то неприятном.
— Говори, Мирдзинь, смело, — подбодрил он ее.
— Опять начинается! — возмущенно воскликнула Мирдза. — Бандиты снова начинают запугивать людей.
— Что-нибудь серьезное? — спросил Озол.
— Очень серьезное. Вчера Майлен вез рожь, но в бору на него напали бандиты, разрезали мешки и высыпали зерно. Пригрозили, что так поступят с каждым, кто повезет большевикам хлеб.
— Майлен сообщил милиционеру? — коротко спросил Озол.
— Нет. Боится. Жена рассказала соседке, та — другим, и теперь об этом шепчутся во всей волости. Сегодня хлеба никто не повез.
Весной и летом, со времени убийства Бауски, было спокойно, видимо, бандиты притихли или орудовали в другом месте. Проведенная летом кампания с призывом властей выходить из лесов и честным трудом искупить дезертирство из Красной Армии в волости не дала результатов. Приехавшие из Риги представители власти, конечно, не скрывали, что убийцы понесут наказание, но обещали снисхождение тем, кто прячется в лесах под влиянием немецкой пропаганды. Но весьма возможно, что эти последние живут под двойным страхом, — с одной стороны, они опасаются, что их обвинят в пособничестве бывшим шуцманам, с другой, — боятся мести этих шуцманов, если решат вернуться к честной трудовой жизни.
Летом было тихо, если не считать нескольких ограблений, которые были делом рук Рудиса Лайвиня, бывшего волостного посыльного, а потом счетовода подсобного хозяйства. Выяснить, все ли преступления совершены только им, не удалось — в какой-то усадьбе парень напоролся на засаду истребителей, хотел бежать, но был застрелен. Но по тому, что грабитель почти всюду вел себя одинаково, можно было судить, что это был он.
Но случай с Майленом — не просто ограбление, здесь был явный расчет запугать крестьян, чтобы сорвать выполнение плана поставок.
Вдруг, что-то сообразив, Озол сказал Мирдзе:
— Я поеду в город не завтра, а послезавтра.
На следующее утро Озол пошел в исполком. По дороге он зашел на почту и побеседовал с Кадикисом. Затем обратился к телефонистке Расман и попросил вызвать город. Ожидая соединения, он присматривался к Майге и заметил какие-то изменения в ее внешности. В ее глазах не было прежнего задора, оформляя заказ, она посмотрела на Озола серьезно и деловито. Ее волосы были гладко зачесаны, с пробором посередине; на ней было простое шерстяное платье, нитяные чулки и сандалии с деревянной подошвой — так теперь выглядела Майга. Кадикис рассказал, что она теперь усердно изучает историю партии и время от времени обращается к нему за консультацией. «Многое она затвердила наизусть, но когда я задаю какой-нибудь вопрос, где требуется понимание, тогда головка ее уже не варит», — сказал он.
Озолу не пришлось долго ждать; соединившись с уездным комитетом, он сообщил, что выедет послезавтра с утра. На вопрос, как дела в волости, ответил, что хорошо; все по мере сил усердно работают на уборке оставшихся яровых, частично обмолотили озимые и возят хлеб на приемный пункт.
Он поблагодарил Майгу за разговор и пошел в исполком. Ванаг выглядел мрачно — прошлой ночью была испорчена молотилка. Кто-то засунул в сноп ржи ручную гранату — взрывом разбило барабан и поранило подавальщику руку. Это было явное вредительство, но найти виновного — нелегкая задача. Сегодня Саулит со своими кузнецами занимается ремонтом машины, но несколько дней все же придется потерять.
— Всюду эти негодяи путаются под ногами, — злился Петер. — А когда работа не идет как следует, люди винят нас.
— Мы тоже виноваты, — ответил Озол и, встретив недоуменный взгляд Ванага, добавил: — Виноваты в том, что до сих пор не сумели избавиться от этой нечисти. Майлен хотел вовремя рассчитаться с государством, а ему не дали. Зерно теперь рассыпано на дороге, и Майлену придется везти вторично; совершенно естественно, что он и другие вправе требовать, чтобы государство позаботилось об их безопасности. Каждому в отдельности бороться с бандитами не по силам.
Ванаг молчал. Видно было, что ему при его горячем нраве, при его глубокой ненависти к кулакам и шуцманам, мешающим работать, трудно признать себя ответственным за их подлости.
— Так оно и есть, Петер, — еще раз подчеркнул Озол. — Но недолго им беситься. Когда вернусь из города, схватим их за шиворот так, что завоют. Сегодня же я попытаюсь начать эту кампанию. Назначь мне подводчиком Густа Дудума. Он повезет в город и аптекаря. Человек уже давно хотел поехать, но мы все ждали оказии.
Когда Густ подъехал к дому Озола, ему сказали, что Озол, не желая делать остановку в пути, спозаранку ушел на МТС, куда Дудуму и надо за ним ехать. Густ пробурчал, что нынче в рабочее время «попусту гоняют людей», повернул лошадь и уехал. Около МТС Озол уже ждал его.
Густ, как всегда, был мрачен. Зато аптекарь, питавший симпатию к Озолу, без умолку говорил.
— Без вас, товарищ Озол, ни минуты не могут обойтись, — сказал аптекарь. — На дороге поджидают.
— Где это? — воскликнул Озол и намеренно оглянулся.
— Да не здесь. Утром, когда ехали через бор, встретился нам человек. Попросил, чтобы подвезли немного. Мы сказали, что лошадь устала, а ехать далеко — не можем взять. Потом он спросил, разве товарищ Озол остался дома? Вчера, говорит, слыхал, что собирается в город. Он хотел с вами поговорить, его будто несправедливо обложили налогом. Тогда мы посочувствовали ему и сказали, чтобы садился, — довезем до МТС. Но он передумал — далеко придется возвращаться: сказал, что обождет, пока вернетесь. Спрашивал, как долго вы задержитесь в городе. Так что ждите гостя.
— Что же он раньше не спохватился, — ответил Озол и подумал: «Правильно поступил, что пошел в МТС не обычной дорогой, а сделал крюк через соседнюю волость».
Аптекарь еще немного поболтал, потом темы для разговоров у него иссякли. Густ угрюмо молчал, только временами бранил лошадь, сворачивающую иногда в сторону, чтобы сорвать придорожную полевицу.
— Хозяин, должно быть, сегодня утром не покормил лошадь? — заметил Озол, чтобы возобновить разговор.
— Где же тут кормить, если надо было затемно выезжать, — бросил Густ.
— Латыши ведь привыкли рано вставать, — нарочно подтрунивал Озол.
— Да, когда надо было идти молотить на помещичьи гумна, — съязвил Густ в ответ.
— А потом этот обычай переняли батраки и батрачки, работавшие на хозяев, — продолжал Озол в том же тоне. — В три-четыре часа поднимались лошадей кормить.
Густ упрямо молчал.
— Скажите, почему вы всегда такой мрачный? — спросил Озол.
— Чему мне нынче радоваться? — сердито ответил Густ вопросом.
— Хотя бы тому, что война закончилась.
— По мне, вы могли бы воевать еще хоть десять лет, — проворчал Густ.
— Это вы лишнего хватили! — воскликнул аптекарь. — Уж и так было слишком долго. Люди начали болеть, лекарств, бывало, не успеешь готовить. Каких только эпидемий не затащили. Вот тот же сыпной тиф. Его уж, действительно, только немцы могли затащить.
— Что же им было делать, раз в России завшивели, — издевался Густ. — Чем другим, а этим добром она богата.
— Если вы говорите, что ничего другого в России не было, то зачем же немцы туда полезли? — сказал Озол Густу, чеканя каждое слово.
— Почем я знаю, и какое мне до этого дело! — сердито уклонился Густ от ответа, очевидно, спохватившись, что высказал свою ненависть слишком откровенно, забыл, с кем говорит.
— Вы, Дудум, проверьте, не остались ли у вас в голове немецкие вши, — усмехнулся Озол. — Может, потому у вас этот зуд?
Густ упрямо молчал. Умолк и Озол, думая, что горбатого только могила исправит. Нет таких доводов, которыми можно было бы его пронять и убедить. Логика жизни ничего ему не говорит. Даже ненависть свою он не может скрыть. Впрочем, если он так откровенен, то менее опасен.
Он всю дорогу больше не заговаривал с Густом.
В тот же вечер Озол пошел к секретарю укома Рендниеку и рассказал ему о жизни своей волости. И этот рассказ не был оптимистическим.
Рендниек слушал внимательно, не прерывая, пока Озол не сказал все, что хотел.
— Спасибо тебе за прямоту, — сказал секретарь, когда Озол замолчал. — Мне все же надо признать, что ты много и хорошо поработал. О твоей волости у меня есть другие, более благоприятные сведения. У тебя, например, новохозяева засеяли поля местными семенами. Получили ссуды и обзавелись скотом, хотя и не в таком количестве, как хотелось бы. Есть образцовый коннопрокатный пункт, пусть и небольшой. Привлечена молодежь. И, главное, крестьяне не жалуются ни на тебя, ни на Ванага. Сегодня я уже выслушал несколько отчетов. Очень гладеньких, но они не привели меня в восторг. Так и кажется, по глазам хотят угадать, что я желал бы услышать, и порой рассказывают о том, что должно было бы быть, но чего еще нет… Зачем мне это? Так меня, против моей воли, лгуном могут сделан, ведь на основании ваших докладов я отчитываюсь перед ЦК.
Я сказал, ты работал много и хорошо, — продолжал немного погодя Рендниек. — Но теперь слушай о твоих ошибках. Ты старался все делать один. У тебя горячий, очень подвижной председатель исполкома, но ты его отодвинул в сторону, почти в каждом отдельном случае он сперва испрашивает твоего разрешения. У тебя в волости много хороших людей, но ты их плохо привлекаешь к работе. Они привыкают во всем ждать твоих распоряжений, не проявляют самостоятельности. Вот это твоя ошибка. Потому ты жалуешься, что мало сделано. Эта ошибка влечет за собой вторую — у тебя не остается времени для политической массовой работы. Ты говоришь, люди верят слухам. А почему?
— Как же я могу опровергнуть абсурд? Если люди принимают на веру выдумку? — спросил Озол.
— Разумеется, одними возражениями не опровергнешь, — ответил Рендниек. — Верующего не убедишь утверждениями, что бог выдуман. Абсурду религии надо противопоставить факты науки. Вздорные слухи следует опровергать политической разъяснительной работой.
— Понятно, — ответил Озол. — Но этим летом у крестьян было столько дела, что для учебы просто не оставалось времени при всем желании. Даже мне самому некогда было учиться. Хорошо, если успевал прочитать газеты и журналы.
— Это результат той же твоей ошибки, о которой я уже говорил. И если ты думаешь, что наступит такое время, когда сможешь собрать всех крестьян, как в школу, то это тебе так скоро не удастся. Надо использовать каждую встречу, совместную работу, вовлекать людей в беседы, чтобы они сами приходили к выводам, если же выводы делаешь ты сам, то они должны быть ясными и доступными простому человеку, не знающему даже азов марксизма. Ты уже думал о создании первичной партийной организации в волости? — вдруг спросил Рендниек, словно меняя разговор, но фактически продолжая прежнюю беседу.
— Нет таких подготовленных людей, — ответил Озол. — Даже Ванаг еще не вполне созрел.
— На готовность нельзя рассчитывать, — заметил Рендниек. — Присмотрись к людям, убедись в их честности, разъясни им цели партии, проверь, как понимают они их: готовы ли пойти за ней и способны ли расти. Беспартийный актив у тебя большой?
— Кое-кто есть, но очень мало, — признался Озол. — Теперь я понимаю, почему я все время испытывал такое чувство, будто постоянно что-то остается недоделанным. Я очень благодарен тебе за эту беседу.
— Хочу тебе дать еще одно задание, — начал Рендниек, немного колеблясь. — Это скорее просьба, чем задание. При случае, загляни в соседние волости, посмотри, что там делается. Вот Н-ская волость. Парторг — человек честный, но плохо знает деревенскую жизнь. Ему следовало бы помочь. Затем Х-ская волость. К парторгу этой волости я питаю некоторое недоверие. Рисует все в розовом свете. Однажды даже выразился, что ему учиться не надо. Прирожденному пролетарию, дескать, инстинкт все подскажет. Там председатель тоже член партии, вступил прошлой осенью, сразу как мы вернулись. Мои люди, приехавшие оттуда, рассказывают, что крестьяне там угрюмые, как будто запуганы, на вопросы не отвечают и сами ни о чем не спрашивают.
Рендниек говорил еще долго, и чем больше он говорил, тем яснее становилось Озолу, как он должен выполнять работу, на которую его послала партия.
Уже стемнело, когда Озол зашел в другое учреждение, с работниками которого ему надо было обсудить план ликвидации бандитов. И лишь в полночь он пришел к Упмалису. Когда Озол рассказал ему о бандитах, возобновивших свою активность, Упмалис нахмурился.
— А как же Мирдза? Осталась дома одна с матерью? — спросил он с опасением. — Кое-где были случаи, когда бандиты уводили в лес активных комсомолок. О судьбе их ничего неизвестно. — И он беспокойно зашагал по комнате, шрам на его щеке побагровел.
Горячая волна ударила в голову Озола. Сам-то он сегодня утром был осторожен, а не подумал, что бандиты могут отомстить его семье. Привык считать Мирдзу самостоятельной, не нуждающейся в опеке. Правда, Ванаг научил комсомольцев обращаться с оружием. Автомат остался у Мирдзы, Озол взял с собой только револьвер. А если бандитов будет несколько, что может сделать одна девушка? И он тоже не мог усидеть на месте. Как и его фронтовой товарищ, Озол встал и зашагал по комнате.
— Знаешь что! — внезапно воскликнул Упмалис. — Поедем! Сейчас же! Шофера с собой не возьмем, обойдемся сами.
Он вызвал машину, и они поехали. «Виллис» мчался по изрытой военной дороге. Упмалис крепко сжимал руль, подавшись вперед. Они молчали. Лишь у развилины дорог Озол прикоснулся к напряженной руке Упмалиса и сказал:
— Поедем налево. Не через бор.
Машина подалась вправо, взвыла, круто повернула налево и продолжала путь, ни на секунду не сбавляя скорости. Они промчались через местечко и подъехали к дому Озола. У полуоткрытых ворот машина, взвизгнув, остановилась. В окнах было темно, на дворе и в доме — тихо. Озол тяжело вздохнул, подошел к окну и постучал.
— Назовись же! — крикнул Упмалис. — А то еще испугаешь людей.
— Оля! Это я! Открой! — крикнул Озол. В наступившей тишине он услышал частые удары своего сердца.
— Папа, это ты? — раздался откуда-то голос Мирдзы.
— Да, мне удалось приехать раньше, — откликнулся Озол, поняв, что волновался зря. Ему захотелось рассмеяться, но следующая фраза Мирдзы испугала его.
— Тебе надо было поторопиться! Теперь уже поздно.
— Как поздно? — не понял он, но потом ему показалось, что с Олей приключилась какая-то беда.
— Они удрали.
— Кто удрал?
— Бандиты.
— Значит — все же? — прозвучал из темноты голос, в котором слышались и опасение, и радость, и удовлетворение тем, что они не отложили поездки до утра.
— Я дала очередь из автомата, и они удрали, — гордо сообщила Мирдза.
— Да где ты сама, выходи к нам, — позвал Озол и услышал, как Мирдза спускает с чердака хлева лестницу. Она подошла к окну, против которого стоял отец, и в темноте стала отыскивать другого, сказавшего: «Значит — все же?» Она узнала голос.
Щелкнул засов, дверь отворилась, и на ступеньки, пошатываясь, вышла Ольга в наспех накинутом в темноте пальтишке.
— Мирдзинь! Юрис! — воскликнула она, и эти два слова выразили всю ее любовь к дочери и мужу, радость, что они живы. Но после этого силы покинули бедную женщину, ее бросило в дрожь, и, ухватившись одной рукой за косяк, она опустилась на порог.
— Пойдемте, — Озол опомнился и помог жене встать. — Валдис, Мирдза, пойдемте!
В комнате они зажгли лампочку, и Мирдза должна была рассказать, что произошло этой ночью.
— Вчера вечером маму запугала жена Салениека, — Мирдза принялась рассказывать все по порядку. — Завернула мимоходом, когда уже стемнело, и, узнав, что отец уехал, начала убеждать нас, чтобы мы ни за что не ночевали в своем доме. Наговорила всяких страстей. В одном месте парторга застрелили, в другом — жену парторга, в третьем — комсомольцев. Мать гонит меня из дому, чтобы пошла к Пакалнам или к кому-нибудь другому, а сама не идет, говорит, что ей надо дом сторожить, ее никто не тронет. Тогда я взяла автомат и забралась на чердак хлева. Но не могла уснуть. Около полуночи слышу шаги. Я подползла к слуховому окошку и высунула автомат. Они вошли во двор и начали стучать в дверь и окна. Мать, наверное с перепугу, не откликается. Тогда они принялись кричать, чтобы открыли добром. Они, мол, должны перетряхнуть это коммунистическое гнездо. Если не впустим — они нас живьем сожгут. Тогда я решила — будь что будет — и дала очередь пониже, чтобы не попасть в окно. Они попадали наземь как подкошенные. Я думала, что убиты, но через минуту слышу — шуршат в цветнике, ползут. Я опять дала очередь. Опять тишина. Вдруг — как вскочат, и бежать.
— Так значит, это ты стреляла? — Ольга наконец обрела дар речи. Но пережитый страх окончательно ее сломил. Напряжение сменилось упадком сил, и она стала плакать и истерически смеяться.
— Разве вы после этого еще не видели друг друга? — удивился Озол.
— Нет, ведь все это произошло только что, перед вашим приездом. Может быть, полчаса тому назад. Я не решалась оставлять такую хорошую позицию. Мамочка, ты успокойся! — Мирдза погладила мать по голове.
— Я и не плачу, я радуюсь, — всхлипывала мать.
— Так больше нельзя! — воскликнул Упмалис, который все время молчал и широко раскрытыми глазами смотрел на Мирдзу. — Я, право, готов бросить работу и организовать отряд, чтобы бороться с бандитами.
— Не потребуется, — улыбнулся Озол. — Я уже договорился. Если наш план удастся, то послезавтра, — нет, теперь уже завтра, — доконаем их. Мирдза, мы с Валдисом зайдем в твою комнату, а ты тем временем помоги матери улечься. Потом зайди к нам.
О чем они говорили, Мирдза не знала, но когда она вошла в свою комнату, отец и Валдис ждали ее с серьезными лицами. Озол встретил ее вопросом:
— Как ты считаешь, Мирдза, на вас, комсомольцев, вполне можно положиться?
— На меня, Петера и Зенту — вполне, — ответила Мирдза без колебания.
— А на Майгу? — спросил Озол.
— Тебе ведь известно мое мнение, — уклончиво ответила Мирдза.
— И оно не изменилось?
— Я не могу себя переломить, — призналась Мирдза, как бы чувствуя себя виноватой.
— Теперь слушай меня, — Озол решил открыть дочери задуманный план. — Есть подозрения, что Майга — агент бандитов. Не удивляйся и не раскрывай так широко глаза: я сказал — подозрения, пока у нас нет твердых доказательств. Если это действительно так, то для ее разоблачения нам нужна помощь комсомольцев. Но вам нужно соблюдать полнейшую выдержку и ни одним жестом не возбуждать в ней настороженность.
Озол рассказал Мирдзе об их плане: разделаться с бандитами и разоблачить Майгу. Это надо было начать завтра.
— Почему завтра? — воскликнул Упмалис. — Я знаю их повадку и уверен, что в следующую ночь они снова попытаются к кому-нибудь вломиться. Они орудуют мелкими группами. Стреляют и запугивают, но когда им становится слишком жарко, перебираются туда, где до сих пор было тихо.
— В городе я договорился на завтра, — ответил Озол.
— А я немедленно поеду и попытаюсь устроить на сегодня. Сколько теперь времени? Четыре? В пять я буду там, — обещал Упмалис. — Бравый солдат Мирдза, хочешь прокатиться? — шутливо пригласил он девушку.
— Да ну тебя! — засмеялся Озол. — Такому лихачу я свою дочь не доверю.
— Жаль, — вздохнула Мирдза.
— Правильно. Вам надо поспать. Может, еще сегодня предстоят большие дела, — сказал Упмалис и простился. — Значит, если перенесут на сегодня, я позвоню! — крикнул он уже в дверях. Озол и Мирдза вышли его проводить.
Когда машина рванулась от ворот и, подпрыгивая, помчалась по неровной проселочной дороге, Озол обнял Мирдзу за плечи и повел в дом.
— Вот огневой парень! — сказал он, думая об Упмалисе. — Если бы у нас все люди были с таким пылом.
— Папа, но зачем же подчас доверяют дело всяким растяпам? И всяким невеждам, ищущим только себе выгоды? — с досадой спросила Мирдза.
— Эх, дочка, ты думаешь, нам нравятся такие? Но где же взять настоящих людей и много ли есть таких? Если мы будем ждать, пока все станут идейно зрелыми, мы еще на десятки лет должны будем отказаться от социализма. Когда будешь читать Ленина, то найдешь строчки, где он подчеркивает, что социализм мы должны начать строить из материала, унаследованного нами от капитализма. Надо видеть людей такими, какие они есть, надо их учить на работе, идеологически воспитывать и, конечно, негодных отсеивать, — объяснял Озол. — Ну, а теперь все-таки пойдем, вздремнем. Возможно, у нас впереди горячий день.
День оказался действительно горячим. Когда Озол около девяти зашел к Кадикису, тот, конечно, удивился, что он уже вернулся. Озол рассказал Кадикису о происшествиях прошлой ночи, о решительных намерениях Упмалиса.
— Мы тоже кое-чего добились, — рассказывал Кадикис. — Позавчера, когда стало известно о твоей поездке в город, мне сообщили, что квартирная хозяйка Майги, Лисман, направилась в очередной поход за продуктами в усадьбу Саркалисов. Сразу же после этого Саркалиене в рессорной коляске, с бочонком из-под огурцов или капусты, поехала к Миглам. Жена Августа, проводив Саркалиене, сразу пошла по грибы и по дороге завернула в «Дукстениеки» — к Розалии Мелнайс. Таким образом, Мелнайсы, кажется, являются последним звеном в цепи, которая начинается в нашем доме. «Дукстениеки» — одинокая усадьба у Большого бора, а его хозяева — люди, готовые за деньги родную мать продать.
— Может быть, после этого нет смысла испытывать Майгу? — спросил Озол.
— Возможно, что нет, но теперь, когда мы нашли концы, нам нужно заставить Майгу и Мелнайсов точнее указать, в каком участке леса находится гнездо гадюк.
Раздался телефонный звонок. Кадикис взял трубку.
— Алло! Товарищ Упмалис! Доброе утро! Что? Сегодня? Хорошо. Вы сами тоже будете? Напрасно, обошлись бы и одни. Хочется повоевать? Ну, тогда повоюем. Да, сообщите в гостиницу Дудуму, чтобы Озола не ждал. Может ехать домой.
Разговор был закончен.
— Значит, надо начинать. Пойдем к Ванагу. Он уже обо всем знает. Зенте сообщим о наших подозрениях потом. Срочно нужно собрать комсомольцев.
— Мирдза сейчас должна явиться сюда, — сказал Озол.
Но Мирдза уже была в исполкоме и рассказывала Ванагу и Зенте о приключениях ночи.
— Это интересно, но жутко, — вздрогнула Зента. — Я, наверное, от страха оцепенела бы и забыла бы все наставления Петера, как обращаться с автоматом.
— Хватит детективных рассказов, срочно созывайте комсомольцев, — распорядился Озол. — Пусть явятся немедленно. У кого есть велосипед, пусть сразу же едет сюда.
Вскоре Мирдза с Зентой помчались каждая в свою сторону и через час уже вернулись с несколькими комсомольцами. Кадикис ушел в свою почтовую контору и отпустил Майгу на собрание.
— Сегодня у вас очень важная задача, — обратился Озол к комсомольцам. — Как можно скорее, за несколько часов, вы должны собрать со всей волости истребителей. Я сейчас зачитаю, кому в какой дом идти. Истребителям надо явиться с винтовками, в полной боевой готовности. Главное — быстрота, быстрота и еще раз быстрота, как для вас, так и для них. Как комсомольцам, могу вам сообщить, что два кулацких дома — Саркалисы и Миглы уже находятся под наблюдением. Если вы заметите что-нибудь подозрительное, сразу сообщайте. Только запомните, — никому об этом ни слова. Я думаю, что на комсомольцев можно положиться.
Озол зачитал, кому и куда направиться. Он старался не смотреть на Майгу, но, окидывая взглядом остальных, не мог не заметить в ее глазах металлический блеск; тонкие ноздри раздувались, как у зверька, нюхающего воздух в предчувствии опасности. Выслушав поставленную ей задачу, она сощурила глаза, словно прикидывая, насколько ей это выгодно, и успокоилась. Да, своим маршрутом она могла быть довольна, — сделав крюк в два километра, она сумеет зайти в «Дукстениеки» к Мелнайсам.
Комсомольцы собрались уходить. Чтобы задержать Зенту, Ванаг попросил у нее еще какой-то отчет, который ему будто бы спешно надо было отослать в город. Когда комсомольцы разошлись, а Озол направился к Кадикису, Ванаг положил руку на отчет и сказал:
— Мне он не нужен. Хотел только предупредить тебя относительно Майги. — И он рассказал Зенте о подозрениях в отношении ее бывшей подруги и о намерении выследить Майгу, чтобы поймать бандитов.
— Этого не может быть! — воскликнула пораженная Зента. — Нет, я не верю.
— Пока окончательно еще не доказано, — согласился Ванаг, — но скоро все это выяснится. Если она зайдет к Мелнайсам, тогда отпадут все сомнения.
— Нет, это немыслимо! — протестовала Зента, схватившись за голову. Ею овладел ужас. Так долго подле нее извивалась змея, а она этого не замечала и из-за нее даже повздорила с Мирдзой. Если отношения с Майгой и не были уже такими сердечными, как раньше, то все же она продолжала сочувствовать ей — такой одинокой на чужой стороне, потерявшей родителей и оставшейся без друзей. Временами ее даже мучили угрызения совести, и она упрекала Мирдзу за то, что она чуждается Майги и старается отдалить от Майги и ее.
— Ты перестань мудрствовать, возможно это или нет, — довольно резко прервал ее размышления Ванаг. — Если что-нибудь надо делать, то нечего рассуждать. Я начинаю жалеть, что предупредил тебя. Если у тебя к Майге такие симпатии, то еще можешь все испортить.
Зента испуганно взглянула на Петера, удрученная его резкостью. Потом, не поднимая глаз, сунула бумаги в ящик, надела кофту и вывела велосипед на улицу. Петер в окно видел, как она уехала, сразу же набрав большую скорость.
«Не надо было таким тоном говорить с Зентой», — сердился он на себя и с досады кусал губы. Как трудно ему бороться со своей несдержанностью, все еще вырываются слишком резкие слова — о них не надо жалеть, если они предназначены для врага, но в обращении с друзьями грубость непростительна. Вот и теперь, слова его, как крапива, обожгли Зенту, а ведь ей он говорил бы самые нежные слова, если бы только хватило смелости. Нет, он не осмеливался. Она всегда была такая спокойная, такая со всеми приветливая, добрая и обходительная, что он рядом с нею казался себе неуклюжим медведем. Да, медведем, которому так и хотелось подхватить Зенту на руки. Но он сдерживал себя — вдруг она заметит, какие чувства бушуют в груди ее послушного ученика, и начнет его избегать, сторониться… И вот… Эх, хотелось стукнуться головой о стенку. Быть может, Зента все время терпела его только потому, что, как комсомолка, считала своим долгом помогать ему в учебе, ну, а если ее терпение кончилось? «Тогда ты получишь по заслугам», — он ударил себя кулаком по лбу.
У исполкома остановилась машина. Приехал Упмалис и еще несколько человек, все они зашли к Кадикису, только одного из прибывших Упмалис проводил к Ванагу и попросил временно устроить в его комнате.
Примерно через час начали собираться истребители, жившие поблизости. Ванаг размещал их в зале заседания, чтобы случайные посетители, увидев их, не разнесли по волости весть о подготовке операции.
Время шло, один за другим начали возвращаться комсомольцы. Подходили извещенные истребители. Пришли несколько незнакомых людей и спросили Озола. Наконец собрались все. Не было лишь Майги. Кадикис, Озол и Упмалис нервничали, опасаясь, что она может не вернуться вовсе. Если Майга заметила возникшие против нее подозрения и испугалась, что бандиты могут попасться и выдать ее на допросе, или вообще изменила свои планы, то она, действительно, могла и не вернуться, попытаться где-нибудь спрятаться, исчезнуть навсегда.
Среди людей, готовых к борьбе, Зента как-то растерялась. От быстрой езды и, может быть, от терзавшего ее волнения ей стало жарко, захотелось пойти домой — умыться. Попросив у Ванага разрешения отлучиться на полчаса, она позвала с собой Мирдзу. Хотелось с близким человеком поговорить о Майге, добиться полной ясности. Но у Мирдзы не было желания уйти хотя бы на минуту из комнаты, где развивались столь важные события, ей хотелось самой присутствовать, передавать из комнаты в комнату распоряжения, слушать смелые предложения Упмалиса и восхищаться хладнокровием, с которым он готовился к предстоящей схватке, обещавшей быть совсем не легкой. Мирдза отказалась пойти с Зентой, и та уехала одна, но Ванаг заметил, что едет она так неуверенно, словно только недавно научилась ездить. И он снова пожалел, что несколькими сердечными словами не исправил свою недавнюю резкость, но кругом были люди, а он не умел одним словом или взглядом высказать свои чувства.
Наконец примчался на велосипеде один из наблюдателей и сообщил, что Майга по дороге из исполкома сделала крюк и зашла к Мелнайсам. После ее ухода Розалия Мелнайс поспешила на восточную опушку бора и там под корни сосны положила записку. На обратном пути Розалия задержана, и вот — бумажка, найденная под сосной.
Записка была краткой, шифрованной:
«Милый! Сегодня вечером ко мне не приходи. У меня много работы. Буду дежурить всю ночь. Когда освобожусь — сообщу. Милочка».
— А Майга? Куда делась Майга? — нетерпеливо спросил Озол.
— Только что видели, как она входила в домик Зенты Плауде, — сообщил наблюдатель.
— В таком случае сейчас же задержим ее там, — решил Кадикис.
Небольшой промежуток времени отделял их от трагедии, разыгравшейся неподалеку от местечка, в маленькой усадебке, одиноко прилегавшей к березовой роще, у изгиба реки, а со стороны дороги утопавшей в пышной чаще кустов сирени и жасмина.
Придя домой, Зента умылась. Мать позвала ее покушать и поставила на стол жареные грибы и картошку. Девушке не хотелось есть, но, чтобы не огорчать мать, надо было хоть немного положить себе на тарелку.
Мать и дочь еще не успели встать из-за стола, как постучали в дверь и вошла Майга. Ее также усадили за столь мать Зенты не впервые баловала «сиротку» — так она иногда называла Майгу.
— Значит, решили серьезно взяться за это дело? — спросила Майга, стараясь, чтобы в ее голосе слышалась радость.
— Должно быть, — рассеянно ответила Зента.
— Давно бы пора! — воскликнула Майга. — Больше нельзя было терпеть! Они ведь могут уничтожить весь советский актив, — стала она возмущаться.
Зента подумала о том, что враг не мог бы так возмущаться, здесь, возможно, произошло какое-то недоразумение, которое скоро выяснится.
— Как по-твоему, операция начнется сразу? — попыталась уточнить Майга.
— Что вы тут все намеками говорите? — мать пытливо посмотрела на девушек. — Или опять будут ловить бандитов? Весной уже ловили — и что получилось? Разве волка в кустах поймаешь? Ешь, дочка, — она пододвинула Майге тарелку с грибами, — только сегодня собрала. Недавно я подумала, что ты тоже собралась по грибы; только вышла из леса и чуть не столкнулась с тобой. Нет, смотрю, ты без корзинки. А потом ты так быстро повернула на дорогу в «Дукстениеки», что я не успела ни окликнуть, ни рукой махнуть.
Зента вздрогнула, словно ее ударили. Вилка со звоном полетела под стол, а Зента наклонилась за ней, стараясь совладать с волнением, от которого кровь ударила в голову. Значит, все же, все же!
Должно быть, Зента не сумела скрыть своего волнения, вероятно, на лице ее отразилось чувство отвращения, и Майга поняла. Зента увидела, как ее глаза застыли, словно гипнотизируя. «Как гадюка! Она смотрит, как гадюка!» — подумала Зента, вся дрожа. Шея Майги странно изогнулась, в глазах сверкнула злоба. Все это продолжалось лишь одно мгновение, затем Майга стремительно вскочила и с необыкновенным проворством сунула руку в карман, так же быстро выхватила ее и вскинула. Зента успела заметить в ее руке что-то черное и блестящее, затем она почувствовала толчок, ей показалось, что все рушится и кружится, заволакивается полной темнотой. Это было ее последнее ощущение.
Но ничто не рушилось. На дворе стоял ясный день, и к маленькому домику подходили пятеро вооруженных людей. Трое из них спрятались в сиреневых кустах, а двое направились к двери. Они не успели постучаться, как дверь распахнулась от сильного рывка и навстречу им выскочила Майга. При виде людей она пронзительно закричала:
— Помогите! Убили их!
Как безумная, Майга бросилась через большую цветочную клумбу. Словно не замечая никого и продолжая выкрикивать одни и те же слова, Майга метнулась в сторону рощи и побежала между сиреневыми кустами, но здесь ее схватили сильные руки и оттолкнули обратно. Убедившись, что ей не уйти, Майга притихла и залепетала:
— Там… убиты…
Ванаг отделился от группы и, споткнувшись о порог, бросился в дом. На полу, в луже крови, лежали Зента и ее мать.
Не понимая, что делает, он подхватил Зенту на руки, огляделся вокруг, словно ища, куда ее положить, затем выбежал со своей ношей во двор… Забыв обо всем, он кинулся к дороге, видимо, желая унести Зенту к себе в комнату, прочь от этого ужаса, от крови, хотя не знал, жива ли еще девушка.
— Что ты делаешь! — крикнул Упмалис. — Сейчас же положи ее на кровать. Осторожно, без сотрясения! Возможно, она еще жива.
Только теперь Ванаг сообразил, что она, быть может, и не жива, и еще бережнее, словно хрупкий надломленный цветок, он понес Зенту обратно в комнату и уложил на белую постель, которая сразу же начала окрашиваться в красный цвет.
Наказав остальным покрепче держать Майгу, Упмалис тоже направился в дом.
— Рана еще кровоточит, значит жива! — воскликнул он. — Беги скорей в местечко за фельдшером, он у тебя в комнате. Пусть идет со всем перевязочным материалом. Нет, останься, я привезу его на машине.
Он умчался на велосипеде Зенты, и не прошло и десяти минут, как «виллис» затормозил на маленьком дворике. В машине была и Мирдза. Окинув Майгу коротким враждебным взглядом, она вместе с фельдшером бросилась в комнату.
Глотая слезы, она помогла раздеть Зенту и увидела, что кровь струится из небольшой раны на боку. Фельдшер разорвал индивидуальный пакет, вынул из сумки еще марли и ваты и с помощью Мирдзы сделал перевязку.
— Будет жить, — заключил он, сам того не зная, что эти слова значат для Петера. Теперь он вновь обрел способность двигаться, помог перенести на кровать мать Зенты, но фельдшер, пощупав безжизненную руку старушки, покачал головой и тихо сказал:
— Умерла. Попало прямо в сердце.
Ванаг и Мирдза остались около Зенты. Пообещав прислать женщин, которые обрядили бы покойницу и прибрали комнату, Упмалис вышел, чтобы отвезти в местечко арестованную и ее охрану. Во дворе он что-то вспомнил и подошел к цветочной клумбе. Раздвинув густые цветы, он извлек пистолет — маленький, блестящий браунинг — и спрятал его в карман.
В исполкоме Майгу ввели к руководителю операции. Коротким жестом он предложил ей сесть. Некоторое время он смотрел на нее молча, затем сказал:
— Ну, «лесная кошка», Милия Рейхвальд, все-таки попались?
— Я не понимаю, о чем вы говорите? — резко ответила бывшая Майга Расман.
— Не может быть, чтобы вы забыли свое настоящее имя и унаследованную от отца фамилию!
— Мой отец был фабричный рабочий Расман, и он дал мне имя Майга, — ответила она в прежнем тоне.
— Ладно, не будем спорить о вашем отце. Кто он, это могла бы сказать только ваша мать. Хотя жены торговцев — типичнейшие мещанки, все же не исключена возможность экстравагантного романа и с фабричным рабочим.
— Не смейте издеваться над моей матерью! — выкрикнула арестованная и, заплакав, прикрыла глаза носовым платком.
— Вы сами затеяли это, — заметил допрашивающий. — Бросьте играть. Разве вы не видите, что ваша роль сыграна? Хватит вам осквернять имя комсомолки Майги Расман, замученной фашистами девушки. Предлагаю вам сознаться.
— Мне не в чем сознаваться, — всхлипывала Милия Рейхвальд. — Я не знаю, что вам от меня нужно?
— Почему вы стреляли в Зенту Плауде и ее мать? Вот что я хочу знать.
— Я не стреляла. Когда я вошла, они были уже убиты.
— Вашим браунингом? Да? — допрашивающий вынул из кармана найденное оружие. — Между прочим, он теперь разряжен, можете не пытаться выхватить его и пустить в действие.
— У меня никогда не было оружия, — отрицала Милия.
— Да? И это письмо не вы писали? — он достал из ящика найденную в лесу бумажку.
Милия взглянула на записку и покраснела, но тут же, сделав над собой усилие, попыталась выдать свое смятение за девическую стыдливость.
— Это я писала… своему жениху, — призналась она.
— Вилюму Саркалису? — насмешливо заметил допрашивающий.
— Нет. Я такого не знаю.
— Кому же тогда?
— Извините, это интимное дело, и я могу об этом не говорить. Мне надо было сообщить, чтобы он сегодня вечером ко мне не приходил.
— Ладно, на этом пока кончим.
Руководитель операции вызвал конвоиров и приказал увести Рейхвальд.
— Это закоренелая преступница, — рассказывал он Озолу, Кадикису и Упмалису, вошедшим к нему, когда увели арестованную. — Недавно мы выяснили, что в Лиепайском уезде комсомолка Майга Расман попала немцам в лапы. После ужасных пыток ее казнили. Ее документы передали Милии Рейхвальд, дочери торговца, которая в отместку за произведенную в свое время национализацию предприятий отца, а возможно, и в поисках острых ощущений, но скорее всего из ненависти к большевикам, поступила на работу в гестапо. Специальность — провокация. Она являлась в деревню будто для того, чтобы скрыться от трудовой повинности. Действуя сообща с шуцманами, она делала вид, что ей угрожает преследование немцев. Заручалась доверием враждебно настроенных к фашистам людей, даже снабжала их коммунистической литературой и подпольными воззваниями. И когда ей удавалось выследить всех, кто мог быть связан с подпольной работой и помогать партизанам, Милия-Майга спешила исчезнуть, чтобы всплыть в другом месте, а ее жертвы попадались в ненасытную пасть гестапо. С приближением Красной Армии она переквалифицировалась в специальной школе. Поступила в организацию «лесных кошек». Стала шпионкой, связной бандитов. Но почему она сегодня стреляла в обеих женщин, этого она нам, наверное, сразу не скажет.
— А почему мы не слышали выстрелов? — только теперь вспомнил Упмалис. — И почему она после того, как стреляла, задержалась?
— Пусть принесут туфли Милии, — обратился Кадикис к руководителю операции.
Когда туфли были принесены, Кадикис повернул их подошвами кверху и понюхал:
— Вон она какая! Не захотела, чтобы Джек показал свое искусство. Так он может утратить свою квалификацию. — Кадикис усмехнулся и пояснил: — Она задержалась, чтобы смазать подошвы керосином.
Из леса явился связной. Двукратная проческа не дала абсолютно никаких доказательств, что в заподозренном районе находится убежище бандитов. Грозила полная неудача. От Мелнайсов, которые были задержаны, ничего толком узнать нельзя было. Они не отрицали, что Миглы и Саркалисы время от времени приносили к ним продукты и письма, бандиты, чаще всего братья Миглы, забирали передачи по ночам или же Мелнайсы сами относили в условленное место. Казалось, тайное логово бандитов им на самом деле неизвестно. Арестованные супруги Миглы и Саркалиене с дочерью также уверяли, что ничего не знают.
— Если бы можно было взять с собой Ванага, — предложил Упмалис, — он, как бывалый партизан, скорее напал бы на след. Не может быть, чтобы письма оставляли далеко от логова бандитов. Но Ванаг, кажется, слишком потрясен. А может быть, все-таки…
— Пожалуй… — ответил Кадикис, поняв его. — Я думаю, что он уже пришел в себя. Надо действовать быстро. До вечера не так далеко, а ночью они могут ускользнуть.
Упмалис поехал к домику Зенты. Невесело было входить в домик, где девушка боролась со смертью, где только что вынесли из комнаты и положили в сарайчик на стол старушку, убитую Майгой, которую она баловала, как собственное дитя.
Зента лежала без сознания. Время от времени она шевелила губами, и тогда Мирдза по капле вливала ей в рот воду, а Петер немного приподнимал голову Зенты, чтобы вода не пролилась мимо. Упмалис рассказал Ванагу о безуспешности облавы.
— Мне кажется, что ты своим партизанским глазом мог бы увидеть лучше других, — закончил он. — Поэтому я хотел бы взять тебя с собой. Около Зенты могут остаться фельдшер и Мирдза, а двор будут охранять комсомольцы.
Петер выпрямился во весь рост. Если бы Упмалис видел его в тот день, когда он с обнаженной головой стоял в комнатке убитой матери, то убедился бы, что и сейчас в его глазах та же ненависть и решимость. Так уж случилось, что самые дорогие ему люди пролили свою кровь в схватке с подлым, безжалостным старым миром. Ему надо еще раз броситься в бой, он не может стоять у постели любимой девушки и, ломая руки, вздыхать.
Чтобы скорее добраться до цели, они поехали на машине, которую оставили на опушке леса под охраной комсомольцев.
Цепь истребителей с Ванагом и Упмалисом в центре прошла плотно оцепленный сектор леса. Напрасно! Руководство уже хотело было отказаться от поисков, но Петер настаивал, чтобы еще раз прочесали лес. Теперь они с Упмалисом разошлись. Ванаг встал на левый фланг, Упмалис — на правый.
В середине оцепленного участка Петер обратил внимание на какой-то бугорок, который казался, как и остальные места в лесу, обросшим мохом и елками. Но местами на бугорке мох слегка пожелтел, и это при свете предзакатного солнца выделяло его среди остальной зелени. Петер подошел, ощупал начавшую желтеть елочку, потянул и, неожиданно для себя, вырвал ее из земли — оказалось, деревцо было лишь воткнуто. Он топнул ногой — земля глухо загудела, значит, под нею была пустота. Сердце Петера учащенно заколотилось — здесь мог быть враг. Он дал остальным знак молчать, собрал вокруг себя человек тридцать и расставил их широким кольцом вокруг подозрительного места. Он допускал, что из землянки может идти потайной ход. С десятью истребителями он приступил к обследованию бугорка и под густыми кустами можжевельника нашел вентиляционный люк. Недолго думая, он запустил туда три ручные гранаты и отскочил в сторону. Почти одновременно раздались три взрыва, из подземелья послышались истошные крики и стоны.
— Сдавайся, кто еще жив! — повелительно крикнул Петер, наклонившись к люку, но вместо ответа услышал лишь эхо, откликнувшееся со всех сторон в вечернем, уже сыром лесу. Стоны в землянке утихли, доносились лишь сдержанные вздохи.
Вдруг метрах в двадцати от бугорка закачалась и упала елка, из-под нее выполз человек, быстро вскочил и бросился бежать. Автоматная очередь свалила его наземь. После минутного затишья в подземелье грянул револьверный выстрел. Петер, не понимая, что происходит, швырнул туда еще три гранаты.
— Миной подорвем, если не сдадитесь! — крикнул он, осторожно наклонившись над лазом. Из люка показались поднятые кверху две руки, потом голова. Подбежавшие истребители вытащили на поверхность бывшего пастыря общины Гребера.
— Много еще вас там осталось? — спросил Ванаг.
— Двое живых и пятеро мертвых, — поспешил сообщить Гребер.
— Не врешь?
— На
сей раз не вру, — уверял он.
— Крикни, чтобы добром выходили. Если нет — взорвем.
Нагнувшись над люком, Гребер крикнул:
— Вилюм! Лучше выходите все! Здесь чуть ли не целая дивизия. Ничего не поделаете.
Вылез человек, которого никто из местных жителей не знал.
— Это Зупениек из соседней волости, — поспешил отрекомендовать Гребер.
После этого в отверстии показалась рыжая голова, бандит поднял дрожащие руки. Вилюм настолько перепугался и обессилел, что пришлось помочь ему вылезть.
— Кто еще был в вашей банде? — строго спросил Петер.
— Готлиб Мигла пытался бежать, но вы, кажется, убили его, — услужливо сообщил Гребер. — Леопольд Мигла застрелился, а остальные погибли от гранат.
— Идите и уберите трупы! — приказал Петер. — Мы свои руки не будем пачкать этой падалью.
Тяжело дыша, они выволокли сперва Леопольда, затем искромсанные трупы остальных бандитов.
— Теперь ты окажи, не прячется ли там еще какая-нибудь гадина? Если соврешь, поплатишься головой, — строго сказал Петер Греберу.
— Видит бог, что нет!
Двое истребителей с револьверами в руках спустились в землянку и, освещая электрическим фонариком дорогу, осмотрели убежище бандитов. Они доложили, что землянка отлично оборудована, обшита досками, в ней хорошие нары, печурка и даже уборная в одном из боковых ходов. Неожиданно богатыми оказались запасы продовольствия, натасканные бандитами, готовившимися к зимовке. Там были ящики с маслом, головки сыра, похищенные, видимо, с маслодельного завода, бидон с медом и даже консервы, сахар, вина и ликеры. В углу лежал приводной ремень.
— Там добрая машина груза. — кончили свой доклад бойцы.
Арестованных отвели к опушке леса и усадили на грузовики. Их привезли в местечко, где Вилюму, после того как он во всем сознался, была устроена очная ставка с Майгой-Милией, подписавшейся на вещественном доказательстве — положенной для бандитов записке — Милочкой.
— Значит, она и есть та самая Милия Рейхвальд, снабжавшая вас информацией? — спросили Вилюма. По холодному взгляду Милии Саркалис мог понять, что она ни в чем не созналась, но бывший шуцман, храбро расстреливавший беззащитных женщин и детей, так перепугался, что даже не попытался что-либо отрицать.
— Эта самая и есть, — выдохнул он.
Рейхвальд с видом оскорбленной дамы топнула ногой. И как ей было не возмущаться — она до последней минуты старалась спасти Вилюма и его банду, а он оказался трусом, тряпкой, живым отдался в руки большевиков и теперь топит и ее.
— Надо надеяться, что Рейхвальд теперь уже не будет отказываться от своего отца, бывшего торговца и домовладельца? — насмешливо спросил руководитель операции.
В тот же вечер на двух автомашинах отправили в город чету Мигл, Саркалиене с дочкой, Эдуарда и Розалию Мелнайс, швею Лисман, Милию Рейхвальд, Гребера, Зупениека и главаря банды Вилюма Саркалиса.
В Большом бору, где позапрошлой ночью Зупениек и братья Миглы подстерегали парторга Озола, передняя машина на повороте дороги чуть не наскочила на встречную подводу. Один из истребителей, узнав аптекаря, сидевшего рядом с Густом Дудумом, крикнул:
— Везем два воза убийц!
Дудум бросил взгляд на сидевших в первом грузовике и при свете фар задней машины узнал Августа Миглу и Саркалиене — луч упал прямо на их лица. Густ вдруг ссутулился, затем хлестнул лошадь, словно спешил удрать от призраков.
Проехав немного, Густ, обращаясь скорее к себе, чем к соседу, резонирующе протянул:
— Латышей увезли…
Но аптекарь внезапно выпрямился на сиденье и весело ответил:
— Вы слышали — он сказал убийц, а не латышей! Теперь наступят более спокойные времена, — облегченно вздохнул аптекарь.
22
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Озол вернулся домой довольный: ему удалось организовать красный обоз, который на рассвете должен был собраться у коннопрокатного пункта и отвезти государству богатый урожай зерна. Густ Дудум и еще несколько бывших крупных хозяев, разумеется, отказались примкнуть к обозу. Ну и пусть везут отдельно, если им так претит каждое соприкосновение с новохозяевами и середняками. Дудум сказал: «У меня еще времени хватит». Так и не удалось убедить его досрочно выполнить обязательства. Он вытащил из кармана бумажку и, водя пальцем, все повторял: «Хлеб мне нужно сдать к такому-то сроку, молоко к такому-то, мясо к такому-то, чего вам еще надо? Тогда уж написали бы, что все необходимо сдать в один день, и я сдал бы». Нельзя было втолковать ему, что сроки даются более длительные для того, чтобы пойти навстречу хозяйствам, которые по каким-либо уважительным причинам действительно не могут раньше сдать. Густ остался при своем, и ясно, что он все сдаст в последний день или только после неоднократных напоминаний.
Думини отговаривались тем, что подали в уездные организации заявления об освобождении от хлебопоставок, так как сам инвалид, на войне лишился ноги, а таким ведь идут навстречу и облегчают все поставки. У него, как и у Густа, было несколько «постояльцев», плативших за приют работой. И как смотреть на то, что за бывшей батрачкой Думиней, Алвите, числилось пятнадцать гектаров земли, но Думини по-прежнему обрабатывали их и снимали урожай. Алвите по старости освободили от поставок зерна и мяса, уменьшили ей норму сдачи молока от двух коров, зарегистрированных хозяевами на ее имя. Когда Озол справился, как Алвите ведет свое хозяйство, Думини, божась, стали рассказывать, как много они помогают старому человеку, так долго проработавшему у них и ставшему вроде члена семьи. Они, мол, не похожи на других, у них батраки и батрачки всегда были только помощниками. Озол знал, что Думини работали и сами, но всю тяжесть выносили на своих плечах «помощники», и их было всегда так мало, что пот они проливали не каплями, а ручьями, чтобы выжать из шестидесяти гектаров все то, что Думинь возил на базар.
Большой разговор вышел и со старым Пакалном. Он — не против сдачи, признавал, что нормы не трудно выполнить. Но он сомневался, найдутся ли у государства такие элеваторы, куда все ссыпать. Не случится ли так, как в прошлую осень, когда картошку засыпали в погреб разрушенного маслодельного завода, а весной вынули мягкую, словно вареную — вся померзла, — ведь здания-то сверху нету. Неужели государство весь хлеб сразу пустит в дело, что его осенью сдавать надо. Все равно понемногу по карточкам выдавать будут. С таким же успехом он сумеет сохранить зерно в своей клети, а потом постепенно свезет. Озол долго объяснял старику, какие трудности возникли в прошлую осень, когда были разрушены почти все общественные и хозяйственные постройки. Доказывал ему, что государство такой же хозяин, как и он, Пакалн, только всей страны, а хорошему хозяину уже с осени надо знать, сколько у него засыпано в клеть, чтобы можно было равномерно расходовать на питание и высчитать, сколько выделить на семена, сколько оставить на прокорм скоту. Молодой Пакалн, демобилизовавшийся этим летом, вмешался в разговор и признал, что лучше сдать все сразу, тогда самому виднее будет, как правильнее распределить остальное. «А то смотришь, клеть еще полна, и берешь две горсти, когда можно было бы обойтись и одной». Старик поупрямился еще немного, потом усмехнулся:
— Я завтра буду первым у коннопрокатного пункта. Мне ведь только хотелось с вами поспорить. Если делать, так делать. Хороша та работа, что уже сработана.
Утром у коннопрокатного пункта собралось тридцать подвод. К ним присоединился Ян Приеде с четырьмя повозками. Лауск ехал впереди с развевавшимся на ветру красным знаменем. Теперь они спокойно проезжали через Большой бор — гнездо гадюк было уничтожено, пособников бандитов тоже ожидала заслуженная кара.
Озол оказался рядом с Яном Приеде, тот был сегодня чем-то удручен, опечален.
— Что у тебя случилось? Лошадь заболела, что ли? — поинтересовался Озол.
— Да нет, — махнул Ян рукой.
— Что ж тогда? У тебя очень уж нерадостный вид.
— Да Эмма хочет уходить, — поведал Ян.
— Почему же? — удивился Озол. — Ведь еще недавно говорила, что ты хороший начальник.
— Да не из-за того, — махнул Ян другой рукой. — Говорит, не нравится ей такой порядок. Прислал директор, ну, Трейманис этот, всяких людей. Вот кузнец, ну и пьяница же он. Пил бы сам, а то других подбивает. У нас все молодые ребята собрались, некоторые немногим старше Эдвина, ну и учит их пить. Кто не хочет, тому чуть ли не силой в рот льет. По-всякому издевается, маменькиными сынками называет. Эмма говорит, здесь жить не стану, еще научат моего Эдвина пить.
— Это будет большой утратой, если Эмма уйдет, — пожалел Озол.
— Да я не знаю, как мне быть, — колебался Ян. — Просить себе землю или как-нибудь иначе? Только жаль лошадей оставлять. Как бы снова не появился кто-нибудь вроде Калинки. Жеребята так хорошо подросли. Следующей весной опять будет штуки четыре. Эмма говорит: мне дети дороже твоих жеребят.
— Что же, вы решили с Эммой жить вместе? — наконец понял Озол.
— Да как будто так, — признался Ян. — Она говорит, куда ты один, старый холостяк, денешься, кто за тобою ходить будет. Говорит, у меня, правда, дети, захочешь ли ты с чужими возиться, а я отвечаю, они мне как родные. И верно — такие хорошие. Эдвин на круглые пятерки учится. Сам машины делает. Гайдиня такая певунья. Все мотивы запоминает. У нас там, в имении, есть рояль. Одним пальцем все песенки играет. Я говорю, если вы уйдете, мне без вас будет чего-то не хватать.
— Ты не отпускай, — посоветовал Озол. — Забегался я с этими осенними работами, упустил из виду твои владения. В воскресенье зайду, поговорю с молодежью. Неужели они так испорчены?
— Они и не пили бы, да кузнец. Я уж говорю: из-под земли он достает водку, что ли?
— А когда будет свадьба? — весело спросил Озол.
— Да тут есть над чем подумать, — откровенно рассказывал Ян. — Эмма говорит, мы люди старого склада, надо бы в церкви венчаться, у пастора. Я отвечаю, мне стыдно, если перед всем приходом. Ну, тогда, говорит она, можно пастора позвать на дом. А потом слышим — здесь, в лесу, поймали этого пастора Гребера. И Эмма сказала — пусть будет по-новому с венчанием-то, раз они такие, эти пасторы. Гребер, говорят, сознался, что избил Салениека.
— Возьмешь меня в свидетели, когда будете расписываться? — спросил Озол, улыбаясь.
— Да разве свидетели тоже нужны? — забеспокоился Ян. — Я думал, что так — просто идут и расписываются.
— Как же так. Наедине запишетесь, а потом ты будешь говорить, что сказал «нет», а не «да».
— Так-то я не скажу, — запротестовал Ян. — Да она же мне нравится, эта Эмма. Она женщина серьезная.
— Совсем не такая, как ее брат, Густ?
— Конечно нет! Она говорит, что у Густа вытерпела — передать нельзя. Гнусный он человек, говорит она. Присосался к своему добру, как клещ.
— Ну вот видишь, Ян, кто бы мог подумать, что такую хорошую жену получишь? — улыбался Озол. — А о свидетелях не беспокойся — нынче в загсе можно записаться и без свидетелей.
— Ведь как оно было? Работал я у хозяев, думал — куда я жену дену? Дети тоже будут у других под ногами путаться. Сам ничего другого не знал, кроме вечной работы, и разве ребенку будет лучше? Батраком родится, батраком и помрет, — рассказывал Ян без всякой горечи, но у Озола перед глазами мелькали безрадостные картины батрацкой жизни. Ничего у батрака нет своего: ни уголка, ни хлеба. Ребенок, пока мал, кажется хозяину обузой, но шести-семи лет, как выходишь и воспитаешь его, становится собственностью хозяина. И ты уже не можешь его пожалеть, когда он осенним утром бегает за коровами по холодной росе, не можешь помочь, если скупая хозяйка дает ему с собой лишь черствый ломоть хлеба. Так это было веками, и странно, что люди мирились с таким порядком, привыкли считать справедливым такое распределение труда, а недовольных борцов за настоящую справедливость бросали в тюрьмы, и это тоже считали в порядке вещей.
— Еще вот о чем я хотел с тобой посоветоваться, — продолжал Ян, немного помолчав. — Эта барышня, ну та, счетовод, сказала Эмме, что не надо все продукты так подробно записывать. Часть надо посылать директору МТС. Тогда сможем и себе оставлять. Он, этот директор, будто всем заведующим коннопрокатными пунктами так говорит: «Сами можете есть и друзьям давать — это не беда». Но Эмма говорит: ты не соглашайся, а то еще в тюрьму угодишь. Делай так, как старый директор Гравитис велел.
— Правильно Эмма говорит! Своим добром можешь распоряжаться, как угодно, но государственное имущество ты должен беречь как зеницу ока!
— И я так думаю, — уверял Ян. — Как я могу отдавать кому-нибудь то, что не принадлежит мне?
К ним подошел уполномоченный десятидворки Акментынь и пожаловался Озолу, что некоторые хозяева не хотят выполнять посевной план. Говорят, раз земля принадлежит нам, то можем делать с нею, что угодно, даже молочаем и сурепицей засеять. А откуда возьмут зерно для поставок, это их дело — они могут купить и сдать.
Озолу было ясно, что здесь необходима широкая разъяснительная работа, и он задумался над тем, как ее лучше всего провести. Опять созвать собрания десятидворок, как весной, и самому присутствовать на них? Это займет много времени, если в каждой десятидворке волости окажутся такие упрямые противники плана, то можно опоздать с озимым севом. И получится, что он совершит ту же ошибку, на которую ему указывал Рендниек — все захочет сделать один. Поэтому правильнее созвать уполномоченных десятидворок, объяснить значение планирования и доверить им дальнейшую работу.
Подводчики остановили лошадей, чтобы дать им передохнуть. А многие подходили к Озолу поговорить.
— Так что же мне сказать им? — спросил Акментынь.
Чтобы все поняли, о чем идет речь, Озол рассказал, как неправильно кое-кто понимает планирование посевной площади.
— Они воображают себя американскими фермерами, которые сжигают или бросают в море пшеницу, чтобы не отдавать ее рабочим по дешевой цене. Наши крестьяне забывают, что земля — это не частная собственность, что она принадлежит государству и дана каждому в вечное и бесплатное пользование. Это не значит, что кто-нибудь смеет землю запускать и не засевать. Государство заботится, чтобы у всех был хлеб, поэтому посевы планируются так же, как и остальное производство.
— Но как же это получается? — заговорил один из крестьян, лукаво прищурив глаз. — Я даже не волен сеять чего и сколько хочу? Если вы говорите, что земля нам больше не принадлежит, то мы вроде бесплатных арендаторов, что ли? Бывало, если уплатишь хозяину арендную плату, то ему все равно, сколько и чего ты сеешь. Тогда незачем говорить о свободе?
— О свободе надо говорить и можно говорить, — медленно начал Озол. — Но свободу надо понимать и ценить. Неужели вы думаете — свобода заключается в том, что каждый делает то, что ему вздумается? Иные не желают работать, занимаются воровством. И если воров сажают в тюрьму, неужели вы скажете, что нарушены принципы свободы? Свобода — святое слово. Надо слить свои личные интересы с интересами государства, тогда государственные задания не будут казаться обузой, а добросовестное выполнение своего долга станет потребностью.
— А что мы видим в обыденной жизни? — заметил кто-то. — Каждый только о себе думает. Забывает и родину, и народ, было бы у самого наполнено брюхо да кошелек набит.
— Это не совсем так, — возразил Озол. — Конечно, не все люди одинаковы. Мы еще носим в себе пережитки старого времени. В течение тысячелетий человек видел только погоню за наживой. Ценность и положение человека определялись не его личными качествами, величием духа или способностями, а только состоянием. Сами видели, что того, у кого было больше добра, все почитали и побаивались, даже если он был последним негодяем. В Советском государстве это не так. Мы уважаем людей, которые отдают все свои силы и знания, чтобы всем, всему народу лучше жилось. Вы говорите, что таких людей нет. Есть, и даже очень много! Если бы было так, что все думают только о себе, то Советское государство уже давно бы распалось. Но оно развивается и крепнет. Тому пример — минувшая война. Ни одно государство со старым строем не могло противостоять германской военной машине. Только сравнительно молодой Советский Союз устоял и разбил немцев.
— А все же непорядков еще очень много, — покачал кто-то головой.
— Мы этого не отрицаем и боремся с недостатками, — продолжал Озол. — Но тех, кто с ними борется, и тех, кто честно работает, вы как будто не замечаете. А на каждого подлеца и растяпу все пальцем указывают.
— Да, верно, о хорошем меньше говорят. А как заметят плохое, вся волость начинает языки чесать, — засмеялся молодой Пакалн.
— Непорядки нельзя скрывать, — указал Озол. — Одними разговорами за глаза не поможешь. Надо прямо, открыто говорить. Если мы с Ванагом обижаем вас, пишите или поезжайте в уезд. Если там наших ошибок не исправят, сообщайте в Ригу. Пишите письма в «Циню».
— Жаловаться-то не так просто, — кто-то из крестьян махнул рукой. — Еще узнают, обозлятся, так тебе житья не будет. Вот за мной числятся двадцать шесть гектаров. По ним и начислены поставки — двести десять килограммов с гектара пашни. Но тут приезжал один представитель из Риги и сказал, что за болото сдавать не надо. А у меня часть топкого болота — белый мох да чахлые сосенки. Там скотину пасти и то нельзя, да и вообще от него никакого прока. Я как-то заикнулся агенту по заготовкам, чтобы не засчитывал болото. Так он заорал во все горло — известны, говорит, эти кулацкие штучки. Я решил, бог с ним, буду сдавать, пока могу, а то еще беды наживешь.
— Какую беду вы можете нажить? — удивлялся Озол. — Раз Советская власть издала такой закон, то, наверно, признала его справедливым. Сколько у вас болота?
— Да всего гектара три.
— Вот видите! Три гектара не засчитали бы, и вам пришлось бы сдавать только по сто двадцать с гектара. При хорошем урожае могли бы сдавать сверх нормы.
— Боязно спорить, — махнул крестьянин рукой. — Лайвинь этого так не оставит, если на него пожаловаться. Вот я теперь проболтался, а вы возьмете и передадите ему.
— Кто вас так запугал? — не понял Озол.
— Ты бы послушал, как Лайвинь с нами разговаривает, — вмешался в беседу какой-то старичок. — Только одно и знает: «Я вас проучу, я из вас все соки выжму». Поди, знай… — он безразлично махнул рукой.
— Послушайте, я хочу, чтобы вы мне все откровенно рассказали, — продолжал Озол, чувствуя внутреннюю дрожь. Так вот что происходит у него в волости перед самыми глазами, а он этого даже не подозревает.
— Да чего там много рассказывать! И так уж слишком дали волю языкам. Может, и не так уж все это страшно. Попал Лайвинь на должность — и бахвалится, — примиряюще сказал крестьянин, стараясь сгладить впечатление от своих слов.
— Давайте, поедем, — предложил Лауск. — С одного раза всех нас не рассудишь. Надвигается дождь. Как бы зерно не замочить, придется обратно везти.
Старый Пакалн пошел рядом с Озолом.
— Ты надо мной не смейся, — усмехнулся он. — Я как-то раз подумал, когда зашла речь о колхозах: «Вот у пчел колхоз!» Если бы так все работали, тогда без всякого сомнения можно было бы вступить.
— А разве мало у нас колхозов, где люди работают куда сознательнее пчел, — убеждал Озол. — Есть уже немало колхозов-миллионеров.
— Но скажи по правде, бывает в некоторых артелях скудновато с хлебом? — допытывался Пакалн.
— Да, бывает, — признался Озол. — Если в председатели втерся жулик или растяпа, а колхозники рассуждают так, как и вы, будто нельзя и пикнуть. Или же — сами работать не желают.
Услышав, что речь идет о колхозе, крестьяне опять начали собираться вокруг Озола — они шли с ним вровень, перепрыгивая через лужи и канавы, стараясь не пропустить ни одного слова.
— А зачем эти колхозы вообще нужны? — спросил кто-то. — Земли, что ли, от этого станет больше, ила урожай богаче?
— И земли больше, и урожаи выше, — возразил Озол. — Сколько земли лежит у вас под пустырями потому, что сил не хватает всю вспахать! На маленьких клочках трактору негде развернуться. Но если распахать межи и пустить тракторы и другие машины, то и земли прибавится, и людям будет легче.
— Значит, скоро, верно, погонят в эти колхозы, — вздохнул кто-то.
— Как странно вы думаете и говорите! — рассердился Озол. — Никто и не собирается вас туда гнать. Но если бы вы сами поняли, что такое общее хозяйство выгоднее, неужели стали бы противиться?
— Тогда, конечно, нет, — сказал кто-то тихо и пошел к своей повозке.
— Как вы считаете, — обратился Озол к остальным, — стала бы промышленность выпускать больше товаров, если бы каждый рабочий устроил себе маленькую мастерскую? Например, каждый ткет дома, хлеб для магазинов печет дома, плуги, машины делает дома. Могли бы они производить то, что и большие фабрики?
— Где там! Одна ерунда получилась бы! — раздалось со всех сторон.
— То же самое и в сельском хозяйстве. В крупных хозяйствах, так же как на крупных заводах, большую часть работы могут делать машины, — пояснил Озол.
Обоз приближался к станции, где находился приемочный пункт. Там уже скопилось много повозок из соседней волости. Оказалось, что зерно сдавать еще нельзя, так как не успели подать вагоны. Пока что производилась проверка качества хлеба, и тут случилась неприятность; у новохозяина Рикура, приехавшего с обозом Озола, зерно не приняли, так как признали слишком влажным.
— Где же мне сушить? — возмущался Рикур. — У меня дома сушилки нет.
— Свези на соседнюю ригу, — посоветовал приемщик.
— Сгорела.
— Ну, вытопи баню.
— Банька маленькая, как я туда такую уйму засыплю?
— Придумай что-нибудь. Засыпь в постель, а сам ложись сверху! — уже сердито ответил приемщик. Рикур молча пожал плечами, пошел к своей повозке и, возмущаясь, что-то начал рассказывать соседям.
— Послушайте, товарищ, так нельзя с крестьянами разговаривать! — тихо, но строго заметил Озол приемщику.
— Сам знаю, как говорить! — отрезал тот. — Надоело — всегда одни и те же жалобы, как только у кого не примешь зерна. А в конце концов оказывается, что у соседа и рига не сгорела, и банька не мала. В следующий раз привозит сухонькое.
— Если бы вам пришлось это двадцать раз в день пояснять, — подчеркнул Озол, — все же вы как советский работник не смеете разговаривать таким тоном.
— Да голова кругом идет, — пожаловался приемщик. — Вот вагоны уже давно должны были быть здесь, а их нет. Сдатчики уже начинают роптать, что ждать некогда.
— А вы справлялись, почему вагоны задерживаются?
— Говорят, на соседней станции под разгрузкой стоят — рабочих не хватает.
— Вон что! А поезд уже вышел сюда?
— К сожалению, нет.
Озол пошел к своим. Крестьяне что-то оживленно обсуждали, сердитые и возмущенные.
— Ага, хорошо, что ты пришел! — воскликнул Пакалн. — Мы вот чего не можем понять: Рикур для сдачи занял у меня зерно — свое еще не успел обмолотить. Ему говорят, чтобы вез домой — сушить, а мое признали сухим.
— Быть может, ты свое лучше просушил?
— Вовсе нет! Сегодня утром мы погрузили мешки, не выбирая. Дело в другом: сын заметил, что барышня проценты на влажность уж больно халатно проверяет — бросит зерно на весы, а они об стенку трутся. В какой раз сколько потянут — она верит всему.
— Знаете что, — Озол решил проверить наблюдения Пакална, — пойдите вдвоем с Рикуром, и пусть он подъедет со своим возом, еще раз станет в очередь. Проверим, как она взвешивает.
Рикур поехал, а Озол пошел посмотреть, как работает лаборантка.
Весы и в самом деле были установлены небрежно, и так же небрежно орудовала с ними лаборантка — торопливо сыпала зерно на чашечку и, не ожидая остановки весов, определяла вес и вносила в квитанцию.
— Вы неправильно взвешиваете, — вмешался Озол. — Так нельзя!
— Не ваше дело! — резко и заносчиво ответила девушка. — Я, наверное, за свою жизнь больше вашего взвешивала.
— Именно поэтому вам и надо как следует знать свое дело! — Озол тоже повысил голос.
— Не мешайте! Как взвешивали, так и будем взвешивать, — надменно произнесла девушка, холодно взглянув на Озола, и нарочно еще небрежнее бросила на весы зерно.
— Нет, так не будете вешать! — проговорил Озол, сдерживая себя, и пошел искать приемщика. Тот как раз оживленно беседовал с парторгом соседней волости Целминем, с тем самым, который считал, что достаточно того, что он пролетарского происхождения, а учеба ему не нужна.
— Идите и наведите порядок в своем хозяйстве! — предложил Озол приемщику. — Неужели вы не обратили внимания, как взвешивает ваша лаборантка?
— Взвешивает, как всегда, — спокойно ответил приемщик, не собираясь двигаться с места.
— И вы допускаете такое безобразие и халатность? — Озол не мог больше совладать с голосом, задрожавшим от возмущения.
— Мои работники не любят, когда кто-нибудь из посторонних вмешивается в их дела, — безразлично пояснил приемщик.
— Тогда вам надо научить их работать так, чтобы мне не нужно было вмешиваться. — Озол подчеркнул слова «вам» и «мне».
Приемщик только руками развел.
— Хорошо, если теперь вообще можно человека на работу заполучить. Начнешь с ним браниться, поклонится, и — до свиданья!
— Послушайте, или вы сейчас поговорите со своей сотрудницей, или должен будет вмешаться прокурор! — пригрозил Озол, потеряв терпение.
Упоминание о прокуроре расшевелило приемщика. Он хотя и неохотно, но пошел с Озолом. То и дело их останавливали крестьяне, спрашивали, когда наконец начнут принимать зерно и можно будет вернуться домой. Ведь надо дожинать яровые, готовить землю под рожь, каждый час дорог.
На этот раз приемщик пространно объяснял каждому, что не его вина — состав до сих пор не подан. Они подошли к лаборантке как раз в тот момент, когда Рикур со свидетелями вторично сдавал пробу зерна. Даже не взглянув на старика, девушка на этот раз взвесила аккуратно и заключила:
— Четырнадцать процентов, — так и записала.
— Пусть кто-нибудь скажет теперь, что в наше время не бывает чудес! — воскликнул Рикур, притворяясь удивленным. — За полчаса три процента влажности испарились.
Лаборантка не поняла, покосилась на него, но Рикур протянул ей первую записку, на которой девушка написала: влажность 17 процентов.
— У меня есть свидетели, что это то же зерно, на которое вы раньше дали заключение, — сказал Рикур.
Девица вспыхнула и уже собралась раскричаться, но, встретив строгий взгляд Озола, смутилась, попыталась оправдаться — дескать, как знать, не насыпал ли теперь Рикур в мешок взятое у кого-нибудь сухое зерно. Свидетели заверили, что могут перед судом поклясться, что здесь нет никакого обмана, а Пакалн пояснил, что зерно его обмолота, и показал квитанцию, на которой было указано 13,5 процента влажности. Лаборантка побледнела — не от сознания вины, а от злости.
— Товарищи, давайте составим акт и передадим соответствующим органам, — предложил Озол.
Девушка залилась слезами, а приемщик мялся и бормотал:
— Гертынь, не надо плакать… не надо… ну, не плачь же!
Озолу стало ясно, что не приемщик является начальником капризной девушки, а она им командует.
— Слезы не помогут, — твердо сказал Озол, взяв бумагу и химический карандаш. — Мы вас предупреждали, и теперь ваши слезы нас не разжалобят.
Он стал писать акт, а приемщик вертелся около него, пытаясь отвлечь его в сторону. Озол притворился, что не замечает, написал, что следует, и дал подписать остальным.
— А теперь поставьте весы так, чтобы не задевали о стенку, и взвешивайте как положено, — сказал еще Озол. Лаборантка послушно отодвинула весы и вяло принялась проверять зерно, так и не преодолев внутреннего упрямства.
«Вот такие людишки втерлись в советские учреждения», — думал Озол, идя вдоль железнодорожной насыпи. Он чувствовал некоторую усталость от неприятного спора, ему хотелось минутку побыть одному, успокоить нервы, освободиться от болезненного напряжения в висках.
Пройдя около полукилометра, он сел на камень на откосе насыпи и окинул взглядом раскрывшуюся перед ним панораму. В еловом лесочке, по-осеннему особенно зеленом, ярким украшением выделялось золото берез. Он представил себе, как хорошо в таком лесочке летом, когда на поляне печет знойная жара, а под деревьями — освежающая прохлада, хочется разуться, пройтись по проторенным тропинкам и почувствовать, как босые ноги нежно ласкает шелковистая трава, среди которой цветут голубые колокольчики и розовые смолки. Но сейчас над елями нависла черная осенняя туча, за которую нельзя ручаться — пройдет она мимо или разразится сильным дождем.
По эту сторону елей простираются лоскутки полей с яровыми хлебами. На некоторых участках уже все скошено и сложено в скирды, на некоторых убрано только наполовину, но есть и такие, где косьба еще не начата, а на одном хлеб еще зеленоватый, недозрелый.
Из дома, укрытого зеленью сирени и красными кленами, выходит женщина с ребенком на руках. Второй, побольше, бежит за нею, временами хватаясь за юбку матери. Подойдя к недокошенному полю, женщина опускает младенца на межу, сдвигает вместе несколько снопов, застилает их одеялом, устраивает на нем обоих детей, а сама берет косу и начинает махать. Коса, очевидно, не из острых. Женщина взмахивает широко, с натугой и часто точит косу. Большему ребенку, видимо, скоро надоела роль няни, он поднялся и подошел к матери сзади. Озола бросило в дрожь, хотелось крикнуть, чтобы мать не задела ребенка косой, но женщина уже сама заметила маленького непоседу, бросила косу и отвела мальчика обратно к одеялу. Но как только она начала косить, тот снова встал и запетлял по стерне к матери.
Одинокие косцы, лоскутки земли, разделенные межами. Столь обычная для латвийской деревни картина! Как помочь, как облегчить матерям выращивать молодое поколение?
Перед глазами Озола встала другая картина — обширное поле, густые, ровные, дружно созревшие хлеба. По полю движутся жнейки, шумная и веселая бригада убирает сжатое, быстро складывает в копны и скирды. Со стороны дома доносится неумолчный гомон играющих детей. Дети постарше помогают отцам и матерям, рассыпавшись, как муравьи, по полю, собирают упавшие колосья. Как убедить людей в том, что общая работа облегчит их жизнь, освободит от тяжести одиночества, которое давит всякий раз, когда одному надо выходить на косьбу или прокладывать на целине первую борозду?
Озол посмотрел влево и заметил оживленное движение на приемочном пункте. Вереница опорожненных подвод сворачивала на дорогу и быстро удалялась. Странно, что он, сидя у самой железной дороги, не услышал приближение поезда. Озол взглянул на рельсы, уходившие вдаль, но на них не было ни одного вагона… Куда же люди ссыпают зерно?
Охваченный недоумением, он встал и быстрым шагом направился на пункт. Уже издали он увидел, что крестьяне подъезжают к широкой дощатой платформе, сооруженной у рельсов, развязывают мешки и высыпают зерно прямо под открытым небом. Как на фронте, он инстинктивно сунул руку в карман и притронулся к револьверу. Спохватившись, отдернул вспотевшую руку. Он хотел бежать туда, где так легкомысленно ссыпают на землю плоды летних трудов, но сдерживал себя, боясь, что не совладает с рукой, то и дело тянувшейся в карман за револьвером.
Разыскав приемщика, Озол хотел спокойно спросить, что это означает, кто разрешил высыпать зерно на платформу, но некоторое время не мог произнести ни слова. Рот раскрывался, но голос застревал в груди.
— Как вы смеете!.. по какому праву!.. Почему вы ссыпаете под открытым небом! — наконец удалось ему выговорить.
— А что я могу поделать? — оправдывался приемщик. — Разгрузка вагонов задержится на двадцать четыре часа. Дополнительных составов нет. Как мне быть? Крестьяне чуть не взбунтовались. Говорят, повезут зерно домой, а мы можем за ним потом приезжать. Я не имею права не принять. Скажите сами, что бы вы сделали на моем месте? — последняя фраза звучала, почти как просьба о совете.
— Что бы я сделал? — не сразу нашелся Озол. — Спрашиваете, что я бы сделал? Об этом я бы подумал весной, а не теперь. И если бы вы спросили меня об этом весной, то я посоветовал бы вам в течение лета построить самый простой навес. Для этого досок я бы нашел.
— Обо всем без вас подумали, — начал сердиться приемщик. — Видите, вон склад пустует? Я за него все лето воевал, чуть ли не килограмм бумаги исписал.
Озол оглянулся и удивился, почему раньше не заметил склада. То была обширная постройка, вплотную примыкавшая к железнодорожной ветке. Случайно уцелевший склад обильно зарос молодой крапивой и лебедой.
— Что это за склад? — поинтересовался Озол.
— Бывшего «Конзума». Теперь передан кооперативу. Я написал правлению несколько отношений с просьбой передать нам помещение на осенний сезон, поскольку они сами пока им не пользуются. Напрасно. Писал в уезд, просил их ходатайствовать в центре. Тоже ничего не вышло, — рассказывал приемщик.
— Да, писать вы горазды, — усмехнулся Озол. — Это удобно — сидеть за столом и писать.
— А что бы вы сделали? — закричал приемщик, рассердившись. — На голову стали бы? На руках ходили бы?
— Нет, я думал бы головой, а не другим местом! — вспылил Озол. — И придумал бы что-нибудь. Вы видите, все время подвозят зерно, будут подвозить завтра и послезавтра. Если вагоны задержатся, куда вы денете весь хлеб? На землю? Скажите, где можно найти руководителей кооператива?
— Там, в местечке, — показал кто-то рукой.
До местечка было примерно около километра. Озол прошел несколько шагов, но у него заболел раненый бок. Это уже ясно — за первыми болями последуют резкие колики, от которых захватывает дыхание. Он вернулся к своим и попросил Рикура перегрузить мешки на телегу Акментыня и на порожней подводе подвезти его до правления кооператива.
Озол не мог устоять на месте, пока Рикур перегружал свои мешки на телегу Акментыня. Он расхаживал взад и вперед; как удары бича, его задевали едкие замечания и насмешки, которые раздавались со всех сторон.
Пока перегружали мешки, полил дождь. Теперь предметом насмешек стал процент влажности.
К счастью, дождь быстро прошел, но с запада, на синеву над лесом, выплывали новые тучи, и нельзя было знать, в какую сторону они пойдут. Такова латвийская осень — то солнце весело и приветливо улыбается, то, словно играя в прятки, кутается в тучи, и неожиданно на землю обрушивается ливень.
Озол наткнулся на старого Пакална, который перевязывал свою подводу.
— Хлеб на землю ссыпать не стану, — заявил Пакалн сердито. — Всю свою жизнь я берег каждое зерно и теперь не приму на себя греха. Пусть на меня в суд подают за несдачу. Тогда я спрошу, кто такие порядки установил: правительство или кто другой?
— Терпение, терпение, Пакалн, — сказал Озол. — Я еще поборюсь.
— Вызовет небесную колесницу, — бросил кто-то, услышав слова Озола.
— На конвейере увезет, — поддержал другой.
— Потерпи, Пакалн. — Озол притворился, что не слышит насмешек. — Склад я сегодня открою.
Он сел на телегу Рикура и уехал.
В конторе кооператива ему велели подождать. Только что началось заседание правления и окончится не так скоро.
— Значит, я подоспел в самый раз, — обрадовался Озол. — У меня именно такое срочное дело, которое лучше всего разрешить на заседании правления.
— Я не могу пускать туда посторонних, — секретарша строго кивнула на дверь.
— Спасибо, что показали дорогу, — усмехнулся Озол. — Меня не надо впускать, я сам могу войти.
— Не имеете права! — секретарша закрыла собою дверь.
— Дочка, что ты споришь о правах? Конституцию изучала? Мои права записаны в Конституции.
Девушка испугалась, видимо, приняв посетителя за кого-то из «больших людей». Она отступила от двери, и Озол распахнул ее.
— Подождите, здесь идет заседание, — раздалось из комнаты сразу несколько голосов.
— Очень хорошо. На заседаниях надо разрешать важные вопросы, а я как раз пришел по очень важному делу, — к Озолу вернулось хладнокровие. — Надо немедленно вынести решение о временной передаче склада в распоряжение приемочного пункта.
— Опять с этим складом! — с раздражением воскликнул один из правленцев, очевидно, сам председатель. — Мы ведь уже десять раз заявляли, что склад наш и никому его не отдадим.
— В одиннадцатый раз вы скажете, что отдадите, — ответил Озол. — Положение такое, что вагоны задержались и зерно теперь ссыпают на платформу. Вы поймите — это преступление.
— Мы ведь летом говорили, чтобы сами строили себе склад. Какое нам дело до их зерна? — нетерпеливо повысил голос председатель.
— Если один оказался растяпой и не построил склада, то неужели другой должен быть бюрократом и равнодушно смотреть на то, как портится государственное добро! Вы понимаете, что это огорчает честных крестьян и радует наших врагов?
— Кто вы вообще такой, что смеете нас обзывать бюрократами? — закричал председатель.
— Вообще — я советский гражданин, который не может относиться равнодушно к таким делам. А кроме того — я член партии и поэтому не имею права быть равнодушным. Ясно вам, какую вы должны занять позицию? — ответил Озол, чувствуя, что у него начинает подергиваться лицо.
— Мы уже неоднократно отвечали — и не только таким, как вы, — что склад нам будет нужен самим, — стоял на своем председатель.
— Да поймите же, что никто не отнимает у вас помещения. Подадут вагоны — и склад освободится.
— Знаем, как освободится, только впусти кого-нибудь, потом уже не выживешь.
— Послушайте, перестаньте рассуждать, поставьте вопрос на обсуждение правления. Время не ждет. — Озол начинал терять терпение.
— Вопрос правлением разрешен уже раньше, — невозмутимо заключил председатель.
— С вами надо говорить другим языком. Видно, что интересы Советского государства для вас еще китайская грамота. — Озол, сердитый, направился к дверям. Уже в дверях он повернулся и сказал:
— Бюрократы и шляпы — вы наносите еще больший вред, чем бандиты, которых мы только что выкурили из леса. Но не зазнавайтесь — мы выкурим также бюрократизм и разгильдяйство! Советское государство не потерпит таких наростов на своем теле!
Он хлопнул дверями и поспешил на почту, чтобы позвонить в город. Ему удалось связаться с заместителем председателя Розитом, который теперь работал на месте Бауски. Коротко изложив в чем дело, Озол попросил его вмешаться — позвонить председателю кооператива и приказать ему открыть склад.
— Такого распоряжения давать я не имею права, — ответил Розит. — Дело это я знаю — мне уже писали обе стороны. Вмешаться никак не могу.
— Но нельзя же ссыпать зерно под открытым небом, — кричал Озол в трубку.
— Это, конечно, нехорошо, но что поделаешь? — оставался равнодушным Розит. — Заготзерно и кооператив — две разные организации — друг другу не подчиняются.

Озол бросил трубку.
«Какое бездушие! — подумал он с горечью. — Эх, Вилис Бауска, мой боевой товарищ, разве за то мы боролись, чтобы такие болтуны теперь бездельничали на важных постах».
Что делать? Он почувствовал такую усталость, что на все хотелось махнуть рукой, ссыпать и свое зерно на платформу, уехать домой и спать, спать, спать.
Но нет, нельзя оставить поле битвы. Раз партия его поставила на боевой пост, надо быть настойчивым. Он снова заказал срочный разговор, на этот раз с укомом партии и вызвал к телефону Рендниека.
— Что мне посоветуешь делать? — спросил Озол, окончив свой рассказ.
— Очень просто: если они не откроют добром, нужно открыть или взломать, — ответил Рендниек, не долго думая. — Я немедленно позвоню этим горе-кооператорам и скажу, что это мое распоряжение. Они считают, что покушаются на их священную собственность! Подумаешь, какое государство в государстве!
Озол с облегчением повесил трубку. Он не один на своем посту, вместе с ним партия — она чутко откликается на каждый сигнал. Вместе с такими людьми можно воевать. Мы еще повоюем!
Когда Озол опять подошел к кооперативу, навстречу с кислыми лицами вышли председатель и еще некоторые правленцы. Они зло посмотрели на Озола и направились к складу.
«Ничего, перенесете, — улыбнулся Озол. — Вас не обидели ни на волосок».
Он сел к Рикуру в повозку, и они быстрой рысцой проехали к пункту, чтобы сказать подводчикам — пусть подтягиваются к складу.
— Ишь ты, какой настойчивый, — заметил парторг соседней волости Целминь, узнав о победе Озола. — Но говорят, что острый топор быстро тупится! Можешь еще нарваться на таких, у которых найдутся защитники в высших учреждениях.
— И тогда? — спросил Озол.
— И тогда ты полетишь с места.
— Жалок человек, который, боясь за свое место, не решается бороться за справедливость, — резко ответил Озол.
— Могут исключить из партии, — подкрепил Целминь свои доводы.
— За справедливый поступок из партии не исключают. А шкурников партия не терпит.
Тем временем открыли склад, но его еще надо было подмести. Когда подводчики опорожнили свои мешки, уже наступил вечер.
— Ну, досталось вам, — как бы извиняясь, сказал Озол крестьянам, когда все собирались уезжать.
— Денек пропал, — ответил Пакалн, — зато не надо будет еще раз ездить. Я зерно ни за что на землю не стал бы сыпать. Пусть хоть в тюрьму сажают. Но если бы тебя не было, склада так и не получили бы. Как это может так быть, что два советских учреждения не уступают друг другу?
— Всякие бывают люди, — устало ответил Озол. Ему не хотелось говорить. После сегодняшнего нервного напряжения им овладела слабость, как после продолжительного, ожесточенного боя, когда хотелось упасть на камень, в сугроб или даже в лужу, и сразу же уснуть. Он сел на повозку и предоставил лошади самой идти в веренице телег.
Когда Озол вернулся, было уже совсем темно. Ольга вышла ему навстречу и помогла распрячь лошадь.
— К Мирдзе гостья приехала, — сообщила она, — Эльза. У Зенты она теперь остановиться не может, так переночует у нас.
Озол приезду Эльзы и радовался, и не радовался. Хотя он в пути немного вздремнул, усталость все же не прошла. Она тянула в постель, а теперь опять надо будет беседовать, выслушивать всякие новости и рассказывать самому.
Он зашел в кухню умыться. Холодная вода освежила. Но все тело требовало прохлады. Сняв рубашку, он принялся тереть грудь и спину. Не будь ночь и поздняя осень, пошел бы к озеру искупаться.
— Что ты скребешь себя, словно после молотьбы в риге? — удивилась Ольга.
— Молотьба в риге — это сравнительно чистая работа, — ответил Озол, оставив жену
в неведении о том, что он хотел этим сказать.
Эльза приехала одна. Маленького Вилиса она оставила на попечении тетки. Эльза передала привет от Зенты, она быстро поправляется. Но после тяжелого ранения ей нужен будет длительный отдых. Поэтому Мирдзе придется взять на себя обязанности комсорга волости. Быть может, даже на продолжительное время; Зенте легче будет заведовать Народным домом.
— От Мирдзы в последнее время тоже помощи мало, — заметил Озол без улыбки. — Оставила меня почти что одного.
— Разве молодежные бригады мало сделали этим летом? — возразила Мирдза.
— Работали, никто этого не отрицает, но об идейном воспитании молодежи ты могла бы больше подумать, — упрекнул отец.
— Как? В каждую свободную минуту мы читали газеты, обсуждали прочитанные книги, намечали, какие еще надо прочитать, — защищалась Мирдза.
— Но вот ребята на коннопрокатном пункте занялись пьянством, до этого тебе, разумеется, дела нет! Они, должно быть, живут в другой республике? — Озол сам чувствовал, что его тон становится придирчивым.
— Впервые слышу об этом, — удивилась Мирдза.
— Потому что за версту обходила коннопрокатный пункт. Лучше признайся, ты думала, если отец парторг, то пусть и отвечает за все, что в волости происходит? И за комсомольскую организацию в том числе? — не унимался Озол.
— Папа, я так не думала, — Мирдза с изумлением посмотрела на отца. — Но ты мог мне сказать это раньше… и по-другому. Возможно, я надеялась на тебя, ждала, что ты подскажешь, на что я должна обратить внимание. Но это, вероятно, я делала несознательно.
— Возможно, возможно, — Озол подавил досаду. — Только ты не можешь себе представить, как это тяжело… одному за все отвечать. Извините меня, уж лучше я пойду спать. Наверное, старею, — он устало улыбнулся и ушел в свою комнату.
— Что с ним произошло? — удивлялась Мирдза, вопросительно глядя на Эльзу.
— Наверно, пережил сегодня что-нибудь неприятное, — предположила Эльза. — Тебе не следует на него обижаться. Каждый ведь только человек. Я помню, каким Вилис иногда приходил домой. В иные вечера с ним нельзя было словом обмолвиться. А на завтра он сердился на себя, что дал разыграться плохому настроению.
— Я ведь не обижаюсь, мне только жаль отца, — сказала Мирдза. — Откровенно говоря, я уже больше не та «неугомонная Мирдза», которая в прошлую осень проверяла сарай Ирмы Думинь. Ты помнишь? Теперь я бы над этим призадумалась. И в самом деле, иногда жду, чтобы папа подсказал и посоветовал, что делать.
— А что с ребятами на коннопрокатном пункте? Ты их не знаешь? — спросила Эльза.
— Дело в том, что все они не здешние. О пьянстве я не знала, завтра спрошу у отца. До сих пор они держались от нас как-то особняком. Вот недавно был такой случай. Мы помогали одному новохозяину убирать рожь. В обеденный перерыв уселись на опушке рощи и стали читать газету. Вдруг из кустов в нас полетели шишки и комья земли, раздались смех и выкрики. Мы сразу поняли, что это ребята с коннопрокатного пункта. Наши хотели проучить их, да я отговорила. Мы сделали вид, что не заметили озорства.
— Это, очевидно, было своеобразной попыткой с вами познакомиться, — решила Эльза. — Но вы были горды, и поэтому ничего у них не получилось. Раз они пришлые, то вы должны были навестить их первыми.
— С чего теперь начать? — раздумывала Мирдза.
— Мне кажется, следовало бы начать с самодеятельности, — посоветовала Эльза. — Почти нет таких парней или девушек, которым не захотелось бы петь, играть, танцевать или как-нибудь иначе проявить себя. Разумеется, нельзя пойти и официально спросить: желаете петь, желаете декламировать? Сперва познакомься, заручись доверием, хотя бы кое-кого из них, тогда будет легче начать беседу.
На следующий день, как только Озол пришел в исполком, Ванаг сообщил ему неприятную новость. Возчик, отвозивший на заготовительный пункт в соседнюю волость масло в счет поставок, один кусок привез обратно, так как приемщики нашли, что в нем под свежим верхним слоем было не то уже заплесневевшее масло, не то творог. Об этом составили акт, а масло вернули.
— И неизвестно, кто сдал этот кусок? — спросил Озол.
— Лайвинь, конечно, не знает, — Ванаг насмешливо улыбнулся. — Но у меня такое подозрение, что он во всем потакает кулакам и старается прикрывать все их проделки.
Под впечатлением вчерашних событий, Озолом овладела злость. Куда ни глянешь — всюду приходится сталкиваться с подлостью, халатностью и просто свинством. Во время войны все было гораздо яснее, ты знал: перед тобой противник, но кругом друзья, у которых, как и у тебя, одна мысль, одно желание — скорее разбить врага. А здесь порою не знаешь, кто друг, кто враг.
«Так ли это?» — вдруг с него будто скатилась какая-то тяжесть. — «Так ли это?» — еще раз переспросил он себя и улыбнулся, вспомнив, как он вчера спорил с крестьянами и доказывал, что хорошего гораздо больше, чем плохого.
Но с Паулем Лайвинем надо говорить. Надо говорить строго, как вчера с этими волокитчиками и бюрократами. Нельзя терпеть, чтобы делом заготовок руководили преступники. Вообще от этого Лайвиня надо освободиться. Дурная слава сопутствует всей семье. Отец уже издавна известен как вор, даже несколько раз был осужден. Брата застрелили как бандита. Пауль, правда, в их темных похождениях как будто не замешан, но грязные дела отца и брата бросают тень и на него. Кто станет доверять человеку, у которого отец — вор, а брат — грабитель, и сам он к тому же враждебно относится к советскому строю, пьянствует, до сих пор не мог удержаться ни на одном месте и менял одну случайную работу на другую.
Озолу вспомнился случай, когда Ванаг принимал дела волости. Он тогда прямо-таки кипел от негодования и кричал так, что стены дрожали. А Лайвинь испуганно копался на полу в своих бумагах, но вины своей все же не признавал.
«Нет, я не стану на него кричать», — решил Озол, надевая кепку и направляясь к Лайвиню. — Сердиться можно на человека, который умеет работать, но не желает. Быть может, Лайвинь не умеет работать. А разве его кто-нибудь учил или хотя бы по-человечески побеседовал с ним, подошел к нему, как к товарищу? Ванаг тогда накричал и с тех пор разговаривает с ним только в пренебрежительном тоне. Да и сам он говорил с ним только официальным языком, с известной неприязнью, никогда не интересовался, как человек справляется с работой, в каком вращается обществе.
Озол застал Лайвиня дома. Он только что встал и еще не успел одеться.
— Удивительно, что в такую горячую пору вы так поздно спите, — начал Озол.
— Я ведь не медведь и не могу зимой выспаться на весь год, — пробурчал Лайвинь.
— У вас вчера был неприятный случай, — Озол приступил к делу, не обращая внимания на плохое настроение парня. — Вам испорченное масло подсунули.
— Разве я могу в каждый кусок влезть? — последовал ответ.
— Все-таки надо проверять. Такие вещи бросают тень на всю волость. И также на вас, — добавил Озол, не дожидаясь ответа.
Лайвинь вздрогнул, но сдержался и стоял перед Озолом, готовый к словесному поединку.
— Присядем, — предложил Озол.
— Разве в такую горячую пору есть время сидеть? — съязвил Пауль.
— Давайте уж сегодня время найдем, — спокойно ответил Озол, усевшись. — Хочется с вами поговорить.
— Если вы собираетесь меня прогнать, то скажите прямо! — вдруг вскипел Лайвинь.
— Какой вы странный! — улыбнулся Озол. — Ощетинился, словно еж. Я пришел говорить не об увольнении. Хочу, чтобы вы начали работать по-настоящему, по-советски.
— Работаю, как умею, — отрезал Лайвинь.
— Но вы могли бы работать лучше, — быстро добавил Озол и, не давая Лайвиню снова бросить какую-нибудь колкость, продолжал: — Вы молодой человек, и у вас есть все возможности добиться в жизни достойного места. Надо лишь захотеть.
— Одного хотенья мало, — Лайвинь безнадежно махнул рукой.
— Если вам нужна помощь, то можете рассчитывать на меня, — просто сказал Озол.
Лайвинь недоверчиво посмотрел на парторга, затем на его лице мелькнуло нечто вроде надежды, которую опять сменило выражение отчаяния.
— Скажите, что вам больше всего мешает в вашей жизни и работе? — спросил Озол.
Лайвинь долго молчал, низко опустив голову.
— Что мне мешает? — заговорил он наконец, — Да, что мне мешает? Почему вы спрашиваете? Вы ведь не чужой в этих краях.
— Я хочу, чтобы вы были со мной откровенны, — объяснил Озол.
— Вы хотите… Ну, ладно, если вы хотите, я скажу. Кто я? Сын вора и брат бандита, — голос Лайвиня оборвался.
— Вы собирались рассказать о себе, а вовсе не о семье, — напомнил Озол. — Семья — семьей, но я пришел говорить с Паулем Лайвинем. Я хотел бы, например, знать, почему вы, совсем еще молодой человек, так пьянствуете?
— Эх, не стоило бы об этом говорить! — Лайвинь вскочил и зашагал по комнате. — Впервые я напился, когда мне было двенадцать лет. Отца осудили за воровство, и в школе меня начали дразнить конокрадом. Все мальчишки пальцем тыкали. Как-то у одного из них пропал нож, и учитель приказал мне вывернуть карманы. Никому другому — только мне. Ножа, конечно, не нашли, я его не брал. Но в тот вечер я выпил бутылочку водки, которую мать оставила на столе для втирания.
— И с тех пор продолжали? — тихо спросил Озол.
— Нет. Не продолжал. Началось позже. Ну, откровенно говоря, я влюбился. И девушка эта в меня — тоже. Но ее мать сказала, что скорее повесится, чем отдаст дочь за вора. Так все и расстроилось. Но я ведь не вор! — вдруг закричал он. — Я даже иголки не украл! Сколько мы с матерью перестрадали из-за отца, этого рассказать нельзя. Рудис на все махнул рукой и рассуждал примерно так: если уж меня называют вором, то мне надо красть. Как ни мерзко это, но я рад, что его застрелили. Вся эта его дружба с бандитами, которая потом раскрылась…
— Но разве поэтому тебе нужно испортить свою жизнь? — незаметно для себя Озол обратился к нему на «ты».
— Моя жизнь уже испорчена, — простонал Лайвинь. — Об этом позаботились мои близкие. Проклятье! Удивляюсь, как я не стал отцеубийцей!
— Ну, ну, ты не воспринимай все это так трагично, — успокаивал Озол. — Видишь, люди на это не так смотрят. Тебе доверили важную работу.
— А вы думаете, я не знаю, почему меня туда поставили? — усмехнулся Лайвинь. — В первую осень не каждый соглашался работать в советском учреждении. Говорили, что немцы вернутся, и кто-то, возможно издеваясь, указал на меня.
— Как это? — не понял Озол.
— Очень просто, чтобы все пальцами указывали, вон, мол, какие у них работники!
— Ты слишком мнителен, — упрекнул Озол. — Если у тебя совесть чиста, то бодро шагай по жизни и не мучь себя. Чего ты боишься — теней? Трудись честно, и я уверен, что ты вырастешь в своих глазах и в глазах людей! — Озол протянул ему обе руки.
Лайвинь не решался пожать их.
— Лучше бы вы меня прогнали, — пробормотал он, отворачиваясь. — Я не работал честно. Кроме того, я совсем мало учился. Когда Ванаг потребовал от меня отчет, то я бросил наземь бумаги только потому, что не умел его составить. Но мне было стыдно признаться в этом.
— А теперь научился? — спросил Озол.
— Кое-как научился.
— Потом посмотрим. Но, насколько я заметил, ты допускаешь другие ошибки, — Озол пытался говорить осторожно. — Вот этот же случай с маслом. Так доверяться нельзя. Как ты теперь узнаешь, кому его не зачесть в сданную норму? Это во-первых. А во-вторых, не слишком ли ты мягок с богатеями? Верно ли, что ты им разрешаешь сдавать вместо хлеба другие культуры?
Лайвинь молчал.
— Значит, были такие случаи?
— Они приходят и ноют, что мало засеяли ржи и пшеницы, — жаловался Лайвинь.
— Быть может, и в самом деле мало засеяли? — Озол пытливо посмотрел на Пауля.
— Не толкайте меня на новую ложь! — Лайвинь сердито сморщил лоб. — Если бы у них не было ржи, то из чего бы они гнали это мерзкое пойло?
— Тогда чем же объяснить твою мягкость с ними, в то время как из других крестьян ты грозишься все соки выжать? — на этот раз Озол говорил резко, даже с некоторой досадой.
Лайвинь густо покраснел и пробормотал:
— Значит, вам все известно…
— Что все?
— Ну, не только то, что я кое у кого принимаю вместо хлеба овес, а кое-кому угрожаю, но что находятся люди, которые еще обрабатывают по шестьдесят-семьдесят гектаров, а сдают поставки лишь с тридцати! — проговорил Лайвинь, вызывающе вскинув голову.
— Нет, этого я не знал. — Озол был поражен. — Разве они это делают с твоего благословения?
— Нет, без моего благословения. Впрочем, вы ведь мне не поверите. В ваших глазах я снова буду сыном человека, который…
— Оставьте ваших родственников, — раздраженно прервал его Озол. — Это уже начинает походить на кокетство! Лучше скажите, что заставляет вас симпатизировать кулакам? — он снова перешел на «вы».
— Если я скажу правду, вы снова назовете это кокетством, — сморщился Лайвинь.
— Да перестань обижаться, — улыбнулся Озол. — Я ведь тоже не солнце, которое одинаково светит правым и виноватым!
— Нет, нет, какое я имею право обижаться, — поторопился Лайвинь исправить свою ошибку. — Я рад, что вы вообще разговариваете со мной, как… ну, как с человеком. Но вы, может быть, не знаете, как заискивающе и любезно говорят со мной кулаки. И тогда мне просто… нравится, что они меня кое-кем считают. Но с теми, кто, увидев меня, спешит убрать со стола все, что легко унести, я попросту груб.
Они разговаривали еще долго, пока Озол не убедился — строптивый парень излил свою душу, понял, что ему брошен спасательный круг, держась за который, он сможет выплыть из мутного потока и прибиться к берегу.
Расставаясь, Озол пожал Лайвиню руку и спросил:
— А как с пьянством? Договоримся, что больше не будешь? Но если чувствуешь, что не сможешь выдержать, то лучше не обещай.
— Я уже давеча дал себе слово, что не буду пить, — признался Лайвинь. — Если я другому обещаю, то иногда не выполняю из упрямства, а если обещаю самому себе, то скорее руку свою отрублю, чем нарушу слово.
— Тогда мне не обещай, — улыбнулся Озол и еще раз простился.
23
ШАГИ НЕ СОВПАДАЮТ
В воскресенье с утра Озол, как обещал, направился вместе с Мирдзой на коннопрокатный пункт. Они шли через рощу; осенний ветер теребил золотистые кудри берез и бросал на землю сорванные блестки. Сама роща, осенний ветер и листопад сегодня больше, чем когда-либо, напоминали Мирдзе прошлую осень, когда она, мучимая одиночеством, хотела пойти к Эрику, но не осмеливалась, а он хотел увидеть ее и тоже не осмеливался… Вот береза, которую она с плачем обнимала, вот большая ель, где они с Эриком встретились. Воспоминания! «Неужели остались только воспоминания?» — спрашивала себя Мирдза, и ее сердцем овладевала грусть, смешанная с безотчетной радостью. Любовь! Она все же посетила их, как жар-птица, распростерла над ними свои крылья, и короткое время казалось, что было бы даже хорошо, если бы на свете остались всего лишь два человека — она и Эрик. Но это ощущение они испытывали недолго — только один вечер. Уже на следующий день Мирдза хотела, чтобы в этом мире было много людей, много хороших товарищей, радующихся победам на фронте и бодро, неутомимо, с веселыми песнями выполняющих трудную работу в тылу. Среди этих людей они с Эриком могли бы быть самыми счастливыми; они бы любили друг друга, он героически сражался бы на фронте, она с удвоенной энергией работала бы здесь, стараясь быть достойной своего героя. «Но Эрик не герой!» — звучит в ее ушах собственный голос, обиженный и недоумевающий. Эрик, который должен был воплощать ее идеал, оказался другим. Сначала лишь немного другим; отец и Упмалис убедили ее, что герой не только тот, кто тяжело ранен в бою. Какой счастливой она могла бы быть теперь, когда война кончилась и Эрик вернулся живым. Сбылось ее заветное, когда-то единственное желание — он пришел с поля брани. Вокруг них так много замечательных людей, есть верные друзья, волость очищена от мешавших работать бандитов и их пособников. Ах, Эрик, какие чудесные дела могли бы мы теперь совершать! Но Эрик замыкается, ему как бы в тягость быть на людях, и он становится неуклюжим, притихает, не может ни пошутить, ни повеселиться. Все чаще она начинает замечать, какие в ней чередуются противоречивые чувства к Эрику. Порою овладевает нежность, к которой примешивается нечто смутное, похожее на горьковатый запах опавших листьев, напоминающий о той осенней ночи, о том неповторимом в жизни мгновении, когда впервые слышишь, что тебя любят, что любимому было бы не жаль пожертвовать собой, только бы тебе было хорошо и никто бы тебя не посмел обидеть. Но почему же тогда это горячо произнесенное обещание стало Эрику в тягость потом, в суровой фронтовой обстановке, — он не решился стать комсомольцем, испугался, что с комсомольцев спрашивают больше, чем с других. Ну, ладно, это все можно бы и забыть, больше не вспоминать, если бы Эрик теперь, в мирных условиях, увлекся общественной работой. Но он все еще не решается вступить в комсомол. Сначала уверял, что ему надо убедить религиозную мать, предубежденную против комсомольцев, которые не верят в бога и не ходят в церковь. И когда Мирдза думает о том, что Эрик, желая быть примерным сыном, не хочет огорчать свою мать и отказывается ради этого от самого ценного в жизни, ею овладевают досада и сомнения, не являлись ли слова его только отговоркой, не таит ли он в себе предрассудки, вялость или что-нибудь другое. И тогда Эрик уплывает в каком-то смутном тумане, а она остается на солнечном просторе, где хорошо и без Эрика, ведь вокруг много друзей — молодых и смелых. Теперь в волости десять комсомольцев, это — не много, но зато все они проверенные и не опозорят своего комсомольского звания.
А потом она стала думать о ребятах с коннопрокатного пункта. Они не должны чувствовать себя здесь чужими, пробудить в них интерес к более содержательной духовной жизни и общественной работе, а если представится удобный момент — рассказать им о комсомоле и его целях.
Чем ближе они подходили к пункту, тем труднее казалась задача. С чего начать беседу? А если ребята отнесутся недоверчиво или даже недружелюбно? Может, они уже до того испорчены, что не станут ее даже слушать? Эльза, правда, говорила, что сперва надо познакомиться, присмотреться, но поучать это одно, а делать — совсем другое. Не все способны, как Упмалис, при первой же встрече увлечь молодежь, создать настроение спайки и дружбы, не дать этому настроению угаснуть в течение всего вечера и еще долго после него. Почему это так получается, что наиболее способные и развитые люди работают в городе и часто только просматривают и подписывают бумаги, а на местах приходится все делать слабее подготовленным, менее опытным работникам? Ведь именно они работают непосредственно с людьми, от них зависит, как будут разъяснены цели Советской власти, как эти цели будут поняты массами.
Она не вытерпела и спросила отца:
— Папа, разве не верно, что рядовому работнику приходится выполнять самые трудные обязанности?
— Что ты этим хочешь сказать? — не понял Озол.
— Ну, вот нам с тобой надо идти перевоспитывать людей. А там, в уезде, лишь дают указания — делайте, мол, так, привлекайте молодежь. Упмалису это было бы легко, но мне… Будь он на моем или Зентином месте, то, наверное, в волости вся молодежь уже была бы в комсомоле.
— Значит, ты думаешь, что Упмалису надо было пойти в волость, а ты могла бы выполнять его работу, так, что ли? — усмехнулся Озол.
— Нет, нет, так я не думала, — возразила Мирдза. — Просто и здесь комсоргом нужно бы такого парня, как товарищ Упмалис.
— Если бы у нас было много таких Упмалисов, Мирдза, то мы были бы счастливы, — сказал Озол. — Ты не забывай, сколько хороших ребят погибло на фронте, сколько немцы замучили здесь. Уездные и республиканские работники должны руководить работой большого масштаба, для этого нужны люди с большим кругозором.
Мирдзе хотелось спросить отца еще что-то, но они уже входили во двор имения. У хлева, в загородке для птицы, молоденькая девушка кормила кур, отгоняя назойливых уток.
— Пошли, пошли! Ишь какие барыни! Только и норовят урвать лакомый кусочек.
Сначала она не заметила приближавшихся людей, а увидев — вздрогнула, в ее глазах мелькнуло недоверие. Должно быть, она узнала их, но притворилась, что встречает впервые, давая понять, что они не очень-то желанные гости.
— Какая у вас большая и шумная семья! — пошутил Озол, улыбаясь.
— Разве она моя! — неприветливо ответила девушка.
— По крайней мере, они считают вас своей хозяйкой. — Озола не смутила строптивость девушки. Он смотрел с открытой улыбкой прямо ей в лицо; она не выдержала взгляда и отвернулась.
— Заведующий дома? — справился Озол.
— Откуда мне знать, — последовал резкий ответ.
— Я думал, что вы знаете, — Озолу стало смешно, что девушка сердится, сама не зная почему.
— Индюк тоже думает! — вызывающе бросила она.
— Это еще мой дед говаривал, — Озол продолжал улыбаться, — я надеялся, что нынешняя молодежь знает больше этого.
Девушка покраснела, поняв, что сказала глупость. Она смущенно наклонилась над корытом с кормом, оттолкнула его в сторону, опять передвинула. Из затруднения ее вывел Ян Приеде, подъехавший вместе с несколькими парнями на повозке.
Завидев Озола, он уже издали крикнул:
— Если бы ты знал, что здесь ночью было! Такая охота, что глаз не сомкнули.
— Что же случилось, лошади удрали, что ли? — удивился Озол.
— Какие там лошади! Вора поймали! В самой клети!
— Да что ты?
— Да, в самой клети. Я вчера около полуночи проснулся, стал раздумывать о том о сем. Вспомнилось, что зимой учитель, ну, Салениек, рассказывал о перевоспитании характера. Думаю, что я ничего не делаю, чтобы мой характер развивался. Говорю себе — грош мне цена, если так. И тогда начал размышлять, что я мог бы сделать такого, чего мне делать не хочется? Ну и надумал — дай встану с теплой постели, оденусь и пойду посмотреть, есть ли у лошадей корм. Правда, очень не хотелось вставать, а я себе говорю — ты пойди, раз уж так не хочется, иначе ничего с характером не получится. Собрался с духом и выскочил из кровати. Накинул ватник и пошел к лошадям. Вдруг во дворе слышу — в клети словно бы дверь скрипнула. Думаю — тут что-то неладное. Подхожу тихонько к клети. Не знаю, чем я думал, один пошел. Милиционер мне потом говорил — тебя ведь могли убить. Подхожу к клети — дверь прикрыта. Посмотрел — не заперта. Я — раз, сунул ключи и замкнул. Думаю, что делать? Звать Ивана — и вдвоем схватить? Пожалуй, не совладать. Вернулся в дом, спрашиваю Эмму — как быть? Она говорит, с ума ты сошел, звони милиционеру. Ну, тогда я позвонил. Приехали они на велосипедах вместе с господином начальником почты, а у того такая умная собака. Понюхала — и к дому нашего кузнеца. Он — этот господин с почты, говорит — вор из вашего же дома. Вдруг слышим — на дороге прогрохотала машина и скрылась. А почтарь говорит, надо снять мерку со следа машины. Мы с Иваном тем временем постучались к кузнецу. Выходит сама в такой длинной кружевной рубахе, ну — до земли. «Чего вы тут орете и шумите?» — бранит она нас. А мы не орали и вообще ничего. Спрашиваем, где кузнец, пусть выходит. Она отвечает — пошел к соседям в карты играть. Тут милиционер подошел и говорит — ну, пойдем, Ян, открывай свою мышеловку. Выстрелили в воздух, чтобы в клети знали, что у нас оружие. И знаешь, кого мы вытащили оттуда?
— Кузнеца, — догадался Озол.
— Откуда ты знаешь? Тебе это уже кто-нибудь рассказывал? — удивился Ян.
— Ты сам только что говорил.
— Ах, верно. Ну да, задержали кузнеца. Пришел рожь красть. А я думал, где он самогон берет?
— А о машине разузнали? — поинтересовался Озол.
— Как же. Сам признался. Шофер с МТС. Хотели везти зерно в город, спекулянтам продать. А этот кузнец ужасным человеком оказался, — продолжал рассказывать Ян. — Прежде у него в Мадлиене была своя механическая мастерская. Довольно богатый был. Поэтому и сволочь большая. Господин с почты тут же вспомнил, что о нем в газетах писали. В немецкое время на него работали русские пленные. Кормил, как собак, обглоданными костями. Сама мадам бросала им: «Нате, ешьте, русские свиньи!» Потом в Курземе удрал, там отрастил себе бороду, чтобы не узнали. В своих краях не смел показываться. На его счету еще всякие нехорошие дела — людей предавал.
— Значит, ты поймал опасного зверя! — радовался Озол.
Ян вытер пот, выступивший на лбу от волнения.
— Пойдем в дом, а то еще простынешь, — предложил Озол.
Они ушли, а Мирдза осталась одна с сердитой девушкой, которая сказала, что «индюк тоже думает».
Словно желая показать свое пренебрежение к Мирдзе, она, не промолвив больше ни слова, пошла к бывшему господскому дому, где, очевидно, жила. Мирдза последовала за нею и, не зная, что придумать, сказала:
— Будем знакомы. Я Мирдза Озол. Но зови меня просто Мирдзой. А как тебя зовут?
— Меня никто не зовет, — получила она загадочный ответ.
Мирдза приостановилась. Идти или не идти за гордячкой? Если там, в помещении, все они такие язвительные, то, пожалуй, влезешь, как в муравьиную кучу. Нет, все же нельзя преждевременно отступать. Она снова пошла вслед за девушкой и догнала ее на ступеньках.
В комнате, куда Мирдза вошла, были еще три девушки. Одна из них лежала в постели, а две причесывались перед зеркалом, вынимая из волос завернутые с вечера бумажки. Три пары глаз вопросительно посмотрели на Мирдзу, и три голоса неохотно ответили на ее приветствие. После этого в комнате воцарилась тишина. Принято считать, что тишина беззвучна, но Мирдзе это молчание показалось таким гулким, что у нее заложило уши и застучало в висках. Во что бы то ни стало тишину надо было нарушить, прогнать из комнаты. Как на спасительницу, Мирдза посмотрела на девушку, лицо которой показалось более приветливым, чем у остальных. Это лицо не было красивым, оно было чрезмерно широким и круглым, с низким лбом. Но под этим лбом сверкали карие, блестящие глаза, тоже большие и круглые, но красивые благодаря их молодому блеску и теплоте, которая растопила лед безразличия, грозивший, как и у остальных обитательниц комнаты, затянуть темные зрачки. Мирдзе понравилось это лицо, но она сразу же заметила, что его портит прическа — завитые и спущенные вниз локоны делали его еще более широким. Ей стало жаль девушку, которая, стараясь быть красивой, уродовала себя.

— Тебе надо было иначе уложить волосы, — вдруг нарушила Мирдза тишину и, не давая наступить молчанию, продолжала: — Посмотри в зеркало — когда ты опускаешь локоны книзу, лицо становится шире. Попробуем иначе, мне кажется, тебе надо на лбу зачесать волосы кверху, а на затылке — спустить книзу. Вот так, — она взяла из рук смутившейся девушки гребенку и начала орудовать над ее прической.
Остальные с любопытством следили за Мирдзой, и она поняла, что в дальнейшем их отношения зависят от того, насколько ей удастся показать ловкость в парикмахерском искусстве, в котором у нее не было почти никакого опыта, так как ее собственные волнистые волосы не требовали применения бумажек. При помощи шпилек Мирдзе удалось уложить каштановые волосы девушки так, как ей хотелось, и грубоватое лицо обрело совсем иной, более утонченный облик.
— Ника, так на самом деле лучше! — воскликнула девушка, лежавшая в постели и, откинув одеяло, начала торопливо одеваться.
— Значит, ты — Ника?
— Доминика, — поправила та.
— Но Ника звучит лучше, — заметила Мирдза. — Ты из Латгалии?
— Да.
— Поэтому местные нас и недолюбливают, — вдруг заговорила девушка, встретившая Мирдзу во дворе так неприветливо.
— Почему ты так думаешь? — удивилась Мирдза.
— А как же! Летом мы пошли на вечеринку, так ни один здешний парень не пригласил нас танцевать, — пожаловалась она. — Хорошо, что с нами были свои парни. А то сидели бы всем на смех.
— Знаете что, мы могли бы устроить вечер здесь, на коннопрокатном пункте, — Мирдзе казалось, что она может взяться за выполнение своего задания. — Приготовим программу с песнями, танцами, декламациями. Быть может, даже пьеску поставим.
— Слушай, Янина, это было бы здорово, — воскликнула Ника.
— И вы думаете придет кто-нибудь сюда? — мрачно заметила Янина.
— Вот я и узнала, как тебя зовут, — улыбнулась Мирдза. — Не беспокойся, придут. Ни одного свободного места не останется.
— Это — Мирдза Озол, комсорг волости, — вдруг сообщила Янина подругам, и в ее голосе прозвучало нечто вроде предупреждения.
— А-а, — протянула девушка, до сих пор молчавшая. Голова у нее была повязана белым платочком, из-под которого выбивались рыжеватые кудри. Лицо — белое, не-загоревшее, с веснушками на прямом и красивом носу и на щеках. Шея, как обычно у рыжеволосых, тоже белая, словно точеная. Зеленоватые глаза, одновременно задорные и немного грустные, внимательно разглядывали Мирдзу.
— Мы — несознательные! — с насмешкой сказала вдруг рыжеволосая.
— Что ты, Ася, всегда с этим, — упрекнула Ника и, посмотрев на Мирдзу, объяснила: — Так нас в совхозе прозвали. Комсорг забежал на пять минут, сказал, кто хочет вступить в комсомол — пусть запишется. А у Аси в тот вечер болели зубы, и она была зла на весь мир.
Четвертая девушка — Текла, с продолговатым, сухощавым лицом, тем временем оделась в воскресное платье и попросила Мирдзу помочь ей уложить волосы, как Нике. Но ей такая прическа не шла, и Мирдзе пришлось несколько раз заново перекладывать ее волосы, пока не удалось подобрать наиболее подходящую прическу. Ася тоже сняла косынку и открыла свои рыжие волосы, которых она стыдилась, сама не зная почему. Волосы у нее были средней длины и, свисая прямо вниз, не украшали головы. Мирдзе казалось, что надо было бы «подправить» затылок, это открыло бы красивую шею Аси и придало голове благородную осанку. Текла сразу же разыскала ножницы и принялась подстригать ей волосы.
— В замке такой большой зал, и пока нет Народного дома, в нем можно бы устраивать вечера, — продолжала Мирдза. — Надо посмотреть, нельзя ли там смастерить и сцену. Ребят у вас много?
— Вместе с кузнецами — пять человек, — поспешила сообщить Ника. — У Стасика хороший голос. Ой, сколько он разных песен знает!
— Получился бы хороший вечер. Мы давно ничего не устраивали. И вдруг перед Октябрьскими праздниками появится объявление: «Машинный и коннопрокатный пункт в своем помещении устраивает вечер!»
— Янина, ты будешь плясать! — Ника бросилась подруге на шею. — Да? Янина, миленькая, не откажешься? Ну, не упрямься! Она хорошо пляшет русскую, — пояснила Ника.
— У меня нет костюма, — отговаривалась Янина.
— Сошьем, — пообещала Мирдза. — Найдем для этого материи.
— Мне надо идти коров доить, а то хозяйка опять будет ворчать, что только знаем заниматься пустяками да спать, — Янина освободилась от объятий Ники.
— Я схожу вместо тебя, если ты пообещаешь сплясать, — упрашивала Ника.
— Могу и сама пойти, — Янина надвинула на глаза платок и вышла.
— Почему она такая… — грустная? — Мирдза чуть не сказала «упрямая».
— Одна на всем белом свете осталась, — рассказывала Ника. — У нас есть — у кого отец, мать или брат, а у нее нет никого. Прежде они всей семьей ходили на заработки. Перед войной получили свою землю, но когда пришли немцы — отца и мать сразу же убили. Брата замучили в тюрьме. Сестру угнали в Германию. Два других брата эвакуировались и погибли на фронте. Янина убежала из своих краев и работала у кулаков. Теперь она круглая сирота.
— А почему она так к комсомолу относится? — допытывалась Мирдза.
— Она совсем не такая, какой кажется. В совхозе комсорг ее обидел. Она написала заявление, просила принять ее в комсомол, а комсорг продержал бумажку в ящике полгода. Когда кто-то приехал из города, парень, чтобы оправдаться, начал доказывать, что Янина еще недостойна быть принятой в комсомол. Приезжий сказал, чтобы Янину приняли, но она ведь гордая — если я, мол, недостойна, то не надо, и тут же разорвала свое заявление, — рассказывала Ника.
— А если мы устроим вечер — будет она выступать?
— Будет. Ей самой очень нравится.
— Как вы думаете, девочки, не поговорить ли нам о вечере и с вашими парнями? Без них, пожалуй, ничего не получится, — сказала Мирдза.
— Они живут вот там, в доме лесника, — показала Ася через окно.
— Быть может, позвать их сюда? — Мирдзе не хотелось встречаться одной с парнями коннопрокатного пункта, она боялась неловкости при первом знакомстве.
— Ника, убери комнату, — скомандовала Ася, потому что ей самой Текла все еще подстригала затылок.
Мирдза поспешила помочь Нике, и когда комната была приведена в порядок, а Ася подстрижена, Текла пошла в дом лесника и вскоре привела пятерых парней, которые шумливо вошли и спросили — не на собрание ли их позвали? Если так, то им некогда — осталась незаконченной партия в карты.
— Мы с девушками договорились устроить на пункте вечер с выступлениями, — начала Мирдза. — Хотели просить вас принять участие.
— Нашли скоморохов, — обиженно заявил один из них, и Мирдзе пришлось призадуматься над тем, как расшевелить парней. Тут нельзя было начинать с причесок.
— Мы ведь тоже не собираемся на вечере устраивать балаган, хочется что-нибудь красивое показать, — Мирдза не растерялась.
— Казимир умеет ходить на руках, он мог бы показать, — усмехнулся один из парней. — Казя, покажи барышне, как пьяный возвращается из кабака домой!
— А ну тебя! — Казимир дал насмешнику тумака в бок. — Не видишь — она местная, балтийская барышня. Скажет, что мы, чангалы, грубияним.
— Дались вам эти балтийцы! — даже рассердилась Мирдза. — Так только в ульманисовские времена людей друг на друга натравливали. Тогда были балтийцы и чангалы, но зачем нам подражать Ульманису? Я признаю, что мы плохо поступили. Нам уже давно следовало бы навестить вас. Так пристыдите нас и устройте вечер. Покажите, как надо организовать самодеятельность.
— А если получится плохо, вы будете смеяться, — недоверчиво возразил Казимир.
— Почему плохо? — запротестовала Мирдза. — Еще есть время, чтобы подготовиться. Обсудим программу. Мы вот тут думали, что можно бы и сцену смастерить.
— В сарае досок хватит, — вставила Ника.
— А даст ли заведующий? — сомневался Славик.
— Даст. Я поговорю с ним, — вызвалась Мирдза.
— Геня, ты ведь плотник, — обратилась Ася к русоволосому парню, — разве это трудно, устроить сцену?
— Трудно только с тобой ладить, — парень лукаво покосился на рыженькую девушку, которая теперь с подстриженным затылком выглядела очень важной. — Упаси меня бог от такой тещи.
— Можешь не беспокоиться, — такого бездельника в зятья не возьму, — отплатила ему Ася.
— Ну, опять друг другу в волосы вцепятся, — усмехнулся Славик.
— Не во что вцепиться — за ночь крысы обгрызли, — пошутил Геня.
Мирдзе понравилась веселость ребят, которая не была ни непристойной, ни грубой, и она смеялась вместе с ними, но все же время от времени заставляла их быть более серьезными.
Мирдза оставила коннопрокатный пункт уже под вечер, уверенная, что молодежь примется за подготовку Октябрьского вечера и постарается не ударить в грязь лицом.
За скотными дворами она внезапно столкнулась с заплаканной Яниной.
— Что с тобой? — встревожилась Мирдза. — Почему ты плачешь?
Янина молчала, но не уходила. Видно было, что она не привыкла быть откровенной, но все же страдает от одиночества и замкнутости, к которой сама себя принуждает.
— Янина, милая, не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? — Мирдза взяла ее за плечи.
— Мне никто не может помочь… — Янина вырвалась и хотела убежать, но Мирдза схватила ее и не пускала.
— Человек человеку всегда может помочь, — уверенно сказала Мирдза, взглянув девушке в глаза. Она удивилась — еще недавно лицо Янины казалось шероховатым, черты его неровными, но теперь в нем просвечивало что-то трогательное, кожа казалась нежной, как лепесток водяной лилии.
— Чем ты мне поможешь? — заговорила Янина, и ее веки вздрогнули. — Мне всегда хотелось в школу, учиться. Раньше я работала у кулаков, некогда было. Потом — война, проклятые немцы… И теперь опять… ничего другого, кроме как скотный двор, кормить кур, доить коров и… оставаться дурой. Видно, моя судьба такая проклятая!
— Янина, судьба тут ни при чем! — воскликнула Мирдза. — Вытри слезы! Послушай, чего бы мне это ни стоило, — ты попадешь в школу и сможешь учиться.
Янина посмотрела Мирдзе в глаза, но видно было, что девушка не совсем верит, считая, что ее обманывают, утешают, как маленького ребенка — лишь бы он не плакал.
— Неужели ты совсем уже не доверяешь людям? — сердцем Мирдзы овладела жалость. Она отдала бы все, что угодно, чтобы вселить в нее веру, что жизнь изменилась к лучшему, отношения людей стали другими, и не следует замыкаться в себе, а надо искать товарищей, которые смогли бы подать руку и облегчить подъем в гору.
— Давай так, я подумаю о тебе этой ночью и завтра, — обещалась Мирдза. — А послезавтра вечером приходи ко мне. Договорились?
Они расстались. Янина — несколько успокоившись, хотя еще колебалась между сомнениями и надеждами, Мирдза же — радуясь всем сердцем, что нашла общий язык с молодежью, что Янина все же доверилась ей, как сестре, и что теперь надо только придумать, как ей помочь, чтобы обещание не осталось обещанием. Чтобы учиться, нужны средства на жизнь, на одежду. У Янины их нет, и у нее нет никого, кто хотел бы ей помочь. Она подумала о том, что средства можно было бы собрать среди населения, но тут же отбросила эту мысль. Это походило бы на милостыню и обидело бы Янину. И разве она одна — сколько их таких, у которых трудная жизнь и немцы отняли возможность учиться! Отец как-то в шутку упомянул, что будет просить отдел народного образования открыть вечернюю школу. А что если это сделать в самом деле? Попросите учителей уделять каких-нибудь три часа в неделю, чтобы помочь молодежи подготовиться к сдаче экзаменов за семилетку?
Эта мысль овладела Мирдзой, надо было немедленно что-то предпринять, все выяснить, чтобы в случае неудачи до послезавтра придумать для Янины другой выход. Она повернула на дорогу в усадьбу «Какты», где сегодня, в воскресенье, надеялась застать Салениека.
Мирдзе повезло. Сегодня у нее, действительно, был счастливый день, и, возвращаясь в темноте домой, она слушала, как весь мир, насколько это было видно и слышно, поет о счастье. Ей казалось, что звезды, горевшие в осеннем небе, сверкая и искрясь, подмигивают и говорят: «Хорошо, Мирдза, вот так и надо работать!» В шелесте рощи ей слышалась торжествующая песнь — лгут те поэты, которые уверяют, будто осенний лес наводит грусть и вызывает размышления о тленности. Лучше бы они прислушались, какая сила, какая готовность сопротивляться наступающему зимнему морозу и оцепенению чувствуется в шорохе каждой ветки. Да, сегодня роща поет: «Мирдза, ты такая молодая, и твоя молодость совпала с самой счастливой порой, на твоем пути нет больше ухабов и кочек, которые приходилось преодолевать старшим поколениям. Куда бы ты ни пошла, к чему бы ни хотела приложить свои силы, всюду будешь желанной. Работай, заполняй каждый час, каждое мгновение полезным делом, учебой — пройдет несколько лет, страна оправится от военной разрухи, и ты сможешь сказать: «Милая родина, пригодились и мои усилия!» И она ответит: «Спасибо, Мирдза, за пылкость сердца, ты и твои друзья — мои настоящие дети!» И звезды, приветливо подмигивая, скажут: «Вот она, земля, наша прекраснейшая сестра!»
В роще хрустнула ветка, и Мирдза очнулась от своих размышлений. Кто это бродит в темноте по лесу? То был Эрик. Он тихо назвал ее по имени и вышел на дорогу.
— Я тебя ждал, — сказал он, беря ее за руку. — Недавно встретил твоего отца и узнал, что ты осталась на коннопрокатном пункте. Я пришел сюда, чтобы тебя встретить. Где ты задержалась так долго?
— Ходила открывать вечернюю школу, — весело ответила Мирдза и взяла Эрика под руку. — Салениек согласен и обещает уговорить других учителей. А средства мы добудем при помощи платных вечеров, — рассказывала она, словно Эрику уже было известно, что это за школа и для чего она нужна.
— Я тебя так редко вижу, Мирдза, — жаловался Эрик. — Ты всегда занята и торопишься. Иногда мне кажется, что ты меня нарочно избегаешь.
— Нет, Эрик, зачем мне тебя избегать! — Мирдза крепче сжала его локоть. Она была полна счастья, и ей хотелось, чтобы Эрик чувствовал себя счастливым, не хотелось огорчать его. — Но как мне хочется, чтобы и ты всегда был занят и торопился! Эх, ты, медведь! — она круто повернула его кругом. — Тебе надо учиться шагать быстрее, а то ты можешь не догнать меня, — шутила она, но Эрик не смеялся ее шуткам.
— Ну, будем маршировать в ногу! — воскликнула Мирдза, отпуская руку Эрика. — Вот так: раз, два! раз, два! — она ступала широкими шагами, но Эрик остановился.
— Не хочешь шагать? Тогда побежим взапуски! — Мирдзе было очень весело, энергия била в ней ключом, переливалась через край. Она убежала уже довольно далеко, когда заметила, что Эрик не следует за ней, и побежала обратно.
— И бегать не хочешь? Ладно. Тогда будем боксировать! — и, сжав кулаки, она набросилась на Эрика, но тот стоял, как чучело, не реагируя на быстрые удары ее кулачков.
— С тобой ничего не поделаешь! Тебя хоть убей, все равно не расшевелишь, — Мирдза капризно надулась.
Веселость Мирдзы совсем не отвечала настроению Эрика; хотя он и ждал ее весь вечер, но теперь счел более разумным пойти домой. Он хотел условиться о самом главном и подготовить сегодня к этому Мирдзу, но ему не удалось высказать все, что передумал за эти часы. Как только Эрик сказал: «В следующее воскресенье мы с матерью приедем к вам в гости», — она рассмеялась.
— Ну, разумеется — приедешь, тебе ведь трудно ходить пешком!
Они расстались, и Эрик медленно ушел, чувствуя, что Мирдза так и не поняла, почему он приедет, да еще вместе с матерью. Мирдза в самом деле не поняла, ибо как только осталась одна, она сразу перестала думать об обещании Эрика и о том, что он, живя по соседству, почему-то должен приехать к ней на лошади, да еще с матерью. Ее снова заняли мысли о вечерней школе, у нее возникали планы, как привлечь к учебе побольше молодежи. И только когда она уже подходила к дому, ее радость омрачилась легкой тенью сомнения: а что, если остальные учителя откажутся заниматься или вдруг явится слишком мало учеников и не будет смысла открывать школу?..
Последующие дни прошли для Мирдзы в напряженных хлопотах. После того как учителя согласились
преподавать, надо было выявить учеников, неделя промчалась, как один день. Только в субботу вечером Мирдза могла набросать список с двадцатью именами будущих учеников.
Воскресное утро тоже оказалось занятым. Мать теперь была уполномоченной десятидворки и ушла к своим людям, а Мирдза отправилась на коннопрокатный пункт, чтобы посмотреть первую репетицию Октябрьского вечера. Самым свободным в это утро оказался отец. Он остался дома, довольный, что наконец может несколько часов посвятить книгам.
Он читал и думал о марксистско-ленинском воспитании партийных кадров, о том, что он мало, слишком мало сделал для ознакомления активистов с целями и идеями большевистской партии. Сегодня же, не откладывая ни на один день, надо составить план занятий кружков. Трудно работать с людьми, у которых почти нет никакого образования, но что ж поделать. Надо найти простые слова, надо найти способы простые, как сама правда, чтобы людям стали понятны законы старого и нового общества. В волости надо также найти людей, которым эти идеи вошли бы в плоть и кровь, людей, которые, честно делая свое, быть может, небольшое, но необходимое, как хлеб, дело, преданно служили бы своей великой родине. Надо создать кандидатскую группу и заниматься с нею.
Кого можно было бы начать готовить к вступлению в партию? Несомненно, наиболее достойным является Ванаг — сын батрака и сам бывший батрак, комсомолец и партизан, готовый отдать жизнь за Советскую страну. Если он и допускает ошибки в работе, если порой и не может сдержать себя, то надо признать, что ошибки эти — следствие незнания теории, а невыдержанность у него от ненависти к старому, ко всему, что мешает строительству новой советской жизни. Учеба поможет ему устранить ошибки и вместе с тем понять, что препятствия нельзя устранить криком, а только настойчивой борьбой.
Вторым возможным кандидатом был Лауск. Он знал его как честного человека, охотно выполнявшего любое доверенное ему общественное дело. Он тоже бывший батрак, получивший теперь землю, но ни в чем нельзя было усмотреть, что своя земля и свой дом являются для него самоцелью. За многие годы батрачества он накопил богатый опыт, знал, как добиться хороших урожаев, и теперь, работая в сельскохозяйственной комиссии, был незаменимым советчиком для многих крестьян, особенно тех, кто недавно получил землю. Он не говорил: «Какое мне дело, пусть каждый работает, как хочет». Он не ждал, пока к нему придут просить совета, нет, сам заходил то к одному, то к другому, словно по какому-нибудь делу; сначала заговаривал о чем-нибудь постороннем, потом медленно вытаскивал из кармана трубку, набивал ее самосадом и, причмокивая, начинал: «Я вижу ты все еще не вывез навоз на паровое поле. Так тебе рожь плохо отплатит. Скажет — раз ты меня не уважаешь, то и я тебя заставлю с пустым брюхом ходить. И что ты ей сделаешь? Заупрямится и не станет расти. Скажет: поленился ты мне мягкую постельку постлать, так я тебе самому даже хорошей соломы не дам, чтобы тюфяк набить». А иногда он говорил: «Опять ты оставил неподнятым поле на склоне. Ты, верно, не знаешь, какой славный там раньше ячмень рос? Ну, скажу тебе, хоть ячмень и не моим был, но всегда как-то радостно было на него смотреть. Что же это с тобой? Сил нет или же лень одолевает?» И если видел, что у человека, действительно, не хватает сил, то умел организовать помощь и артелью вспахать поле, на котором раньше славный ячмень рос. За Лауска нечего беспокоиться, он оправдает доверие большевистской партии.
Затем мысли Озола обратились к Гаужену — человеку с острым языком, но очень предприимчивому, когда дело касалось машин. Словно из-под земли он достал осенью запасные части для молотилок, они часто ломались и портились и не раз стояли бы в бездействии, не возьми Гаужен над ними шефства. Постоянным гостем он был и на мельнице, и в кузницах — всюду, где имелись машины, нуждающиеся в починке.
Вот о чем думал Озол, когда во дворе застучали подковы и загремела повозка. Вскоре в сенях скрипнула дверь: кто-то нерешительно переминался с ноги на ногу, словно ожидая, чтобы хозяева вышли встречать. Послышался тихий женский голос:
— Ну, пройди же вперед. — После короткого стука в комнату вошел Эрик Лидум, а за ним — его мать.
Вместе с ними как бы вошла сама неловкость, умеющая так связать язык, что хочешь сказать одно, а говоришь совсем другое. Так и на сей раз. Озолу следовало бы радоваться приехавшим, а он безразлично сказал:
— Вот неожиданные гости, — и пригласил присесть, позабыв предложить снять пальто. Озол привык, что к нему приходили за советом, за помощью, и он приучил посетителей не задерживаться без надобности. Лидумиете многозначительно посмотрела на сына, стоявшего с шапкой в руке и не знавшего, повесить ее на крючок или же сунуть в карман.
— Садитесь, садитесь, — повторил Озол, не замечая, что Лидумиете расстегивает и снова застегивает пальто, давая понять, что дело, по которому они приехали с сыном, требует продолжительного собеседования.
— Сама тоже дома? — наконец спросила она, помогая Озолу сообразить, что они приехали в гости ко всей семье.
— Ее нет, — поспешил сообщить Озол. — Женщины сегодня с утра оставили меня. Ольга пошла по делам своей десятидворки, а у Мирдзы какая-то загадочная встреча на коннопрокатном пункте.
Лидумиете еще многозначительнее взглянула на сына, но так как тот оставил ее взгляд без ответа, ей пришлось на словах высказать то, что хотела выразить глазами:
— Чего ж ты мне говорил, что условился с Мирдзой на сегодня?
Эрик кусал губы и молчал, пока Озол наконец не догадался, что гости приехали, собственно, не к нему, а к Мирдзе и Ольге, чтобы проведать их по-соседски. Пришлось попросить раздеться, сказать, чтобы подождали, женщины скоро должны вернуться доить коров.
Лидумиете деловито справилась, сколько у них теперь коров. Узнав, что две, недовольно поджала губы, но затем, что-то прикинув в уме, успокоилась.
Озол попытался завязать беседу с Эриком. Тем временем Лидумиете обводила глазами комнату, в которой торопившиеся утром хозяйки не успели навести порядок, какой должен быть, когда ожидают желанных и важных гостей.
А вообще терпимо. Мусора нигде не видно, пол был вымыт только вчера, пыли нигде тоже не заметно, но скатерти на столе и комоде были не из лучших и не сегодня постланы. Подушки на постели следовало бы взбить пышнее по случаю приезда таких гостей! Лидумиете выискивала какой-нибудь недостаток, который свидетельствовал бы о неуважении к ней и ее сыну, но, не сумев найти ничего особенно предосудительного, остановилась на самом главном доказательстве непочтительности будущей невестки — отсутствии ее самой и матери. Ну, где же это видано, чтобы порядочные женщины так поступали — убегают неизвестно куда, а гости пусть ждут, словно какие-то бедные родственники. Не верится, чтобы именно сегодня Мирдза не могла обойтись без обычной своей беготни. Неужели ни отец, ни мать не сумели удержать ее? Тут кроется какая-то хитрость — желание уже заранее Эрику «наступить на ногу», как в прежние времена делали невесты: при венчании возьмет да и наступит жениху на ногу, чтобы в будущем повелевать мужем. Чем больше Лидумиете собирала доказательств, тем беспокойнее она ерзала на своем стуле; стул, как назло, подвернулся расшатанный, скрипел от малейшего движения, подчеркивая недовольство гостьи.
Часы пробили половину второго, и только тогда вернулась запыхавшаяся Ольга, спешившая домой, чтобы вовремя подоить коров. Своей торопливостью она еще больше уязвила самолюбие Лидумиете. Даже не зашла посмотреть, кто приехал, — неужели Ольга, проходя через двор, не заметила их вороного! Схватила на кухне подойник и выбежала в коровник. Бедная Ольга отвыкла, чтобы к ней приходили гости. Соседи всегда приходили к Юрису или Мирдзе, поэтому Ольга, хотя и узнала лошадь Лидумов, все же решила, что это приехал только один Эрик, — наверное, его нарядили с подводой куда-нибудь. Коровы, услышав шаги хозяйки, замычали, и Ольга поспешила к ним, не подозревая, какую бурю возмущения вызвала она в груди Лидумиете, когда та увидала, как хозяйка маленькой усадебки торопливо просеменила к хлеву и даже не взглянула в сторону окна, у которого сидела владелица усадьбы «Лидумы».
— Да, да… — пробормотала гостья, отворачиваясь от окна, и только теперь заметила, что на стене, под стеклом, в красивой рамке, висели портреты Ленина и Сталина. С новой остротой ее начали мучить неразрешимые сомнения, как же она сможет ладить с невесткой, не признающей ни бога, ни церкви. Она не допытывалась — верит Эрик в бога или нет, удовлетворяясь тем, что он никогда не перечил ей, когда она звала его в церковь, ничего не возразил сын и против того, что она в его недавно выкрашенной комнате повесила на стену религиозную картину — спасителя с терновым венком на голове. Потерпит ли это Мирдза?
Часы пробили два, и вот, должно быть, пришла и Мирдза. Собака во дворе радостно взвизгнула — кто-то с ней возился. Дверь комнаты широко распахнулась — сперва ворвалась собака, а за ней, впопыхах, Мирдза.
— Ах, гости! — удивленно воскликнула она.
— Эрик говорил, что на сегодня условился с тобой, — пристально глядя на нее, твердо сказала Лидумиете.
— Ах! Я совсем позабыла!
В третий раз Лидумиете выразительно посмотрела на сына, — но что с ним поделать, как только увидит Мирдзу, глаз от нее не может оторвать. Сходил бы, взглянул на лошадь — ей богу, вышла бы за ним и сказала:
«Не отложить ли сегодняшний разговор, пусть еще раз как следует все обдумает. Что же в этой девушке особенного — только зубы скалит, ни минуты на месте не усидит».
— Эрик, проверь, не оторвалась ли лошадь, — предложила Лидумиете сыну. — Что-то никто ее не видел.
— Там, кажется, стоит какая-то лошадь, — вспомнила Мирдза. — Я и не догадалась, чья она. Мамочки нет дома, мне надо будет пойти коров подоить, — обратилась она к отцу, посмотрев на часы.
— Уже доит, — успокоил Озол, с хитринкой посмотрев Мирдзе в глаза. Наконец-то он начал догадываться о цели приезда Лидумов, и ему стало смешно, что Мирдза этого не понимает. Какая Мирдза славная, и действительно было бы жаль, если бы ее высватали и она ушла из дому.
Было слышно, как Ольга с подойником вошла на кухню, выливала молоко и умывала руки. Мирдза не могла дождаться, распахнула дверь и крикнула:
— Мамочка, вот и к тебе гостья! А ты все жалуешься, что никто не ходит.
Ольга вошла и приветливо поздоровалась с Лидумиете, но та ответила довольно холодно.
Мирдза решила, что теперь она освобождена от обязанностей занимать Лидумиете, которая в последнее время стала к ней неприветлива, должно быть, пришла к другому выводу, чем в прошлую осень; ведь тогда, провожая сына на фронт, она сказала — материнским сердцем чует, что Мирдза ее сыну «суженая». И сейчас атмосфера в комнате какая-то сгущенная, мать Эрика на что-то дуется, и, чтобы не чувствовать на себе ее пытливые взгляды, лучше выйти.
— Эрик, пойдем посмотрим, хорошо ли я устроила пчел на зимовку, — придумала Мирдза повод, чтобы не оставаться дома и увести с собой Эрика.
Они подошли к пчелиному улью, но там не было ничего интересного. В саду деревца еще молодые, да и те без листьев; на дворе нечем было заняться. Мирдза пожалела, что выманила Эрика из дому. Уж лучше бы позвала его к себе в комнату. Теперь надо еще раз пройти мимо отца, мимо Лидумиете, которая сидит нахохлившись, словно наседка, и следит зорким оком, как бы ястреб не заклевал ее цыпленка.
От этого сравнения Мирдзе стало смешно, а смех побуждает к озорству. Она вспомнила, что окно ее комнаты изнутри не закрыто, открыла его, бесшумно забралась в комнату и пригласила Эрика последовать за нею. Он не мог сразу на это решиться и остался под окном.
— Придется тебе табуретку подать, — подзадорила Мирдза.
— Нет, нет… Но как же так, через окно? — бормотал Эрик.
— Обойди кругом, раз ты так хорошо воспитан.
— Не смейся, Мирдза, — попросил Эрик. — И почему ты никогда не хочешь говорить со мной по-серьезному?
— Ну, ладно, я буду серьезной, — и она уселась у окна, облокотившись о подоконник.
— Я не знаю, как это сказать, — начал Эрик и покраснел. — Мы сегодня приехали по такому важному делу…
— Ну, ну, свататься, что ли? — Мирдза не выдержала серьезного тона и рассмеялась, для нее было странным, что в нынешние времена находятся любители отживших церемоний.
— Да, свататься, — смущенно подтвердил Эрик. — Неважно, как это называется. Я приехал договориться, когда мы сыграем свадьбу.
— Свадьбу?
— Ну да, как хочешь… ты ведь меня понимаешь.
— А ты меня сумеешь понять? — спросила Мирдза. — Мне кажется, что в твоем доме я не смогу продолжать начатую жизнь. Ведь мне еще надо кончить среднюю школу.
— Ах, Мирдза, неужели это так важно! — Эрик махнул рукой, словно отгоняя муху.
— Очень важно. Кроме того, мне надо стать политически грамотной. Мне поручено организовать комсомольцев.
— Разве этого не сможет кто-нибудь другой? Зента скоро вернется, — возразил Эрик.
— Работы хватит для обеих. И почему ты не можешь или не хочешь понять, что без этой работы я не могу жить? Почему ты не хочешь стать моим товарищем, не вступишь в комсомол? Молчишь? — продолжала Мирдза, не дождавшись ответа. — Значит, есть какие-то причины, которые мешают тебе стать комсомольцем, стать моим товарищем…
Внезапно что-то вспомнив, она спросила:
— Предположим, мы решим пожениться, и тогда — в загс пойдем или к пастору?
Она видела, как неприятен Эрику этот вопрос, но неужели нельзя вырвать парня из среды, в которую он врос. К несчастью для себя, он находится в плену предрассудков и мещанских традиций.
— Мать, по правде говоря, не захочет, чтобы без пастора, — тихо признался Эрик.
— А ты? Ты сам? Как ты захочешь? — допытывалась Мирдза.
— Мне, пожалуй, все равно. Я мог бы и без пастора, — сказал Эрик.
— Ты мог бы. Хорошо. А если я соглашусь только при одном условии — без пастора?
— Мирдза, разве не все равно! Матери это было бы тяжело перенести!
— Ты, Эрик, уклоняешься от ответа! — не уступала Мирдза. — Нет, нет, — покачала она головой. — Если предрассудки матери для тебя так непреодолимы, как же мы будем жить? Мы с матерью будем как жернова, а между нами — ты.
— Быть может, позже, если вернется мой брат, мы сможем жить отдельно от матери, — предложил Эрик.
— Спасибо за утешение! Будем откровенны, Эрик. Наши шаги не совпадают. Разве ты этого не чувствуешь? — Мирдза посмотрела ему прямо и открыто в глаза. — Мы ошиблись друг в друге. Еще хорошо, что спохватились вовремя.
— Значит, все… кончено? — прошептал Эрик, прислонившись к оконному косяку.
— Нет, ничего не кончено! — воскликнула Мирдза. — Так разговаривают только в старомодных романах. Мы живем в новое время… Эрик, — продолжала она, помолчав, — неужели ты, действительно, не можешь собраться с силами? Хоть характер свой показал бы, а ты — ни то, ни се! — она даже не смогла найти подходящих слов для этого ссутулившегося, обмякшего парня — мягкость его уже граничила с бесхарактерностью. Помимо собственного дома, ему не было никакого дела до окружающего мира. И что это он воображает: она перейдет жить к нему в дом, перейдет жить в комнату, где на стене висит изображение Христа — и не потому, что Эрику так нравится, а потому, что мать навязывает ему эту картину, навязывает свои отсталые взгляды. Эрик хочет, чтобы она стелила для него постель, прибирала двор и отказалась от своего пути, по которому беспрерывно идет в гору, вершину которой ни рукой достать, ни глазом увидать. Какое он имеет право даже пытаться отговаривать ее от этого пути, увлекать в тихую, затхлую лощину, где она может задохнуться?
— Наши шаги не совпадают, — повторила Мирдза, раздельно выговаривая слова. — Значит, расстанемся, Эрик, без вражды. Быть может, когда-нибудь встретимся… Если у тебя хватит сил идти со мной.
Наконец он понял, что поездка не удалась и дольше так стоять нет смысла. Он оторвался от окна и пошел. Вспомнив, что мать осталась в комнате, он обернулся и попросил:
— Пожалуйста, скажи матери, что я хочу ехать домой.
Мирдза через окно видела, как сердитая Лидумиете сравнительно проворно уселась в повозку. Из-под откинутой полости выглянула корзинка, укрытая белой тканью, мелькнуло горлышко водочной или винной бутылки с блестящей головкой.
— Как хорошо, что она оставила свои гостинцы в повозке и нам не пришлось их отведать, — решила Мирдза.
Эрик дернул вожжи, и вороной пошел быстрой рысью.
Всю дорогу Эрик не проронил ни слова. Мать напрасно расспрашивала, что у них с Мирдзой произошло, почему отложил сватовство и почему он такой неразговорчивый. Но Эрик молчал.
Дома он так же молча распряг лошадь, завел ее в конюшню, откатил повозку в сарай и пошел в комнату. Потом, что-то вспомнив, вернулся в сарай к поленнице и, взяв охапку сухих сосновых дров, понес в дом.
— Ты что это, печь хочешь топить? — удивилась мать.
Эрик промолчал. Он затопил в своей комнате печь, а когда дрова как следует разгорелись, снял со стены изображение Христа и со всего размаху швырнул в пламя.
24
БОЛЬШЕ СВЕТА
— Политика неотделима от жизни, она — сама жизнь, — закончил свою вступительную речь представитель укома партии на открытии волостной политической школы.
Сидя за столом президиума, Озол с удовлетворением посматривал на лица слушателей. Здесь был весь его актив — работники исполкома и сельсоветов, большая часть уполномоченных десятидворок, кандидатская группа, комсомольцы. Здесь сидели оба агента по заготовкам, Ян Приеде, рядом с ним Мария Перкон, дальше — Ольга. Озол едва заметно кивнул ей, он радовался за жену — она сама заговорила о том, что ей тоже хочется пойти в школу. Оля убедила и Марию Перкон посещать занятия. Нелегко было Марии оставлять дом; старший сын ушел в ремесленное училище, меньшие занимались тут же, в местечке. К тому же она сомневалась, поймет ли она еще что-нибудь своей старой головой. Но такие «старые головы» были здесь у многих, поэтому в дальнейшем слушателям предстояло разделиться на две группы. Лекции надо было читать так, чтобы они были понятны и интересны и молодым, и пожилым.
Во время перерыва Ян Приеде подошел к Озолу и, улыбаясь, хлопнул его по плечу:
— Кто это смел раньше подумать, что жизнь можно начать и с другого конца. Бывало, в школу ходили только маленькие карапузы, в коротеньких штанишках, а нынче — вон какие бородатые дяди. Пойти-то я пошел, но все же сначала как-то стыдно было — на что, мол, это будет похоже, если я, старый человек, явлюсь в школу? Но когда увидел, что здесь кое у кого борода подлиннее моей будет, тогда решил: чего тут стыдиться, ведь у меня усы — и те подстрижены.
— Так оно и есть, Ян, начинать жить никогда не поздно, — ответил Озол. — Не зря говорят: «лучше поздно, чем никогда». В прежние времена ты так бы и прожил свой век, молодости не увидев. Даже не женился бы.
— А ведь правда твоя!
— Ну, а как же свадьба? — спросил Озол, улыбаясь.
— Да молодежь надумала, чтобы в Октябрьские праздники, — смущенно ответил Ян. — Уже разучивают разные танцы да песни. Меня не подпускают. Говорят, хотят меня удивить. И чтобы никому не рассказывал. А я, видишь, разболтал тебе.
— Я ведь тоже кое-что знаю, — усмехнулся Озол. — Как у тебя теперь на пункте дела? Уходить не собираешься?
— Да нет! Вернули прежнего директора МТС. Когда я кузнеца этого в клети поймал, долго искали и допытывались. Там их целая банда была. Пьянствовали и воровали. Да ты ведь сам знаешь, зачем тебе рассказывать, — спохватился Ян. — А теперь нам трех лошадей уже прислали. По всему видно — хозяин вернулся.
— Вся волость почувствовала, — радовался Озол. — Этой осенью без споров вспахали нам пятьдесят гектаров трактором. Потому-то Мария Перкон и может ходить теперь в школу!
Начались занятия. Одной группе Озол читал введение в историю партии, другой — Салениек читал Конституцию. Представитель укома послушал того и другого и, расставаясь, пожал Озолу руку.
— С вашей школой у нас хлопот не будет. Ваш сосед Целминь тоже взялся читать Конституцию. Чего только он не наговорил уже на первом уроке! Пришлось сказать: хватит, друг, больше не надо! Самому надо учиться, а не других учить. А на наших семинарах он редкий гость.
Услышав о Целмине, Озол вспомнил, что он все еще не выполнил просьбы Рендниека — посмотреть, что творится у соседей. Соседняя волость во многих отношениях была не из последних. Зернопоставки в волости до сих пор выполнялись по плану. Возможно, Целминь хороший практик, у которого стоило поучиться.
Возвращаясь домой, Озол заметил, что на одной из окраинных улиц местечка стоят несколько повозок; туда же заворачивает еще одна бричка, управляемая женщиной. Он решил узнать, что тут за сборище в столь поздний час. Женщина привязала лошадь к забору небольшого домика. Когда она прикрикнула на лошадь, Озол по голосу узнал Балдиниете. Хотел обратиться к ней и расспросить, но в это время открылась наружная дверь домика и вышла закутанная в платок старушка; она время от времени всхлипывала и вытирала глаза, Балдиниете остановила ее, поздоровалась и сразу же поинтересовалась:
— Ну, что она тебе рассказывала? Показала сыночка?
— Показала, показала! Жив мой Арвидинь! Только много воды перед ним, не может попасть домой, — отвечала Саулитиене.
— Был бы только жив! — радовалась Балдиниете вместе с нею. — А я еду, и сердце замирает — вдруг выйдет могила с крестом, тогда уж лучше бы не знать ничего. А то все-таки можно надеяться. Я так решила: если сынок вернется, целый год не позволю ему ничего делать. Пусть отдыхает от тягостей войны.
— Я то же самое. С утра ни кусочка в рот не брала. Сердце у меня, словно открытая рана, — торопливо говорила Саулитиене. — Мой старик, правда, бранится, что верю этим ворожеям, а я так рада, так рада, что увидела сыночка своего.
— Я сперва попрошу показать Ольгертиня, о нем-то знаю, что жив, недавно прислал письмо, пишет, что их, наверно, в Ригу пошлют, — рассказывала Балдиниете. — Ну, пойду, тороплюсь. Так хочется повидать сыночков.
— Где же их показывают, в кино, что ли? — насмешливо спросил Озол из темноты, поняв, что женщины стали жертвами какой-то гадалки.
— Ну с богом, с богом, — поторопилась проститься Саулитиене, притворившись, что не слышала и не видела Озола. Балдиниете растерянно потопталась, а затем начала объяснять, что сюда приехала ясновидящая и показывает людям все, что пожелают, и еще на картах гадает.
— Палкой ее, обманщицу, по спине да порог показать! — воскликнул Озол.
— Ах, что вы, господин Озол, не делайте этого! — упрашивала его Балдиниете. — Нам, несчастным матерям, каждое ее словечко дорого. Тем более, что сыночков показывает.
— Да она дурачит несчастных людей! Что это у вас под мышкой, небось окорок?
— Да я целую бы свинью отдала, только бы узнать, что сын жив! — воскликнула Балдиниете.
— Золотая жизнь у таких обманщиков! За один вечер без труда зарабатывают на целый год! — сердился Озол. — Вы мясо государству сдавали? — вдруг вспомнил он.
— Еще нет, жду, чтобы бычок подрос.
— Конечно, государство пусть ждет, пока бычок подрастет, а колдунье готова свинью отдать.
— Вам только — государство да государство, а я не знаю, где мой сын, — вспылила Балдиниете и прошла мимо Озола в дом. Озол хотел пойти за ней, но передумал и отправился за милиционером.
Через некоторое время Озол с Канепом вошли в большую комнату, где на стульях и скамейках сидели и старые и молодые женщины, лица их были напряжены, разговор велся шепотом, словно все лишились голоса. Девушки смущались — должно быть, пришли наворожить себе суженых. Из соседней комнаты, сдерживая слезы, вышла расстроенная Лидумиете. Ее обступили и начали расспрашивать, что и как, а она с трудом выдавила из себя: «Песок и дерн…» — и направилась к дверям.
— Чья очередь? — нетерпеливо спросила какая-то девушка.
— Теперь наша! — громко сказал Озол и, распахнув дверь, вместе с Канепом вошел в меньшую, полутемную комнату, где на столе горели две свечи, отражавшиеся в зеркале. На подзеркальнике лежала библия, покрытая белой салфеткой, а на ней стоял стакан с водой. У стола спиной к двери сидела женщина, одетая в черное. Даже не повернув к вошедшим головы, она принялась крестить стакан и бормотать нечленораздельные слова. Около двери была поставлена корзина, наполовину уже набитая разными земными благами.
— Ну-ка, гадалка, покажи, как выглядит моя невеста? — полным голосом сказал Озол.
— Посмотри мне в глаза, а потом в стакан, через самую середку кольца! — произнесла черная женщина загробным голосом, выпучив на Озола глаза. — Что дух тебе предопределил, то ты и увидишь; где жнец проходит, там колосья падают, на небе предрешена судьба каждого. Все в знамениях записано и через мои слова явится.
— Разве тебе самой знамение не указывало, что будешь иметь дело с милицией? — строго спросил Озол, сдерживая смех.
Гадалка вскочила, замахала на Канепа длинными руками.
— Изыди, изыди, сатана, ибо в писании сказано, не искушай меня! — запричитала гадалка.
— Я по делам службы пришел, а не искушать тебя, — сказал Канеп, тоже сдерживая смех. — Что ты за гадалка, если не можешь предсказать, что произойдет с тобой через минуту? Ну-ка, птаха, отправляйся в клетку, привыкай честно хлеб зарабатывать.
Когда Канеп с Озолом повели шарлатанку через переднюю комнату, женщины повскакали со своих мест, «Как бы они с нами не расправились», — подумал Озол.
Луна стояла высоко над крышами домов и, ухмыляясь, смотрела, как представитель земной власти уводил посланницу неба в исполком, где ей предстояло провести ночь в размышлениях о непостоянстве земного счастья.
Проходя мимо школы, Озол увидел, что у Салениека в квартире все еще горит свет. «Больше света!» — так, умирая, воскликнул великий немецкий поэт Гете. Разве он не был ясновидящим, требуя света для своего народа, ввергнутого потом Гитлером в самый черный мрак. Больше света нужно и тем женщинам и девушкам, которые все еще путаются в сетях, расставленных обманщиками. Латышская буржуазия хвасталась своей образованностью, а между тем буржуазная интеллигенция предавалась оккультизму и спиритизму и представители ее были постоянными клиентами ясновидящего Финка. Что же удивляться легковерию простых женщин, их любая старуха может убедить, что она посланница неба.
«Больше света!» — Озолу хотелось крикнуть это так громко, чтобы проснулось все местечко и во всех окнах зажегся свет. За спиной загрохотала телега, ехала Балдиниете. Поравнявшись с Озолом, она не пригласила его сесть в повозку, а хлестнула лошадь и исчезла в темноте.
«Ишь ты, еще сердится, что спас ей свиной окорок!» — весело усмехнулся Озол. Он постучал в дверь школы, чтобы зайти к Салениеку и сразу же договориться о том, что сделать, чтобы в волости стало больше света. Надо организовать популярные лекции о возникновении и строении мира, об абсурдности веры в судьбу и предсказания и даже о снах и их научном объяснении. Надо объявить суеверию решительную войну.
Возвращаясь из города с очередного семинара партийных работников, Озол остался на ночь в соседней волости у своего дальнего родственника Сурума, с которым водил дружбу в былые годы, но после войны, за недостатком времени, не встречался. Это был прилежный труженик, свое небольшое хозяйство он постоянно совершенствовал, собственными руками построил ветряной двигатель, подававший воду в кухню и на скотный двор, вертевший соломорезку, веялку и льномялку. В саду Сурума росли всевозможные сорта яблонь, груш и слив, за черенками которых он ездил в самые отдаленные питомники. Перед домом, на южном склоне, была построена маленькая теплица, где он выращивал раннюю рассаду не только для себя, но и для соседей.
Приближаясь в сумерках к усадьбе «Сурумы», Озол ее не узнал и подумал — уж не сбился ли с пути. Ветряка не было, возле дома — ни яблонь, ни теплицы. Сам дом казался каким-то голым и чужим. Озол неуверенно вошел во двор и увидел там своего родственника, рубившего хворост.
Они поздоровались, но Озол заметил, что в голосе Сурума нет былой приветливости. Он медленно положил топор и повел гостя через кухню в комнату.
— Знаешь, я просто не узнал твоей усадьбы, — говорил Озол. — Где твой замечательный сад?
— Вымерз в первую военную зиму. Что осталось — немцы уничтожили.
— Новый еще не посадил?
— Что ты, — махнул рукой Сурум.
— Ты ведь такой опытный садовод, дички растил и прививал, я думал, что ты всю волость покрыл садами.
— Руки не доходят, — уклончиво ответил Сурум.
— Вижу, и ветряка у тебя тоже нет, — вспомнил Озол.
— Снарядом разбило.
— Почему не смастеришь новый? От вас вода ведь далековато.
— Э, чего там!
Разговор явно не клеился. Что-то изменилось в сердце Сурума, он прятался за короткими, уклончивыми ответами. И только по случайно пойманным взглядам Сурума Озол почувствовал, что родственник относится к нему как-то недоверчиво, не понимает, зачем он пришел, и видит в нем официальное лицо, которому лишнее лучше не говорить.
— Ты, конечно, не откажешь мне в ночлеге, — попросил Озол, решив поговорить с хозяином, узнать, что его угнетает и что он думает о новой жизни.
— Отчего же, комната Арнольда пустует, можешь переночевать, — ответил Сурум, не очень обрадовавшись намерению Озола.
— А где твой Арнольд? — спросил Озол, вспомнив сына Сурума, который был моложе его Карлена.
— Арнольда послали в школу ФЗО, — сообщил Сурум, и на его лбу легли глубокие складки. — При немцах один год в школу не ходил, ну и был годом старше остальных.
Помолчав минуту, он продолжал:
— Вот хотел я теплицу привести в порядок, рассаду растить, а то едут люди на базар и покупают у спекулянтов за большие деньги. Пришел в исполком и говорю, отпустите из кооператива стекла для теплицы, а я буду рассадой по государственной цене снабжать. Отвечают: нет, кулакам мы не помогаем. А кому дали? Отцу нашего председателя Лерума. Он, мол, новохозяин. Раньше пасторское имение арендовал, а теперь получил его в вечное пользование. Девять коров держит и четырех лошадей. Каких только машин он не понатаскал отовсюду, когда нас немцы выгнали. Моим картофелекопателем по сей день пользуется. Кому пожалуешься, чтобы вернули? Теперь он сам большим человеком стал, а сын еще большим. Вдвоем с отцом взяли себе все бывшее имение. У одного пятнадцать гектаров, у другого — пятнадцать, у сестры с мужем — еще пятнадцать. А земля вся пахотная. Батрака держат, три жнейки запускают. Попробуй скажи, что кулаки. Лерум всегда какой-то книжечкой хвастает, говорит: я в партии, мне никто ничего не сделает.
— На самом деле он в партии? С какого времени? — Озол не понимал.
— Да разве мы знаем? Тебе бы лучше знать, сам ведь в партии.
— Чудеса да и только! — воскликнул Озол, вспылив.
— У нас здесь еще бо́льшие чудеса, но кто же осмелится сказать, — проговорил Сурум и осекся.
— Почему не осмелится? О правде нечего бояться даже кричать, не то что скрывать ее. Сурум, мы с тобою родственники и были когда-то друзьями, почему ты меня теперь остерегаешься? — Озол не сводил с него глаз.
— А как мне знать — ты в партии, он тоже, а говорят, что для тех, кто в партии, она всегда на первом месте. Может, и для тебя тоже, — пробормотал Сурум, потупив взор.
— Да, партия у меня на первом месте, — признал Озол. — И потому для меня важнее всего честь партии. Если негодяю удалось втереться в наши ряды, то его без жалости нужно вымести железной метлой.
— Кто же будет выметать? Рука руку моет, и обе чистые.
— Ты говоришь, как приговоренный к смерти, — заволновался Озол. — А ты сам сделал что-нибудь, пытался вскрыть эти безобразия?
— Чего там жаловаться? Их-то ведь начальство поставило. А кому же жаловаться, богу на небе, что ли? — Сурум махнул рукой.
— Ни правительство, ни партия не могут влезть человеку в душу. Вы, трудящиеся, сами должны чувствовать себя хозяевами волости. А вы ведете себя так, словно Советская власть хочет вас угнетать и только потому поставила во главе волости самых плохих людей. Поверь мне, секретарь укома Рендниек был бы тебе очень благодарен, если бы ты съездил к нему и рассказал все, что здесь творится.
— Разве мне кто-нибудь поверит? — продолжал Сурум сомневаться.
— На слово, конечно, не поверили бы, но приехали бы проверить.
Они говорили до поздней ночи, и Озол узнал, что председатель волостного исполкома Лерум при каждом мероприятии пользуется одним и тем же методом — окриком и угрозами. Парторг волости Целминь разделил всех крестьян на две категории — новохозяев и кулаков. С последними он не разговаривает вовсе. Нет, два раза в год он все же говорит: весной напоминает — не засеете столько-то — в колхоз! Осенью опять — не сдадите столько и столько-то — погоним в колхоз! Здесь кое-кто из старичков и не знает, что такое колхоз, но запуганы до смерти — верно, уж что-нибудь ужасное, раз этим грозят. Кое-кто уже начинает скотину распродавать, говорит, в следующую весну все разно все заберут и всех в колхозы погонят. Пустые разговоры, послушают и забудут. Но Целминь раз сам объехал волость и прикинул, где устраивать колхоз. Остановился уже было на одном месте, но затем передумал: земля плоха. В конце концов решил — в этом краю волости, может быть, и мою землю включит.
— А ты что — испугался? — спросил Озол. От рассказа Сурума у него пересохло во рту и казалось, что в комнате не хватает воздуха.
— Да разве я один могу противиться, — сказал Сурум с безразличием обреченного.
— Но если бы ты мог выбирать — вступить в колхоз или остаться единоличным, как бы ты поступил? — поинтересовался Озол.
— Если бы я знал, что в колхозе лучше, то пошел бы, — ответил тот, — но как же знать? Не легко одному на двадцати гектарах; спины не разогнешь. Часто я думаю, зачем люди так бьются, всякими правдами и неправдами добро наживают. В могилу с собой ничего не возьмешь, а детям все равно лучшей жизни не увидеть. А что если в колхозе придется с голоду помирать, как в немецкое время рассказывали и писали, тогда уж, право, не хотелось бы.
— Удивительно, как долго ты помнишь, что писали и рассказывали при немцах, — у Озола прорвалась обида на родственника. — А тому, что теперь пишут и рассказывают, ты плохо веришь?
— Тебе, Юрис, я верю больше, чем кое-кому из тех, что иногда приезжают к нам и словно по газете прочитывают свои речи. — Сурум посмотрел на Озола открытым взглядом. — Когда ты говоришь, я чувствую, что от сердца. Быть может, в колхозах и не плохо. Но так, как о них у нас говорят и сделать хотят, то это все равно, как если тебя в темную ночь взяли за руку, провели немного по незнакомому месту, а затем сказали — прыгай! А ты не знал бы, что перед тобой — может, стена, а может, овраг? Мы, крестьяне, думаем медленно. Отец рассказывал, что он еще долго молотил цепами в то время, как молотилка уже разъезжала по волости. Ему казалось, что не может быть хорошим зерно, если пройдет через такую машину. К молотилкам мы уже привыкли, а колхозы — это дело новое.
— Так-то оно так, Сурум, прав и ты, — согласился Озол. — Ты живи спокойно — и не бойся. В одном я могу тебя уверить — никто загонять в колхозы не станет и создавать их будут не так, как думает Целминь. И каждому, кто станет рассказывать тебе о грубых извращениях идеи коллективизации, скажи, чтобы немедленно сообщил об этом в Ригу, в Центральный Комитет партии.
С утра к Суруму забежал уполномоченный десятидворки с извещением, что нужно явиться в исполком на собрание.
Озол был доволен, что сможет ознакомиться со стилем работы Целминя. Ночью, оставшись один в комнате Арнольда, он долго думал над тем, что услышал от Сурума, но потом успокоил себя: может быть, не всему надо верить. Сурума он раньше знал, как порядочного человека, который в ульманисовское время не стремился сесть за один стол с тогдашними заправилами — айзсаргами и членами крестьянского союза, но нельзя было знать, какие изменения могли произойти в нем за эти годы, когда кое-кто стал опасаться за свою частную собственность. Возможно, Сурум смотрит на все сквозь очки субъективизма, да к тому же темные — не умеет подняться и посмотреть через баррикады послевоенных трудностей, и в любой неудаче винит только Советскую власть и ее работников. Сомнения выросли в желание — лучше бы ему ошибиться в Суруме, чем в Целмине.
Поэтому по пути в волостной центр беседа Озола и Сурума снова не клеилась — у одного еще остались сомнения прошлой ночи, а другой после вчерашнего прилива откровенности замкнулся, видя в родственнике и бывшем друге одного из партийцев, о которых сказал — «рука руку моет».
Они приехали слишком рано, народ еще не подошел и собрание не началось. Озол поинтересовался, где живет Целминь, и пошел разыскивать его. Целминь был пожилым человеком, простым и добродушным. Он сразу же пригласил Озола позавтракать — жена Целминя как раз накрывала на стол. Но Озол уже закусил у Сурума и поэтому отказался от еды и от «ста граммов» — на фронте они порою были необходимы, но теперь водку часто предлагали кулаки, и он привык отказываться от нее.
— Правда, что ты собираешься организовать колхоз? — вскоре поинтересовался Озол.
— Я рядовой работник, самостоятельно ничего не решаю, — ответил Целминь, и Озолу стало как-то легче на душе. — Но вот пишут, — продолжал Целминь, — что у социалистического сельского хозяйства большие преимущества, поэтому не плохо бы и нам переходить к этому.
— Это другой вопрос, — сказал Озол успокоенный. — Но здесь, в твоей волости, поговаривают, что ты будто уже в этом году собираешься проводить коллективизацию.
— Мы с тобой свои люди, поэтому можем говорить откровенно, — пояснил Целминь. — Иногда, во время этих кампаний, шучу: не сделаете, мол, вовремя того или другого, придется всем идти в колхоз.
— Разве такими вещами можно шутить? — Озол от неприятного чувства сморщил лоб. — Крестьяне принимают это как угрозу.
— Как же иначе с кулаками справиться. Не знаю, как в твоей волости, но в моей — восемьдесят процентов кулаков, — оправдывался Целминь.
— Это, право, фантастическая цифра, — усмехнулся Озол. — В Латвии до Советской власти было около двадцати процентов кулацких хозяйств, а теперь часть кулаков уехала с немцами, так где же ты набрал их столько.
— Не пойму, как это получилось, — удивлялся Целминь, — но я серьезно говорю. На собрания их тоже не вытащить. За ними приходится чуть ли не милиционера посылать.
— А ты сам к крестьянам ходил? Говорил с кем-нибудь как следует? — поинтересовался Озол.
— Что с такими говорить, они и ухом не ведут. Чего им зря толковать, — уклончиво ответил Целминь. — Однако пора на собрание, — добавил он, взглянув на часы.
Собралось не больше тридцати человек, при появлении парторга они притихли и расселись на последних скамейках в зале Народного дома.
Озол уселся рядом с другими и с интересом наблюдал за председателем исполкома Лерумом. Сделав важное, сердитое лицо, он открыл собрание и принялся бранить присутствующих за то, что собрались в таком маленьком количестве.
— Мы всех, кто не явился, запишем, вот тогда увидите! — пригрозил Лерум. — В наших руках достаточно средств, чтобы сломить сопротивление кулаков. Вы думаете, что еще долго будете отсиживаться в своих домах, что вас никто не тронет, никто оттуда не выгонит? Слово имеет товарищ Целминь, — неожиданно закончил он, так и не сказав, почему крестьяне не могут «отсиживаться» в своих домах и зачем их оттуда выгонять.
Целминь поднялся на трибуну и откашлялся.
— Ну, опять заведет от сотворения мира, — услышал Озол шепот соседа.
Целминь начал с тысяча девятьсот пятого года. Длинно и пространно рассказывал о восстании рабочих и крестьян против царя, о лесных братьях, «загоревшихся высшей идеей» и не знавших поэтому «человеческой жалости», потом перескочил к семнадцатому году и повел еще более длинный рассказ о своем участии в великих событиях — как он в те времена занимал в Цесисе должность милиционера, как во время немецкой оккупации, в восемнадцатом году, скрывался и снова вернулся в девятнадцатом году на прежнюю работу. Покончив со своей биографией, Целминь начал говорить о создании Советского Союза и о борьбе с внешними и внутренними врагами. Здесь он путал факты и события. Озол с трудом сдерживал себя, чтобы с места не поправлять его.
Проговорив полтора часа, Целминь наконец перешел к сегодняшнему вопросу — созданию сельскохозяйственного кооперативного товарищества.
— Землю надо обрабатывать по законам агротехники. Таково распоряжение правительства. Я думаю, что всем, кто здесь собрался, это ясно и все вступят. Если кто не согласен, пусть поднимет руку. — Обведя взглядом собрание и не увидев ни одной поднятой руки, он закончил: — Все согласны. Теперь осталось избрать председателя и весной взяться за работу.
Так просто Целминь организовал сельскохозяйственное кооперативное товарищество. Эти товарищества теперь строились в деревне на новых основах — поэтому необходимо было подробно и всесторонне рассказать о них крестьянам. Озол в своей волости уже созывал по этому поводу несколько собраний десятидворок, говорил с отдельными крестьянами, но еще не считал разъяснительную работу законченной.
— Слушай, мне кажется, ты в своей речи многое перепутал, — заметил Озол Целминю после собрания.
— Возможно, кое-что забыл — сколько уж лет прошло с тех пор, как я во всем этом участвовал, — ответил тот, не смущаясь.
— Надо бы освежить знания, читать историю партии.
— Уже в сороковом году прочел. Там ничего нового не прибавилось. — Для Целминя все было очень просто.
— А почему ты не посещаешь семинары в городе?
— Я тебе скажу, что обо всем этом еще в молодости читал. Когда эти лекторы еще в коротеньких штанишках ходили, — Целминь рассмеялся мелким стариковским смешком.
Озолу казалось напрасным разговаривать об учебе с этим самодовольным, уверенным в своих знаниях человеком, который даже не готовился к своим выступлениям, считая, что достаточно рассказать свою убогую биографию и потом предложить проголосовать не «за», а «против».
— Меня удивил порядок голосования на собрании, это для меня нечто новое, — заметил Озол.
— Эх, брат, век живи, век учись! Вначале, когда еще я не знал, с кем имею дело, они у меня голосовали так, как принято. Но тогда у них руки будто привязаны. Говори, разъясняй, зачем делать так, а не этак. Ну, решил я — погодите, умники, я вас научу. Вот и сказал им: кто не согласен, тот —
враг. И спрашиваю: кто голосует против? Понимаешь — никто. Так вам и надо. Не хотите рук поднимать — не поднимайте!
— Как же можно так грубо нарушать советскую демократию? — упрекнул Озол, еле сдерживая возмущение. — Партия послала тебя разъяснять крестьянам цели и мероприятия правительства, а ты действуешь, как какой-то губернатор. Правда ли, что Лерум принят в партию? — вдруг вспомнил он.
— Кандидат, кандидат, — утвердительно закивал Целминь седоватой бородкой. — Я сам ручался. Ну и хлопот с этой партией. В укоме говорят, надо укреплять ряды партии, а кого принимать, раз никто не идет? Новых крестьян не поймешь, то ли выжидают чего-то, то ли напуганы, а когда спрашиваешь — пойдут ли в партию, — говорят, что подумать должны. С Лерумом дело ясное. Уже по должности он должен быть в партии.
— Должность никому не присвоена навечно, товарищ Целминь, — сказал Озол, чувствуя, насколько излишне разговаривать здесь и как необходимо поговорить в другом месте, поговорить с Рендниеком, рассказать ему, как некоторые люди недостойно используют доверие партии.
Вскоре после этого, как только представилась возможность, Озол поехал в город. Он долго сидел у Рендниека и подробно рассказывал о слышанном и виденном в соседней волости. При этом Озол все время ощущал какую-то неловкость. По лицу и движениям секретаря видно было, что он испытывает то же самое — он то и дело откладывал в пепельницу еще не докуренную папиросу, а другой рукой тянулся за новой.
— Тяжело слушать, Озол, мне стыдно, — сказал Рендниек, когда Озол кончил и, замолчав, уставился в пол. — Ведь и я должен знать, кого мы посылаем в деревню, нельзя полагаться только на отдел кадров. Анкета еще не является зеркалом человеческой души. Казалось бы, велика ли должность — парторг волости. Но именно этот парторг является основным звеном нашей связи с крестьянами. От него и зависит — получится контакт или короткое замыкание.
— Как он смеет запугивать колхозами! — вдруг вспомнил Рендниек. — Он даже не понимает, какое совершает преступление! Вместо того, чтобы разъяснять крестьянам, что колхозы обеспечат им более зажиточную и культурную жизнь, он колхозами запугивает. Подозреваю, что это происходит и в других местах.
Он закурил папиросу, успокоился и посмотрел на Озола посветлевшим взглядом.
— Мне снова придется взять кого-нибудь из работников укома и послать в волость исправлять ошибки Целминя. Знаешь, что мне приходит на ум, когда я думаю о вас, парторгах? Трудно вам агитировать без наглядных пособий, как сказали бы учителя. Одними только словами трудно доказать крестьянам, что колхозы сделали бы их жизнь более легкой. Ты ведь видишь, что и среди нас встречаются люди, которые льют воду на мельницу врага. Но если бы у нас в республике удалось организовать колхоз, в котором честные труженики доказали бы преимущество коллективного хозяйства, тогда вы могли бы каждого сомневающегося или обманутого врагом свести туда и показать — посмотри своими глазами, пощупай, если не веришь, и суди сам.
— Действительно, товарищ Рендниек, это облегчило бы нашу работу. Это было бы прямым попаданием в позицию врага, — согласился Озол.
— Еще не отвык от военной терминологии? — усмехнулся Рендниек. — Да, пока враг на разбит наголову, мы должны чувствовать себя, как на фронте. А когда дело продвинется вперед и крестьяне приступят к организации первых колхозов, то в нашем уезде организацию первого колхоза я поручу тебе. Помни об этом и будь готов.
25
ПЯТИЛЕТКА НАЧАЛАСЬ
Из загса вышли четыре человека — новобрачные Ванаг и Зента и сопровождавшие их Озол и Мирдза.
— Будем мы сегодня продолжать работу? — сказал Озол с сомнением, но в его голосе все же прозвучала и просьба. — Правда, свадьба — не так уж часто повторяющееся событие. — Он с улыбкой посмотрел на Ванага и Зенту, пытаясь последними словами смягчить свой вопрос, который сам признавал нетактичным.
— Обязательно позанимаемся! — энергично отозвался Ванаг. — Что начато, то надо закончить. Не забудьте, что Зента последний день на своей секретарской работе. А Лайма Гаужен еще не освоилась, так что дело у нас может затянуться.
— Понимаю, почему новобрачные так рвутся на работу, — пошутила Мирдза, — не приготовили свадебного угощения и хотят как-нибудь вывернуться.
— От тебя ничего не утаишь! — засмеялась Зента, взяв Мирдзу под руку. Она не отпускала руки подруги, так как ей было неловко идти об руку с Петером по улице — в окнах видны были любопытные лица женщин. Никто еще не знал, что Зента с Ванагом поженились. Она и сама с этим еще не свыклась, ей казалось, что все смотрят только на них, и не хотелось давать пищу пересудам; пусть они двое знают о своем счастье, да еще такие близкие, хорошие люди, как Мирдза и ее отец. С облегчением она переступила порог исполкома — здесь было все привычно — комнаты, стены, здесь был ее кров. После возвращения из больницы она никак не могла заставить себя жить в своем домике, где все напоминало о трагической смерти матери. Она поселилась в комнатке Кадикиса, пустовавшей после его отъезда. Новый начальник почты был женатый человек и жил в другом месте.
Сегодня уже с утра они обсуждали план развития сельского хозяйства на этот год, которым началась великая пятилетка. Они знакомились с данными по каждому хозяйству в отдельности: сколько где неподнятой земли, сколько каждый мог бы еще вспахать и засеять. Перед этим Мирдза по поручению исполкома обошла со своими комсомольцами все дворы, зарегистрировала скот — и теперь точные сведения, собранные надежными людьми, очень пригодились. Кулакам ничего не удалось скрыть.
План по зерну просмотрели еще утром, после чего Ванаг, покраснев, неловко упомянул, что сегодня им с Зентой надо бы пойти в загс. Можно бы и отложить, но заведующий будет ждать. Мирдзе стало смешно. Ванаг сказал это таким тоном, словно ни она, ни ее отец об этом ничего не знали. А ей обо всем уже рассказала Зента. Отец и мать тоже были посвящены в это. Вчера Мирдза с матерью долго хлопотали, напекли булочек и пирожков. Мать сказала, что ни у Зенты, ни у Петера нет никого, кто бы мог приготовить что-нибудь вкуснее, и принялась месить тесто. Сегодня утром Мирдза тайком принесла в исполком корзину с булочками, Петер и Зента ничего не заметили. Теперь Мирдза могла поставить на стол свадебное угощение.
Это был необычный для свадьбы стол — вместо звона стаканов и тарелок шелестели листы бумаги, молодожены и гости перелистывали их, успевая в то же время закусывать. Вместо веселого говора и песен слышны были замечания, что вот теперь, после комсомольского контрольного рейда, количество крупного скота в волости прибавилось на семьдесят две головы, а овец — на сто пятьдесят три. Шутили, что кое-кто поспешил бы изобразить это, как результат перевыполнения плана по животноводству. Все рассмеялись, когда Мирдза рассказала, что ей снова пришлось схватиться с Думинями, у которых были зарегистрированы только четыре коровы, а в коровнике у них восемь голов. Это она знала от Яна Приеде, который, разоткровенничавшись, признался, что во время первой регистрации Ирма Думинь уговорила его записать ложные данные, и он тогда согласился — не хотелось досаждать бывшим хозяевам!
— Ладно, в этом году им прибавим к поставкам прошлогодний долг, — решил Озол.
— Ох и заскрипят, как несмазанные телеги! — усмехнулся Ванаг. — Могу себе представить, какие у Ирмы будут доводы: «Разве корова в один год может дать молока за три года? Неужто мне девять раз в день доить?» — он так похоже изобразил Думиниете, что Мирдза воскликнула:
— Петер, в следующем спектакле тебе надо играть кулака! У тебя талант!
— На что же это будет похоже, если волостной старшина выступит в спектакле? — Ванаг так важно откинулся на спинку стула и надул щеки, изображая спесивого кулака, что все снова рассмеялись.
Потом все опять посерьезнели — называли цифры, вносили их в новые списки, но это не были только цифры, это были стада, в которых среди бурых коров бойко резвились телята, блеяли овечки. Рубрика с заголовком «свиньи», разделенная горизонтальными линиями, напоминала загородку в хлеву с хрюкающими поросятами.
— Когда я ознакомился с нашими грандиозными планами на пять лет, — заговорил Озол, оторвав глаза от бумаг, — у меня прямо голова закружилась. Какие грандиозные цели и цифры; в других условиях они могли бы показаться плодом фантазии поэта-романтика. Мне иногда кажется, что и мы романтики, только другого племени. Мы на прошлое не оглядываемся, а смело смотрим в будущее, умом и сердцем устремленные к реальной жизни.
— Мечтатели прошлого ужаснулись бы, если бы им сказали, что в день своей свадьбы им придется составлять план подъема сельского хозяйства волости, — смеялась Мирдза. — Ах, белая подвенечная фата, мирты и розы, платье со шлейфом в десять метров и жених во фраке! Честное слово, я со смеху лопнула бы, если бы Зента и Петер так разоделись.
— Много ли не хватало, чтобы ты сама пошла в таком виде к алтарю, — Озол лукаво посмотрел на Мирдзу. — Изобрази Эрик после ранения героя, у тебя бы голова пошла кругом и такой прелестной показалась бы старая романтика с луной, вздохами и соловьями.
— Папа, не надо! — поморщилась Мирдза, вспомнив, как проливала слезы, когда к ней не доходили письма Эрика, а к нему ее письма, перехваченные Майгой. Нет, это уже прошло, она этим уже переболела, как корью, и ничего подобного больше не повторится.
— Да, сейчас мы тут шутим и мечтаем, а завтра, послезавтра начнутся рабочие будни, — напомнил Ванаг. — Когда поведем разговор с исполнителями плана, немало встретим и нежелания, и сопротивления.
— Если кому будет трудно — поможем, а нежелание нужно сломить, — твердо ответил Озол. — Кто станет противиться плану? Единственно — кулаки, такие, как Дудум. Большинство крестьян признает, что план отвечает их интересам.
— Папа, — перебила его Мирдза, — комсомольцы примут участие в разъяснительной работе, но я со своей стороны выставляю одно условие — к Дудуму иди ты сам. Теперь я не смею туда показываться. Пока Густ еще надеялся на Зенту, он меня медом потчевал. А теперь — наверняка костылем выгонит.
Зента провела последнюю черту и, повернувшись к Петеру, заявила:
— С этого момента ты больше мне не начальник.
— Жаль. Именно теперь мне было бы выгодно быть твоим начальником, — также пошутил в ответ Ванаг. — А то как бы не пришлось жить под каблуком у жены.
— Я позабочусь, чтобы вам пореже приходилось видеть друг друга, — пообещала Мирдза. — По плану комсомольцев в этом году надо построить Народный дом, и так как Зента с завтрашнего дня станет заведующей будущим Народным домом, она отвечает за то, чтобы к осени он был построен. Никаких отговорок мы не примем. Материалы подвезены, ребята с коннопрокатного пункта уже привели в порядок фундамент, теперь только строй!
— А Петер отвечает за постройку маслобойни, — добавил Озол. — Это последние часы, когда вы спокойно воркуете, как голубки. Скоро начнете друг у друга переманивать рабочих, а то — и красть материалы. По вечерам будете сидеть каждый в своей комнате и через стену грозить друг другу прокурором.
— Какими мрачными красками ты изображаешь наше будущее, — Петер сделал кислое лицо. — Тогда уж ничего другого не остается, как начать пить. — Он встал и принес из шкафа две бутылки вина, добавив: — Об этом он сумел смолчать.
Так была отпразднована самая необычная свадьба в волости, но мало кто о ней знал, и поэтому она не вызвала никаких разговоров.
На следующий день к Озолу приехал работник прокуратуры, которому он сообщил о безобразиях в подсобном хозяйстве. Крестьяне жаловались, что некормленая скотина там иногда целыми днями ревет. Проверка показала такую же картину, как в свое время на коннопрокатном пункте. В подсобном хозяйстве разбазарили все до последнего зерна, не оставили даже семян. Было более чем ясно — Калинку ни на один день нельзя оставлять на свободе. Оказалось, что его начальник, руководитель ОРСа, уже арестован за присвоение продуктов, выданных для рабочих. По словам Калинки, он отдавал начальнику без всяких документов половину продуктов подсобного хозяйства, за что тот другую половину оставлял Калинке.
— Ну, наконец-то освободились еще от одного негодяя! — облегченно вздохнул Озол, когда ревизия была окончена и Калинку увели. И сразу же мысли его переключились на другое — скоро начнется весенний сев. Пятилетку нужно начать воплощать в жизнь.
Озол завернул к Лауску. Здесь шла стройка. Лауск с каким-то парнем закреплял стропила, заканчивая новый хлев. Первые венцы он уложил еще прошлой осенью, углы фундамента тоже сделал, остальное забил торфом и мохом, так как на весь фундамент цемента не хватило, не были подвезены и камни.
— Почти на новоселье попал, — пошутил Озол, глядя, как Лауск учит юношу — Эльмара Эзера укреплять концы стропил.
Озолу нравилось слушать стук молотков, эхо которых отдавалось в ближней роще и говорило, что здесь возникает новое — люди строят, продолжают прерванную войной жизнь. Приятно было вдыхать смолистый запах свежеотесанных бревен. Приятно было смотреть на самих людей — они не ропщут на трудности, целесообразно используют каждый старый гвоздь и кусок железа, об этом говорили лежавшие на камне две кучки гвоздей — в одной перемешаны кривые, изогнутые, заржавленные, в другой — аккуратно сложены уже выпрямленные.
Наконец оба плотника спустились вниз и пожали руку гостю.
— Мы с Эльмаром работаем сообща, — рассказывал Лауск. — Договорились трудную работу делать вместе. Он один, я один, а разве в одиночку балку поднимешь. Мой Имант редко приходит домой с машинно-тракторной станции. Говорит, они соревнуются с Эстонией и обязательно должны отремонтировать тракторы раньше эстонцев. К тому же начали пахать, и он ездит учеником. Мне бы парень дома пригодился, но раз уж решил практиковаться, что тут поделаешь. Когда-нибудь будет бригадиром трактористов и, пожалуй, вызовет на соревнование саму Пашу Ангелину.

— Дельный парень, — похвалил Озол. — Выучится на тракториста, вспашет всю волость.
— Так-то оно так, — согласился Лауск. — Но скажу тебе по совести, трудновато приходится одному. Я не привык лентяйничать, мне работа костей не ломит. Но не знаю, день ли слишком короток, или что другое. Только вижу — одна работа другую погоняет. Осенью думал — ну, еще вот этот клочок вспашу. Никак не собрался! Так и замерзла земля невспаханной. Теперь вот — тороплюсь с хлевом, а глаза все на поле глядят. Говорю — оставлю хлев на осень, да жена тормошит: «Знаю я эту осень, опять в подойник дождь капать будет». И верно, не может же скотина стоять в этом наспех сделанном сарайчике, — он показал на жалкую хибарку, которую сколотил еще в довоенную весну.
— И общественные обязанности тоже требуют времени, — заметил Озол.
— В том-то и дело, — подхватил Лауск. — Веришь или нет, но хочется и в книжку заглянуть. Ты сам нам говоришь, что надо учиться, а стоит начать, так уж не оторвешься, нельзя ведь во тьме жить. Дети учатся в школах, и нам, старикам, краснеть приходится, они как бы на другом языке говорят, мы их не понимаем. Эльмар зимой тоже бегал в школу твоей Мирдзы. Иногда прямо из леса. Я говорю: эту сосенку мы еще могли бы свалить. А он — нет, нельзя опаздывать в школу. Все сидит за книгами, видишь, какой бледный стал.
— Ничего, на солнышке порозовеет, — успокоил Озол.
— Вот мы недавно с Эльмаром говорили, — продолжал Лауск, — как-то странно получается. Кое-кто из новохозяев начал батраков нанимать. Я говорю — что ж это, новые господа разведутся.
— Товарищ Озол, — неожиданно вмешался Эльмар, — я уже давно хотел с вами поговорить.
— Почему же молчал? — улыбнулся Озол.
Эльмар растерялся. Видно было, что он не привык разговаривать запросто с людьми, которых считает в чем-либо выше себя. А ведь он хотел говорить не только о себе лично и боялся, что не сумеет как следует высказаться.
— Ну, говори, говори, — подбадривал Озол.
— Я думаю, что пора бы и нам создавать колхозы, — эта фраза пулей сорвалась с губ Эльмара.
— Почему ты так думаешь? — Озол пытливо посмотрел на бледного юношу. Эльмар, сказав это, осмелел и готов был отстаивать свое предложение.
— Иначе земля останется необработанной. Людей маловато. Лошадей тоже не хватает, — доказывал Эльмар.
— Это правильно, — подтвердил Озол. — Но ведь не только поэтому надо создавать колхоз.
Эзер испуганно посмотрел на Озола, видимо, подумав, что тот не хочет его понять. Но раз он уже начал говорить, то не хотел уступать.
— Да ведь Ленин говорил, что при мелком хозяйстве крестьянам из нужды не выбраться.
— Это очень хорошо, что ты читаешь Ленина, — оживился Озол. — Но тогда ты должен также знать, что для создания колхозов необходимо желание крестьян.
— Если бы вы им разъяснили, что в колхозе будет лучше, они пожелают, — настаивал Эльмар.
— Не надо это упрощать, — возразил Озол. — У тебя молодая голова и молодое сердце. Ты сам только получил землю, еще не успел привязаться к своему клочку, еще своей лошади не вырастил. А поговори-ка со старыми крестьянами, тогда узнаешь, как некоторые думают.
— Ты парня не брани, — вмешался Лауск. — Он все это не один придумал. Работая вместе, мы иногда толкуем: быть может, на самом деле легче было бы артелью.
— Само собой, легче, — перебил его Эльмар с жаром. — Тогда все обрабатывали бы машинами.
— Ну, не совсем. По крайней мере, в первое время, пока не все поля вместе, и в колхозе хватило бы работы, — заметил Озол.
— Работа нас не пугает, — сказал Лауск. — Если бы мы рассуждали, как в былые годы, то спокойно копались бы себе в своей земле, потихоньку да помаленьку. Чего в этом году не поспели бы, сделали бы в следующем, постепенно, как наши прадеды новину поднимали. Но нынче — другие времена, и сами мы стали другими, просто смотреть больно, если поле остается невозделанным или сорняком поросло. Идешь мимо, глядеть не хочется. Стыдно смотреть, хотя и не виноват. И тогда мне тоже приходит в голову мысль, что надо нам сообща взяться за эту землю, больше машин и тракторов пустить, тогда мы, право, одолеем ее.
— Конечно, одолеем, — подтвердил Озол. — Только много ли найдется таких, которые рассуждают, как вы?
— Мне кажется, что Гаужен и Мария Перкон тоже были бы согласны, — поторопился сообщить Лауск. — Я как-то раз упомянул. Совсем согласны!
— Маловато, чтобы организовать колхоз, — Озол покачал головой. — Если бы, по крайней мере, дворов пятнадцать согласились, тогда можно говорить. Подумаем еще, обсудим, быть может, удастся. Давайте условимся — вы потолкуйте кое с кем из соседей, и если заинтересуются, то соберетесь все, и я расскажу подробнее о колхозах.
В тот вечер Озол долго не мог уснуть, думая о новом человеке, который рождается и вырастает вместе со своей эпохой. Этот рост происходит незаметно и проявляется не в громких фразах и декларациях, а в простом замечании бывшего батрака Лауска, ставшего теперь хозяином новой жизни: «Больно смотреть, если поле остается невозделанным». Так не сказал бы человек прошлого, живший по поговорке: «Не мой конь, не мой воз». С такими, как Лауск, уже можно строить социализм и в латвийской деревне. Первым шагом является сельскохозяйственная кооперация, крупным значительным шагом, который покажет, что общими силами можно достичь бо́льшего благополучия.
Но люди уже думают о будущем, они начинают догадываться, что раздробленность на мелкие хозяйства является главной помехой в преодолении материальных трудностей и культурной отсталости крестьян. Они даже чувствуют новую опасность — возможное пробуждение собственнических, эксплуататорских стремлений у недавних батраков, у тех, кто почему-либо не может своими силами обрабатывать свою землю и нанимает батрака. Сегодня эти новохозяева считают батраков только помощниками, но постепенно начнут считать своими слугами, стараясь извлечь из них как можно больше пользы; каждый оторванный кусок — выгода, каждый недоданный батраку рубль жалования набивает хозяйский кошелек.
Чтобы ускорить дело восстановления, чтобы пятилетка подняла жизнь на еще большую высоту, нужен хлеб, нужно все, что дает земля, и поэтому она должна давать гораздо больше, чем до сих пор. Эльмар Эзер прав, что рабочих рук не хватает и лошадей мало. В коллективном хозяйстве более тяжелую работу выполняли бы машины, что невозможно на мелких земельных участках. Человек перестал бы быть рабом своего клочка земли и постепенно вырос бы в хозяина больших просторов, повелевающего землей — нынче ты должна мне дать ржи и пшеницы, молока и мяса на столько-то больше, чем в прошлом году.
Борьбу с землей, с природой, борьбу с человеческой психикой, с вкоренившимися в нее в течение столетий отсталостью и рутиной нужно вести одновременно, ибо победу в борьбе со стихией нельзя выиграть без людей, а человека нельзя перестроить без победы над землей и природой, не доказав, чего могут добиться свободный человек и созданные им машины.
Наступила первая годовщина Дня победы. На коннопрокатный пункт стекались люди, чтобы прослушать доклад Озола. Крестьяне еще с зимы привыкли приходить сюда каждое второе воскресенье на вечера и лекции. Помещение оказалось слишком тесным, и пришедшие попозже толпились в дверях зала.
— Зента, строй скорее Народный дом, — смеялась Мирдза, здороваясь с подругой.
— Я уж не знаю, как быть, — жаловалась Зента. — Не могу найти мастеров. Сколько их в волости было, всех прибрал Петер на строительство маслобойни.
— Значит, начинается? — весело пошутила Мирдза.
— Что начинается? — не поняла Зента.
— Начинают сбываться предсказания моего отца на вашей свадьбе. Помнишь?
— Ругаться-то мы еще не ругаемся, но немножко я все же сержусь, у него только и разговоров о своей маслобойне, прямо влюбился в нее. А когда я начинаю о Народном доме, он словно не слышит.
— Давай обставим твоего Петера, — сказала Мирдза с решимостью. — Вызовем его на соревнование и построим первыми.
— Как же построишь, раз не хватает рабочих?
— Построим сами.
— Тебе все шутки, — начала сердиться Зента.
— Что же особенного? Одного плотника найдем в волости. А нет — так заберем у Петера. А в помощники пойдем все: комсомольцы, молодежь — вот увидишь, что и старики не откажутся. Вот те же, что сейчас не могут попасть в зал, — пояснила Мирдза.
Начался доклад. Озол напомнил слушателям о суровых событиях Отечественной войны, о героической победе Советской Армии. Учитель рисования с помощью учеников срисовал с газеты схему боевого пути Советской Армии, наглядно показывавшую, в какой опасности была наша родина и сколько потребовалось самоотверженности, мужества и военного мастерства, чтобы освободить страну и разгромить фашизм в его логове.
От побед на фронте Озол перешел к трудовым победам в первый послевоенный год. Двое школьников вывесили новый плакат, придуманный учителем. На нем были показаны достижения республики в восстановлении народного хозяйства. Учитель в самом деле постарался, ибо за этим последовал плакат с диаграммами пятилетки, но самый большой интерес вызвал последний плакат, относившийся непосредственно к волости.
Здесь был нарисован зелено-желтый квадрат — площадь земли, засеянной в прошлом году, а вокруг него все увеличивающиеся квадраты, показывающие, насколько нужно расширить посевы за пятилетку. Точно так же нарисованные лошади, коровы, овцы и свиньи разной величины наглядно показывали, как увеличится поголовье скота.
В перерыве Мирдза, выйдя в соседнюю комнату, столкнулась с Эриком.
Всю зиму он сидел дома и нигде не показывался, но сегодня пришел на вечер. Мирдза вздрогнула и на мгновение растерялась, не зная, улыбнуться ли ей Эрику, как хорошему знакомому, или же притвориться, что не заметила его. Но Эрик поклонился первым, без улыбки, и Мирдза, быстро ответив ему, нырнула в толпу молодежи. Она почувствовала, что покраснела, и сердилась на себя, что эта встреча испортила ей хорошее настроение. «Краснею и бледнею, словно гимназистка», — ругала она себя. Но Эрик поздоровался так спокойно и сдержанно, словно они когда-то случайно познакомились и больше никогда не встречались.
Зента снова разыскала Мирдзу и предложила воспользоваться тем, что собралось так много народу, — поговорить о постройке Народного дома.
— Ну, что ж, поговори, — согласилась Мирдза.
— Может быть, ты начнешь? — просила Зента. — У тебя лучше получится.
— Ишь какая, любишь кататься, люби и саночки возить, — к Мирдзе вернулось хорошее настроение. — А потом весь почет достанется тебе — в соревновании ты будешь победительницей!
— Нет, Мирдза, бери себе и почет. — Зента была щедрой. — Мы выгравируем твое имя на доске и установим ее в Народном доме над сценой.
— Знаешь, это идея. Я сегодня же оповещу, что имена всех участников строительства будут занесены на доску почета с указанием, сколько каждый отработал дней.
После перерыва должны были начаться выступления. Перед этим на сцену вышел Стасик и от имени рабочих коннопрокатного пункта сообщил, что они уже засеяли свои поля и теперь со всеми лошадьми смогут пойти на помощь новохозяевам.
— Слишком рано, слишком рано! — крикнул кто-то из зала. — Еще могут быть заморозки. Ячмень померзнет.
— Позаботимся, чтобы не померз! — крикнул Казимир в ответ.
— Пиджаками укроете, что ли? — спросил противник раннего сева.
Но этот эпизод все забыли, когда на сцену вышел молодежный квартет, спевший под аккомпанемент аккордеона «Песню о родине». После этого Стасик объявил, что Янина Цекулане прочтет свое стихотворение. Но сцена довольно долго пустовала — ребятам никак не удавалось вытолкнуть Янину. Она сердилась, что Стасик поступил так предательски — обещался не объявлять, кто автор стихотворения, которое она будет читать, но слова не сдержал. Она так разволновалась, что не могла вспомнить первых слов — кому-то пришлось ей подсказать из-за сцены. Зато после заключительных строк:
«Поют соловьи победу,
И ветры о ней шумят…» —
поднялась буря аплодисментов.
Мирдзе, также стоявшей за сценой, казалось, что именно после этого стихотворения уместнее всего говорить о постройке Народного дома. Когда аплодисменты затихли, Стасик объявил:
— Слово имеет комсорг волости Мирдза Озол.
— Еще одна поэтесса! — произнес кто-то вполголоса, но достаточно громко, чтобы Мирдза услыхала. Однако это ее не смутило, она подхватила внезапно осенившую ее мысль и начала:
— Если в старину о поэтах говорили, что они строят воздушные замки, то советские люди в самом деле сооружают дворцы. Нам в волости тоже надо построить себе дворец, но мы назовем его попроще — Народным домом. Это не будет стихотворением, сочиненным в уединении, нам надо будет писать его всем вместе.
И она рассказала о своем замысле — привлечь всех к работе и за лето построить Народный дом.
— Я думаю, вы меня поддержите, особенно те, кому сегодня не хватило мест, — она хотела закончить шуткой, но вдруг горячая волна ударила ей в голову: показалось, будто в дверях стоит человек со шрамом на щеке. Да, он действительно стоял среди тех, кому не хватило мест, и смотрел на нее. Встретившись с нею взглядом, он подбадривающе кивнул.
Со сцены она прошла в зал и хотела сесть на свое место рядом с Зентой, но ее влекло к дверям, словно надо было убедиться, не ошиблась ли.
Упмалис стоял, прислонившись к дверному косяку. Заглядевшись на сцену, он не заметил, как подошла Мирдза. Она положила ему на плечо руку. Он повернулся к ней щекой с розоватым шрамом и, вместо того чтобы поздороваться, молча улыбнулся. Мирдза взяла его за руку и повела в зал. Им пришлось пройти мимо Эрика. Он посмотрел на нее, но лицо его осталось безразличным. Мирдза усадила Упмалиса рядом со своим отцом, сама же осталась без места и хотела уйти, но Упмалис потеснил Озола, Зента подвинулась ближе к Петеру, так на краях двух стульев для Мирдзы освободилось узкое местечко.
— Я сейчас дам тебе слово, — шепнул Озол гостю.
— Не надо. Я уже наговорился досыта, — шутил Упмалис, — читал доклад в соседней волости.
После русского народного танца, исполненного Никой и Асей, на сцену вышел Стасик, чтобы объявить следующий номер программы — выступление ученического хора, но его перебил вставший с места Озол.
— Товарищи, все вы, наверное, помните нашего прошлогоднего гостя в День победы, секретаря уездного комитета комсомола Упмалиса. Попросим его и сегодня сказать нам несколько слов. Слово имеет товарищ Упмалис.
Упмалис поднялся, незаметно погрозив Озолу кулаком. Он не стал подниматься на сцену — у него была привычка говорить с места. Девушки и юноши помнили его и, аплодируя, повскакали со скамеек.
— Я не знал, товарищи, что у вас есть свои поэты, — начал Упмалис с улыбкой. — И такие, которые пишут стихи на бумаге — кровью сердца, разумеется, и такие, которые призывают сочинить целый Народный дом.
Его слова проникали в сердца слушателей. Даже старики улыбались, подняв кверху бородатые лица.
— Я, к сожалению, прозаический человек и поэтому хочу предупредить поэтов, что не следует забывать и о буднях. Если в Народном доме на доске почета будут записаны, — надо полагать, золотыми буквами — имена его строителей, то я приеду и вычеркну тех, чьи имена не будут и на другой доске — доске мастеров высоких урожаев. Согласны?
— Да! Да! — раздалось изо всех углов зала.
Он напомнил об обязанностях комсомольцев и молодежи во время сева, подчеркнул, что недостаточно только засеять — за посевами надо ухаживать, надо бороться с сорняками, и закончил:
— Предлагаю предупредить, что в день открытия Народного дома у входа контролеры будут проверять руки и белоручек туда не впустят.
Начались танцы. Упмалис пригласил Зенту, а Мирдза танцевала с Петером Ванагом. Она увидела, что Эрик танцует с заигрывавшей; с ним хозяйской дочкой Ильзой Рауде. Ильза строила ему глазки и пыталась вовлечь в разговор. «Нет, этого нельзя допустить! — мелькнула у Мирдзы мысль. — Эрик все-таки слишком хорош для такой гусыни». Она извинилась перед Петером и, разыскав Лайму Гаужен, шепнула ей, чтобы та освободила Эрика от Ильзы, как только объявят дамский танец. Лайма так и сделала. Протанцевав с ним, она усадила его рядом с Яниной и познакомила их. После этого Эрик пригласил Янину и танцевал с ней весь вечер.
«Значит, забыл меня, даже не смотрит», — думала Мирдза без той обиды, какую испытывают девушки, когда отвергнутые поклонники не замечают их. Но когда она танцевала с Упмалисом, сама чувствуя, что вся сияет, то заметила брошенный Эриком мимолетный, но многозначительный взгляд и поняла — Эрик ее не забыл, только научился владеть собой. «Показал бы хоть характер!» — вспомнила Мирдза, как она сказала, когда Эрик приезжал свататься, не веря, однако, что он способен показать характер. Но и сознание, что Эрик ее помнит, не очень польстило Мирдзе. Самообладание Эрика вызвало в ней удивление — раньше она в нем этой черты не примечала. Видимо, она появилась недавно.
Когда Мирдза вышла с Упмалисом из зала, где увлекшаяся молодежь уже в третий раз выпрашивала у Ивана «последнюю польку», рассвет над озером оповестил о наступлении рабочего дня.
— Не знаю, как быть, — сказал Упмалис Мирдзе, — хотел переговорить с твоим отцом, но он как-то незаметно ускользнул.
— Должно быть, вспомнил прошлогоднее празднование Дня победы и… Карлена. Поэтому и мать не пришла сегодня на вечер. Пойдем к нам. Отец, наверное, уже встал.
— Мы ведь можем поехать, — Упмалис принял приглашение, — мой старый «виллис» тоже хочет потанцевать.
По пути они видели, как в сером рассвете по полям уже ходили пахари. Старикашка, кричавший, что сеять «слишком рано», с лукошком вышел из дома.
— Даже неудобно, что так долго прогуляли, — призналась Мирдза.
— Да, куда ни посмотришь — всюду борьба за пятилетку. Но для того чтобы строить, сеять и добиваться урожаев, нужно и веселье, нужно сознание общности, — ответил Упмалис, глядя вперед.
26
БОРЬБА ЗА ХЛЕБ
Направляясь в город, Озол заехал на заготовительный пункт, чтобы воочию убедиться, как заведующий приготовился к приемке осеннего урожая. Крестьяне еще летом рассказывали: там что-то строят и теперь не повторится прошлогодняя история, когда зерно чуть не пришлось ссыпать на землю. Еще издали сверкал на солнце белый дощатый сарай, на крыше хлопотали люди. У постройки Озол встретил и самого заведующего, с которым поругался в прошлом году.
— Все-таки не доверяете? — улыбаясь, крикнул он Озолу. — Решили проверить?
— Вы ведь знаете, у крестьянина такая натура — верит только тому, что пощупал, — шутливо ответил Озол.
— Второй раз получить взбучку не хочется, — признался заведующий. — Досталось мне тогда от товарища Рендниека. Я еще зимой заготовил материалы и вон сколько уже успел.
— Значит, нечего горевать, осталось только крышу покрыть, — радовался Озол. — Очень облегчили вы мою работу этой осенью. Не придется, как в прошлом году, выслушивать насмешки врагов и возмущение друзей.
— Будут новые трудности, — вздохнул заведующий. — Наверное, слышали — в хлебородных областях Союза неурожай. Все выгорело от засухи.
Озола эта весть взволновала. Он даже съежился, словно от удара. С трудом сказав заведующему несколько слов, он сел на повозку и уехал.
Неурожай… Новый враг напал на пострадавшую от войны страну. И как раз теперь, когда советские люди с воодушевлением начали осуществлять первую послевоенную пятилетку!
«Но, может быть, это не так уж страшно? Возможно, преувеличивают в разговорах?» — Озол пытался успокоить себя, но тяжесть сдавила его сердце.
У Рендниека было очень озабоченное лицо. Всем своим видом он как бы подтверждал слышанную весть, которой так не хотелось верить. Старые боевые друзья некоторое время молчали, без слов понимая, что впереди новая борьба — борьба за хлеб.
— Ты выглядишь озабоченным, — начал Рендниек, указывая на стул. — Наверное, тебе уже известно.
— Только приблизительно, — ответил Озол. — Значит, это правда?
— Да, — подтвердил Рендниек. — Украину, Кубань, одним словом, наши житницы поразила засуха. В этом году у нас будут большие трудности. И не только у нас. И в Англии, и во Франции, и на Балканах. А американские миллионеры ликуют. Потирают руки: купят, мол, теперь Европу.
Озол поник на стуле.
— Не вешай голову! — сказал Рендниек почти сердито. — Разве большевики чего-нибудь пугались!
— Я не отчаиваюсь и не думаю, что мы не справимся, — ответил Озол, — но сердце болит.
— Это правильно, оно не может не болеть, — Рендниек провел ладонью по лицу. — Но мы не поддадимся горю ни на минуту. Надо начать борьбу за хлеб. Немедленно. Завтра-послезавтра начнется уборка урожая, в некоторых волостях уже жнут рожь. Твоя задача организовать работу так, чтобы всюду было сжато вовремя, чтобы не пропало ни одного зерна. Детей, школьников нужно привлечь к собиранию колосьев. Жнейки не должны стоять ни одного часа. Ты встретишься вот еще с какими трудностями, — продолжал Рендниек. — Когда кулаки узнают о неурожае, они попытаются припрятать хлеб. Особенно трудно будет выжать из них что-нибудь сверх нормы — предвидится, что и это будет необходимо. Тут мягкотелость будет неуместна.
— Сказать крестьянам всю правду? — спросил Озол, подумав о своей волости.
— Разумеется. Народу надо всегда говорить правду. Неурожай — это несчастье, а не позор. Подготовь вовремя своих активистов, расставь партийцев на боевые посты. Сколько их у тебя?
— Без меня — четверо, и три кандидата.
— Немного, — заметил Рендниек.
— Зато все они проверенные люди, — оправдывался Озол.
— Вот это хорошо. Нельзя так, как делал Целминь. Директивы партии он истолковывал превратно и принимал кого попало. С его Лерумом получился настоящий скандал, — начал рассказывать Рендниек. — У них уже в третий раз обкрадывают маслобойню. Перед каждой ревизией — кража. После того, разумеется, составляется акт — украдено столько-то; председатель правления — шурин Лерума — подписывает, и все в порядке. Но вот стало известно, что рижские родственники Лерума часто продают на базаре масло с маслодельного завода и сыр. Кадикис послал в волость одного из своих ребят, и третьего дня воров накрыли. Заведующий вместе с Лерумом систематически крали, а перед ревизиями симулировали «кражу». Целминь, правда, уехал на учебу, но выговор он все равно получит. Такой Лерум позорит партию.
— Мне с тобой вот еще о чем нужно поговорить, — Озол не спешил уходить. — Некоторые новохозяева предлагают организовать колхоз. Я уже провел несколько бесед.
— А что думают старые хозяева? — сразу спросил Рендниек.
— Сомневаются еще, — ответил Озол.
— Спасибо за откровенность. А то Целминь мне в свое время докладывал, что у него все обеими руками за колхоз, — усмехнулся Рендниек. — Вообразил, что путем администрирования можно коллективизировать. Думал, что разъяснительная работа ни к чему, достаточно дать команду. Я спросил его, не будут ли крестьяне против. А он отвечает: «В волости восемьдесят процентов кулаков, те, конечно, будут сопротивляться». «Так кого же ты собираешься вовлекать в колхоз, кулаков, что ли? — спросил я. — Кулакам вообще в колхозе не место». Видимо, слышал краем уха что-то о преимуществах коллективного хозяйства и захотел выслужиться — первым организовать колхоз.
— А что мне делать дальше?
— Говори с людьми, разъясняй им постепенно, терпеливо. Если организуете артель, государство поможет машинами, минеральными удобрениями. Я сам тоже съезжу поговорить с крестьянами.
— Будем ждать тебя, — Озол простился и направился в свою волость, чтобы начать борьбу за хлеб.
По приезде он собрал членов партии, кандидатов и комсомольцев, рассказал им о стихийном бедствии, постигшем страну, и наметил план работы. Партийцев прикрепили к сельсоветам, кандидатов и комсомольцев — к десятидворкам.
Мирдза вспомнила опыт позапрошлого года и предложила прибегнуть к взаимопомощи. Людям той или иной десятидворки организоваться в бригады, вместе использовать лошадей и машины и помочь друг другу убрать поля.
— Ничего иного мы, пожалуй, и не придумаем, — сказал Лауск.
— Но Густ Дудум с этим не согласится, — усмехнулся Гаужен.
— Как будто станем у него спрашивать! Чтоб ему скиснуть! — пожелала Мирдза.
Весть о засухе люди приняли по-разному. После волостного собрания, на котором Озол разъяснил важность своевременной уборки урожая, старый Пакалн тяжело вздохнул и стал вспоминать ту пору, когда поля Латвии также поразил недород. Он рассказал, как, посадив десять пур картофеля, накопал только пять, да и тот не годился ни самим в пищу, ни на семена — мелкий, как горох, и червивый. Следующей весной объездил несколько волостей в поисках картофеля на семена и выклянчил одну корзинку. Вспомнил также, что еще совсем недавно, при Ульманисе, в Латгалии затопило поля и детей увозили в Видземе и Земгале, чтобы не умерли с голоду. Пакалны тоже взяли мальчика и девочку, но зимой за ними приехали родители — ксендз грозил проклясть, если оставят детей у «нехристей». Пусть лучше дети с голоду помирают, тогда в царствие небесное попадут, но нельзя позволить, чтобы лютеране оскверняли их. Ну, что поделаешь такому попу? Сам отъелся, круглый, как бочка, какое ему дело до чужого ребенка? Видимо, боялся потерять кого-нибудь из паствы, меньше будут яичек приносить. Потом узнали, что мальчонка с голоду опух и помер. Прямо плакать хотелось — такой славный парнишка, работящий, послушный, в школу начал было ходить здесь же, в местечке, но погубил его этот католик.
— В таких случаях надо обязательно друг другу помогать, — закончил Пакалн свои воспоминания.
Густ Дудум, услышав о неурожае, усмехнулся, — впервые после замужества Зенты. Вернее говоря, он зло оскалил зубы, так как уже давно разучился по-людски смеяться.
Когда Думинь приехал домой и рассказал Ирме о том, что говорилось на собрании, та, немного подумав, заключила:
— Значит, хлеб в эту зиму в цене будет!
— Да… — пробурчал «сам».
— Рожь да пшеницу надо беречь.
— Да, уж свиньям скармливать не будем.
— Что там свиньям… Власть потребует, — сказала Ирма. «Сам» ничего не ответил.
— Я думаю, что ржи надо будет сдать только несколько пур, — продолжала Ирма. — Пусть берут овес. Чем он плох? Из овса тоже крупу делают, и лошадей кормить можно.
— Они с этим не согласятся. Потребуют рожь, — проворчал Думинь.
Наступило молчание.
— А если мы скажем, что ржи нет? — рассуждала Ирма.
— Не поверят. Будут стоять у машины и взвешивать.
— А если мы возьмем, Петер, да обмолотим украдкой? В сарае. Пусть остатки машиной молотят. Скажем, что рожь у нас в поле осыпалась. Нам, мол, эти ваши бригады не помогли, много ли своими силами уберешь. Ты — инвалид, у меня дети на шее, да еще Алвите лошадью и машиной помогли.
— Можно и так, — согласился Думинь.
— Нет, на самом деле, — подбодряла Ирма. — Разве не сумеем по ночам обмолотить? Поднимем и Алвите. Этих, пожалуй, нельзя звать, — она кивнула в сторону людской, где жили «постояльцы». — Они-то еще ничего, а вот девчонке я не доверяю. Начала якшаться с Мирдзой Озол.
— Но как провеем? — усомнился Думинь.
— Уж как-нибудь, — успокоила Ирма. — Когда девчонка эта уйдет на танцульку. Ведь для базара невесть какой чистый хлеб не нужен.
На следующий день началась жатва. На каждом поле собиралось по десять — пятнадцать человек с несколькими жнейками. Десятидворка, к которой была прикреплена Мирдза, вызвала на соревнование бригаду Эльмара Эзера, и никто из них не хотел уступать. Мирдза уже было сочинила частушки, в которых высмеивалась отставшая бригада Эзера, но обе бригады закончили работу в один и тот же день, и спеть частушки так и не пришлось.
К Озолу, словно в штаб, поступали сводки об уборочных работах. Сельсоветы также соревновались между собой, хозяйства, к которым: был прикреплен Лауск, наверняка победили бы, но подвел Густ Дудум. Большую часть ржи он сжал, но все же около полпурвиеты оставалось на корню, не помогали никакие напоминания.

— Как это ты, сосед, позволяешь хлебу осыпаться? — спросил Лауск, зайдя к Густу.
— Это мой хлеб, а не твой, — резко ответил Дудум.
— Пусть и твой, но разве поэтому ему надо
пропадать? — спокойно ответил Лауск вопросом. — У меня, постороннего человека, и то сердце ноет, как же ты сам можешь на это смотреть? Я позову бригаду — разом все будет в скирдах.
— Никого ты не позовешь, и никому на моем поле не позволю распоряжаться, — закричал Густ, рассердившись. — Тебе захотелось почестей добиться твоими большевистскими соревнованиями? Хочешь, чтобы о тебе в газете написали?
— Ты смотри, Дудум, как бы о тебе в газете не написали, — ответил Лауск сдержанно, но строго. — Придется еще бумагу изводить, на такого, человека, как ты.
— Не боюсь! — куражился Густ.
— Баран в лесу тоже хвалился, что волк ему не страшен, но, когда волк спросил его: «Ты что сказал?» — так у того сразу душа в пятки, — усмехнулся Лауск. — Так и с тобой, Густ. Надолго ли хватит твоей смелости? Я тебе вот что скажу — или ты завтра уберешь перезревшую рожь, или мы будем считать ее бесхозной и зачислим в государственный фонд, — сказал Лауск, сам сомневаясь, правильно ли поступил он, следовало ли так говорить. Но слишком он был зол на. Густа. Государству каждое зерно дорого, а этот, словно издеваясь, оставляет рожь несжатой! Пусть самому убыток, лишь бы другим напакостить.
Рожь Густ все же убрал, но точно так же заупрямился при молотьбе. Гаужен разработал точный маршрут для молотилок и заблаговременно, через сельсоветы, сообщал каждому хозяину, к какому дню он должен быть готов к молотьбе. Когда комсомольцы зашли к Густу предупредить, он ответил, что еще не перевез хлеб с поля и завтра молотить не будет. Машина проехала мимо усадьбы Густа, но в тот же день батраки Густа быстро переправили рожь и пшеницу в сарай. Вечером он позвал работников к себе, поставил на стол бутылку водки и после нескольких рюмок начал:
— Вы знаете, что в этом году в России страшный голод?
— Да, говорят, засуха, — ответил старший батрак.
— Да какая еще! Если они сами не скрывают — значит, не на шутку погорело, — Густ от удовольствия пошевелил усами и наполнил рюмки.
— Да, пришла беда, не сказавшись, — вздохнул батрак.
— Поэтому мы должны быть поумнее, а то и нас несчастье постигнет. За ваше здоровье! — Густ чокнулся.
— У нас урожай неплохой. Пусть и не очень богатый, но все же неплохой.
— В том-то и дело. И знаете, что теперь будет? Латвию заставят кормить всю большую русскую страну! — важно сказал Густ, стукнув рюмкой о стол.
— Ну, куда там! Хорошо, если нам самим хватит, — сомневался батрак.
— Ты увидишь, что так будет! За ваше здоровье! — снова чокнулся Густ. — Поэтому я думаю вот что: я — латыш, и вы — латыши, нам, латышам, надо держаться вместе. Пей, Екаб! Руди, пей! — подбодрял он.
— Мы, латыши, еще хотим жить, — продолжал Густ, опрокинув рюмку. — Вот мы и сговоримся и не дадим ничего большевикам. Не дадим! Умники нашлись — будут мне указывать, когда молотить. Да разве я не знаю, что у них за машинами эти молокососы, комиссары ходят! Каждое зерно записывают. А потом, будь добр, отвози им все! А что я весь год есть буду и из чего я вам уплачу? Это их не касается. Мы вот что сделаем — обмолотим бо́льшую часть цепами, и пусть ищут-свищут. Нет у меня больше — и все. Мне-то одному много не надо, но чем я вам заплачу? Раз обещал платить натурой — слово надо сдержать! Пусть меня сажают в тюрьму, пусть ссылают! — Густу хотелось выдавить слезу, но это ему не удалось.
— Да что говорить, хозяин! — успокаивал Екаб. — Свою долю можем обмолотить и цепами, мука посуше будет. А вам в тюрьму лезть незачем! На полях Дудумов всегда родилось. Моя старуха не зря говорит: «У хозяина нашего, наверно, сами ангелы поля удобряют, даже в этом году такие колосья, что солома ломится». Вы поставки сдадите шутя.
Екаб говорил это, желая утешить хозяина и угодить ему, но Густу вовсе не по душе были такие речи. Ему бы нравилось, если бы батрак скулил вместе с ним, что угрожает голод, что надо хлеб попрятать.
— Пей, Екаб! — он сердито налил рюмки. — Пей и молчи! Латыши должны держаться вместе. За обмолот цепами вам добавлю. Для латыша мне не жаль, а этим большевикам — кукиш! Выпейте еще, а утречком, затемно, насадим ригу.
Думини также отказались от молотилки. Когда машина приближалась к их двору, Ирма выбежала навстречу и, размахивая руками, закричала:
— Не заезжайте, не заезжайте! У нас еще не свезено.
— А почему не свезли? — резко спросил Эльмар Эзер, сопровождавший молотилку.
— Ну, не смогли. Хозяин накрыл скирды слишком толстыми шапками, не высохло, — озабоченно объяснила Ирма, — Поезжайте к другим, у кого свезено, мы еще не готовы.
Что ж поделаешь? Раз не перевезен хлеб — молотить нельзя. И машина уехала, не завернув в «Думини». Вечером Ирма сказала мужу:
— Ну, рожь совсем сухая. Начнем?
— Как будто можно.
В темноте они вышли в поле, каждый нес по охапке мешков. Подойдя к скирдам, они снимали покрышки, засовывали колосья в мешки и колотили по ним деревянными вальками. После полуночи, когда мешки были полны, Думинь сходил за лошадью, отвез зерно домой и укрыл на гумне. Утром неблагонадежную батрачку Майю отослали пасти скот и за это время провеяли рожь. Когда накопилось около двадцати пур высушенного в риге зерна, отец Майи выкопал за погребом, в желтом песке, яму, выложил ее досками, и туда опустили мешки.
После этого снова молотили в поле и в риге, веяли и сушили хлеб, копали и наполняли им все новые ямы, пока Думинь не сказал:
— Ну, хватит. Надо и меру знать. Теперь можно звать с машиной.
Когда прибыла молотилка, все удивлялись, почему это у Думиней такой низкий умолот. Машинист разглядывал обмолоченные колосья, не остаются ли там зерна, и ничего не мог понять — пустые, даже голодной мышке тут нечем было поживиться. После этого они принялись за необмолоченные снопы и в недоумении только головами покачивали — какая у Думиней скудная рожь.
— В этом году нам так не повезло, так не повезло, — причитала Ирма, вертясь около машины. — Во время цветения ржи выпал дождь, и она совсем не успела опылиться. А когда жали — осыпалось остальное. Сколько беды нам эта война наделала! Самому ногу оторвало! Такой он теперь работник, потому все и пропадает. Другим исполком помогает, даже таким, кто совсем не пострадал, а на нас взъелись за то, что раньше земли имели немного больше других. Что тут государству сдавать, что сами будем есть? Придется детям торбу на шею повесить, пусть идут побираться.
— Ирма, Ирма, не греши! — воскликнула Балдиниете, выгребавшая из-под машины мякину. — Если тебе в жизни какую-нибудь торбу и приходилось носить, то это — бремя чрезмерного богатства.
— Тебе хорошо говорить, — жалобно ответила Ирма, — русские мальчишки даром скот пасут, сын тоже вернулся. Только что дом сгорел, а земля вся цела, ничего не отобрали, как у нас.
— Не пойму, Ирма, глупая ты или только прикидываешься, разумный человек не стал бы так говорить, — ответила Балдиниете и замолчала. Ирма, видимо, поняла, что этими разговорами у соседей сочувствия не вызовет, и быстро убралась на кухню.
Когда молотьба подходила к концу, в «Думини» прибыла грузовая автомашина кооператива, на которой этой осенью перевозили зерно на ссыпной пункт. На машине приехал агент по заготовкам Лайвинь.
— Ну, хозяин, вам ведь трудновато возить — лошадь убило, сами хромаете, вот приехали подсобить.
Из кухни сейчас же выскочила Думиниете и принялась подмигивать Лайвиню, приглашая зайти в дом, но агент сделал вид, что не замечает, желая высказать при свидетелях все, что у него накопилось на душе.
— Посмотрите, как мало мы нынче намолотили, — Ирма повела Лайвиня и парторга в клеть. — Нельзя ли нам в этом году вместо ржи сдать овес? Хотя бы ради детей оставьте нам немного хлеба.
— У вас как будто градом рожь не побило и другого ничего не случилось? — спросил Лайвинь.
— Ах, боже, что же мы можем сделать, если не уродилось? — Ирма уже собиралась всплакнуть. — Семена тоже нужны, что же вы в будущем году возьмете, если в этом не засеем. Неужто нельзя овсом?
— Не можем. Рабочим нужен хлеб, — твердо сказал Озол.
— Ну, берите, берите все, разоряйте нас, раз у вас нет сердца в груди! — наконец Ирме удалось выдавить слезу.
— Хозяюшка, не тратьте понапрасну слез! А то не хватит их, когда в самом деле надо будет плакать, — подтрунивал Лайвинь. — Лучше сдавайте свою норму, иначе получится, как у хозяина «Дудумов». У него в этом году тоже не уродилось, но когда мы хотели поковырять вилами подсохшие бугорки возле гумна, то стал божиться, что «займет» у соседей и завтра же все сдаст.
— Ну уж берите, берите кровь нашу, — услышав о Густе, Ирма насторожилась и стала более сговорчивой.
Хлеб взвесили, но не оказалось и половины нужного количества.
— Остальное придется «занять» и в течение десяти дней свезти самим на пункт, — сказал Лайвинь.
После этого Ирма весь вечер не переставала причитать:
— Видели, как клеть вымели! Даже семян не оставили. Ах, боже мой, боже мой!
Комсомольцы так были заняты жатвой и молотьбой, что на некоторое время вовсе забыли о постройке Народного дама. Плотники начали ворчать: обещанные помощники поработали немного и разошлись, а одни они тут многого не сделают. Если так, то лучше перейти на маслодельный завод, там можно больше заработать. Зента долго искала Мирдзу, пока не нашла ее среди участников толоки во дворе Гаужена.
— Я пришла с тобой ругаться, — заявила Зента.
— У тебя теперь для ругани есть Петер, — попыталась отшутиться Мирдза.
— Его еще труднее поймать, чем тебя… Я понимаю, уборка урожая на первом месте, но ведь нельзя забывать и о Народном доме. Так мы его и в три года не построим, другой работы всегда хватит.
— Ты же видишь — дел по горло, — Мирдза очертила рукой широкую дугу, указывая на молотильщиков, у которых на запыленных лицах сверкали только зубы да белки глаз. — Машина работает день и ночь, мы разбились на две смены.
— И все-таки Народный дом нужно построить, — не уступала Зента. — Помнишь, мы условились встречать Октябрьский праздник в новом доме? Как раз позавчера звонил Упмалис, интересовался, как идут дела. Я пока не сказала, что на строительных работах застой. А он обещался в праздник приехать на открытие. Перед отъездом в Москву хочет потанцевать Ты ведь знаешь, он любит пошутить.
— Упмалис собирается в Москву? — переспросила Мирдза. — В командировку?
— Нет, учиться. На три года.
Мирдзу эта весть взволновала… Вот люди могут уезжать, могут учиться… Ей хотелось пороптать на жизнь, но она одернула себя. Нет, она не завидовала Упмалису, он заслужил три года учебы. Он сторицей отдаст другим, что получит сам. Нет, нет, не зависть, а то, что Упмалиса больше не будет в уезде и кто знает, вернется ли он когда-нибудь, не заберут ли его в Ригу, — вот что ее не только взволновало, но даже расстроило.
— Что ты такая странная? Влюбилась, что ли? — улыбнулась Зента.
— Я люблю товарища Упмалиса так же, как и ты, и все наши комсомольцы, — задумчиво ответила Мирдза. — Тебе не кажется, что его заберут у нас? После учебы его могут послать на другую работу.
— Нечего загадывать, — успокаивала Зента. — Но как же быть? Неужели я окажусь перед ним обманщицей? Пообещала Народный дом, он приедет, а мы так и будем тесниться на коннопрокатном пункте. Люди хотят посещать вечера, а мест не хватает. Кончится тем, что многие перестанут ходить.
— Ты, Зента, говоришь так, словно меня нужно убеждать. За Народный дом я не меньше тебя болею. Но ведь каждому та работа, которую он сейчас делает, кажется самой важной. Я еще не такой командир, чтобы сразу охватить весь фронт, — Мирдза говорила серьезно. — И очень хорошо, что ты напомнила. Впредь будем выделять для стройки по пять человек. Хватит?
— Вполне. Если в этом году мы закончим первый этаж — и то жить можно, — радовалась Зента и ушла довольная: если Мирдза обещала, то сделает.
Мирдза вернулась к молотилке и стала подхватывать на вилы большие охапки соломы и подавать на омет. Весть о том, что Упмалис надолго уезжает учиться, странно повлияла на нее. Руки поднимались машинально, гул молотилки она слышала откуда-то издалека, и ей казалось, что это грохочет не молотилка, а поезд, в котором она сама едет в Москву. Острее, чем когда-либо, она ощутила жажду учиться, читать, впитывать в себя все, что могут дать театры, музеи, картинные галереи.
Что она видела до сих пор, чему научилась? Трехгодичный курс средней школы она прошла с пробелами, физических и химических кабинетов здесь не было, английскому языку она научилась по самоучителю. Что еще? Историю партии слушала в местной политической школе. Но даже отец, читавший курс, говорил, что ни его преподавательские способности, ни состав слушателей, ни время не позволили изучить вопросы истории достаточно основательно и глубоко. Что она читала? Пока только книги, вышедшие на латышском языке. Русским языком она занималась очень серьезно и, видимо, знает уже больше выпускников средней школы, которые проходят курс по учебникам для семилетки. Но вот отец рассказывает, что он овладел русским языком, читая классиков, прибегая к помощи словарей. А у нее даже словаря нет. В этом году она порядком помучила и отца, и Салениека, приставая к ним с предлинными списками незнакомых ей слов.
Все то, чему она научилась и что прочла до сих пор, казалось ей лишь каплей, разжигающей еще большую жажду. Кем она станет? Кем хочет быть? Впервые этот вопрос возник перед ней так остро и настойчиво. Ей нравится комсомольская работа, но не вечно же она будет молода, подрастут другие и сменят ее. И кем она будет после этого? Какое место займет в жизни? Выйдет замуж и будет жить только для своей семьи? Нет, этого недостаточно, но, чтобы требовать большего, надо знать, что именно хочешь, на что ты способна и к чему следует готовиться. Стать ученой? Нет, из нее ученая не получится, ее не влечет к какой-либо определенной отрасли науки, а универсальных ученых не бывает. Стать художницей? Но у нее нет никакого таланта, даже воображаемого, как у некоторых молодых людей, которые чем-то увлекаются и кому-то подражают. Стать общественным деятелем? Но для этого прежде всего нужно получить всестороннее образование. Добьется ли она когда-нибудь его? Курс средней школы она кончит, на это у нее сил и выдержки хватит. А потом?.. «Мне этого мало, мало!» — хотелось кричать Мирдзе. «Ну ладно, — сказала она себе, — допустим, что уездный комитет комсомола пошлет меня в какую-нибудь высшую политическую школу. Можно самой об этом попросить. А затем?» Если ее возьмут на работу в город, будет ли это интереснее, чем работа в волости? Конечно, там у нее был бы совсем другой размах. Но жаль оставить свою волость, людей, с которыми свыклась и вместе с которыми в течение двух последних лет строила новую жизнь. Работа здесь только начата, ее надо расширить и углубить. Она, Мирдза, нужна волости и не может уйти от своей молодежи, доверяющей ей, как другу. Хочется увлечь ребят учебой, пробудить в них стремление к росту. Вот какими она видит свою теперешнюю жизнь и будущее. Но чувства стремительно рвутся вперед, им нет никакого дела до логики; они рвутся в Москву, в школу, где будет учиться Упмалис. Голос рассудка пытается подсказать — ты еще не созрела для этого, не заслужила своей работой такой награды и поэтому должна остаться на месте, хотя и… Сдвинув брови, она спрашивает себя — что «хотя и»? И сейчас же отвечает — хотя и Упмалис уезжает. Как глупо Зента давеча пошутила. Мирдза начинает сердиться. Она влюбилась в Упмалиса? В Упмалиса нельзя влюбиться, его можно по-настоящему любить. И когда она сравнивает свою прежнюю влюбленность в Эрика с чувствами к Упмалису, то не находит ничего общего. Мир влюбленных людей становится узким, он ограничивается кругом, в котором только два человека — ты и я. Это она где-то вычитала и нечто похожее пережила сама, во всяком случае в то время, когда «почтовая барышня» уничтожала ее и Эрика письма. Тогда мысли ее, о чем бы она ни думала, всегда метались внутри замкнутого круга и бились в нем, как запертые в клетку птицы.
Об Упмалисе она размышляла по-другому. Как бы строго ни присматривалась к себе и ни допрашивала себя, она не могла себе представить, чтобы Упмалис говорил только с ней, танцевал только с ней, думал только о ней. Даже тогда, если… если бы он думал только о ней одной, ну, хорошо, себе можно признаться, если бы любил только ее так же, как и она… Нет, нет, нет, этого не может быть! Даже тогда он прежде всего принадлежал бы не ей одной. Даже в воображении она не допускает, что любовь может ограничить Упмалиса и что он, подобно Эрику, может понимать любовь, как уединение в своем доме, в своей семье, что он может забыть окружающий мир.
Размышления Мирдзы были прерваны громкими радостными восклицаниями. Кого-то приветствовали. Даже машина минуту стучала вхолостую, так как молотильщики забыли свои обязанности. Мирдза оглянулась и увидела Эрика — он улыбался.
Но ведь не его же так встретили? То был какой-то другой парень; когда люди расступились, она узнала брата Эрика, Яна Лидума — мать с зимы оплакивала его, как погибшего, полагаясь на предсказания гадалки. Об этом знала вся волость, и многие матери, не знавшие, где их сыновья, сердились на Озола и Канепа за то, что те арестовали мудрую гадалку, которая «умела» показать их сыночков живыми или мертвыми.
— Значит, воскрес из мертвых? — раздался голос Гаужена.
— Воскрес! Одно плохо — родную мать своим появлением насмерть перепугал, — смеялся Ян, здороваясь со всеми.
Эрик приветствовал Мирдзу издали и, взяв вилы, сменил одного из подавальщиков соломы.
«Что думает обо мне Эрик?» — старалась угадать Мирдза, время от времени исподтишка поглядывая на Эрика. Но все же надо бы как-нибудь с ним поговорить по-товарищески, пусть не чувствует себя изолированным от молодежи. Он стал каким-то сдержанным, серьезным, и если она хочет быть откровенной с собой, то должна признать, что новый Эрик ей больше нравится. Черты его лица стали более энергичными, сам он выглядит взрослее. «Что в нем произошло за это время? Перелом? В какую сторону?» — гадала Мирдза и не могла найти ответа.
И у нее возник другой вопрос — правильно ли она поступила, так резко оттолкнув Эрика? Когда начался между ними разрыв? Да в то самое мгновение, когда она признала, что Эрик не герой. Отец и Упмалис доказали, что она несправедлива; рассудком Мирдза и сама это сознавала. И все же разрыв начался именно в тот день. А потом при каждой встрече пропасть между ними увеличивалась по вине Эрика, потому что он хотел, чтобы его жену ничего не интересовало, кроме их дома.
И как странно. Не будь это Эрик, а другой юноша, безразличный ей, она просто поговорила бы с ним и доказала, как неправильно отставать от времени, держаться устарелых взглядов матери и портить себе жизнь. Возможно, если бы Эрик после этого трагикомического сватовства попытался хоть раз поговорить с нею, признался бы в своей ошибке и захотел идти с нею в ногу, да, тогда их отношения, может быть, стали бы другими. Теперь она уже признает, что была несправедлива к Эрику. Но все-таки не может заставить себя любить его, потому что не может себе представить любовь без дружбы, без полной гармонии во взглядах, в образе жизни и даже в мышлении — когда люди понимают друг друга без слов. Вот это ей было неясно два года назад, когда оторванность от людей, без которых она теперь не может жить, толкнула ее к Эрику.
Пронзительный гудок оборвал размышления Мирдзы. Машинист известил, что последняя охапка хлеба пущена в молотилку. Участники толоки заторопились убрать зерно, солому и мякину, чтобы после этого собраться за общим столом. Возвращаясь из сельсовета, в усадьбу «Гаужены» завернули и Ванаг с Лайвинем. Их также усадили за стол, хотя они отшучивались, что не заработали права на угощение.
— В самом деле — не хочется есть, — отказывался Ванаг. — Так умаялся с Густом Дудумом, кажется, что с медведем бороться легче.
— Что же еще Густ выкинул? — заинтересовались со всех сторон.
— Наша волость завтра могла выйти на первое место по уезду, а по республике — сразу же за дрейлинцами, но вот — семь кулаков заупрямились, как козлы, и не везут хлеб сдавать, — рассказывал Ванаг. — Им, видите ли, не к спеху, у них еще хватит времени до нового года. Я заинтересовался, почему они одно и то же, как «Отче наш», твердят. Наконец выяснил, что главный-то наставник у них — Густ.
— Совсем обнаглел, — возмущался Озол.
— Как только я об этом узнал, мы с Лайвинем пошли к Дудуму, — продолжал Ванаг. — Он посмотрел на нас свирепо, как старый волк. Ему нет никакого дела до нашего соревнования с Литвой и с соседними волостями. Он этого соревнования не подписывал, и пусть его оставляют в покое.
— И что ты ему сказал? — спросил Озол.
— Я не знаю, правильно ли, — немного замялся Ванаг, — я сказал ему — не будешь ты рад, если оставим тебя в покое. Оставим в покое с минеральными удобрениями, с солью, с подковами, со всем, что не растет в твоем хозяйстве. Воздвигнем ограду вокруг твоей усадьбы, живи тогда один, как барсук в своей норе. Раз тебе люди не нужны, то и они обойдутся без тебя.
— А что Густ?
— Забрыкался. Такой злой, каждое слово точно выплевывал. Он, мол, лояльный гражданин, государству не должен ни грамма, но зачем ему сдавать до срока? Я спрашиваю: почему не можешь сдать? Все обмолочено? Все. Общественная машина помогла, вовремя обмолотила. Зачем соседей подводит?
— Он сказал — наплевать мне на этих нищих, — вставил Лайвинь.
— Ну, знаете, такого не грех бы завести в лес, спустить штаны и отхлестать можжевеловой веткой! — рассердился уполномоченный десятидворки Акментынь.
— Я говорю, — продолжал Ванаг, — ладно, созовем собрание, пусть волость решает, как поступить с такими, которые плюют на общественность. Как решит, так и будет.
— Тут он заорал, что подаст на нас в суд за угрозы, — торопился Лайвинь.
— Еще упрячет вас в тюрьму, — засмеялся Гаужен.
— Я ответил: хорошо, обращайся в суд. Тогда да конца раскроется, как ты якшался с немцами и поносил большевиков, — закончил Ванаг.
— Так, значит, он в суд подавать будет? — интересовался Гаужен.
— Как только Ванаг это сказал, у волка сразу же спесь спала, — усмехнулся Лайвинь, — сразу залебезил: пусть заезжает машина, он готов сдать. Мы ему еще велели сказать это и остальным кулакам.
— Когда мы от него вышли, я почувствовал, что у меня спина мокрая, — Ванаг покачал головой.
Эльмар Эзер начал вдруг беспокойно ворочаться на скамье и как бы считать глазами участников толоки.
— Все, Эльмар, никто не ушел отсюда не пообедав? — засмеявшись, спросила Мирдза.
— Почти все, — серьезно ответил Эльмар.
— Я думаю, что нам в самый раз сейчас потолковать начистоту, — обратился он внезапно ко всем.
— О чем же?
— Что мы — и в следующем году будем надрываться в поле каждый в отдельности? Пора бы нам объединиться в артель, — высказал парень свою наболевшую мысль.
Если бы этот вопрос был поставлен впервые, то, наверное, кое-кого испугал бы, но у Гаужена сидели люди, с которыми Озол уже неоднократно говорил о преимуществах артели, о колхозных порядках, об организации труда и его оплате. И все же от неожиданного вопроса все замолчали.
— Что ж, потолкуйте, потолкуйте, — сказал Озол, собираясь на этот раз больше слушать, чем говорить. Здесь — не собрание, и люди, увлеченные общей работой, будут откровеннее.
— Не знаю, как остальные, — медленно начал Акментынь, — но я за это время всякое передумал. Верно, привыкли мы в одиночку тягаться с землей, но до каких же пор? Когда-нибудь да не хватит сил. А молодые хотят жить по-иному. Вот и мой сын — собирается в город уходить. Там, говорит, хоть по вечерам и в воскресенье можно книжку почитать, в театр сходить. А дочка прислушивается и вторит ему. Силой никого в гнезде не удержишь. Вот я и думаю — зачем мне надрываться, все равно мне одному с хозяйством не управиться. Может быть, в артели или в колхозе, где больше машин, детям будет легче и не будут так рваться в город.
— Меня только одно беспокоит, — задумчиво сказал молодой Пакалн, — а что, если в колхозе окажется один-другой лентяй. Не получится ли, что другим придется на них работать?
— Этого не может быть! — с жаром возразил Эльмар. — Если доходы будут начислять по трудодням, то лентяй ничего не получит.
— Постой, постой! — Пакалн поднял руку, останавливая его. — Дай мне закончить. Разве все точно учтешь? Нельзя же так, чтобы на лугу за спиной у каждого стоял человек и считал — кто сколько охапок сена сгреб. Выйдем все вместе, и вдруг найдется среди нас лентяй. Будет весь день лодырничать.
— Такого гнать надо, — не стерпел Эльмар.
— Только я ведь не могу решать, — закончил Пакалн. — Усадьба на имя отца, он во всем волен.
Мирдза надеялась, что хотя бы сейчас Эрик вмешается в общий разговор и выскажет свое мнение. Но он молчал, и Мирдза не могла скрыть своего недовольства — это заметил и Эрик.
— Мы, новохозяева, те, кто с товарищем Озолом всегда заодно, почти уже решили организовать артель, — сказал Лауск. — А то что получается? Земля за нами числится, но всего, что она может дать, мы от нее не берем.
— Крупные хозяйства всегда доходнее мелких, — авторитетно заключил Эльмар Эзер; Озол, закрыв ладонью лицо, улыбнулся. Ему нравился горячий парень, который всем сердцем стремился в колхоз и, наверное, будет одним из самых прилежных работников. Но в суждениях Эльмара еще чувствовалась незрелость, он где-то вычитал это, но как следует еще не понял. Если спросить его, почему же крупные хозяйства доходнее, то он, наверное, не ответит. Но Эльмар добивается ясности, хочет постичь ее, хочет учиться и понимает, что в этом ему может помочь колхоз.
Эльмар Эзер опять беспокойно заводился на своем месте.
— Значит, мы решили организовать колхоз? — спросил он нетерпеливо.
— Эльмар, — остановил его Озол, — ничего не решили, здесь ведь не общее собрание. Пусть люди подумают, а решить мы успеем.
По пути домой он думал о том, как настойчиво советский человек заявляет о своих правах на новую жизнь. Правда, все новое рождается в борьбе, не сразу люди освобождаются от паутины старых привычек. Но крестьяне, толковавшие сегодня об артели, уже не те, что два года назад, которые при слове «колхоз» вздрагивали, как от удара грома. Теперь они говорят об артели спокойно, и если они еще не решились, то только потому, что артель пока для них нечто отвлеченное, незнакомое, невиданное и, значит, еще не совсем понятное.
Новое рождается и развивается, но и старое не хочет признать, что оно отжило. Оно сопротивляется зубами и когтями. Вот тот же Густ Дудум — символ отмирающего мира. Он весь пропитан ненавистью ко всему новому.
Озол не предвидел, что решительная борьба с Густом предстоит в самое ближайшее время. Республика, учитывая чрезвычайные обстоятельства в связи с засухой, обязалась организовать сдачу хлеба сверх установленной нормы. Для волостного актива настали дни, полные напряженной работы. По тому, как тот или иной крестьянин воспринимал это обстоятельство, видны были его политические настроения, его отношение к интересам народа, государства.
Старый Пакалн, когда Озол с ним толковал о сдаче хлеба сверх нормы, показал извещение и, сердито сморщив лицо, ответил:
— Чего они мне пишут? Я сам лучше знаю, сколько могу сдать государству.
Озол непонимающе посмотрел на него.
— Что так смотришь, словно я глупости говорю, — Пакалн сверкнул выцветшими глазами. — Да, я вчера перемерил закрома, и мы с сыном решили, что можем сдать вдвое больше.
— Дедушка! — радостно воскликнул Озол.
— Ну, ну! Я еще не могу забыть смерти Дзидрини. А что не забыто, то не прощено. Пусть некоторые и ругают большевиков, я и сам иногда ворчу из-за непорядков, но не хочу, чтобы с Юритом приключилось то, что случилось с Дзидриней.
Озола тронула дальновидность старика. Он не говорил красивых слов, но сказал то, что постиг своим простым сердцем. Советское государство — это будущность его внука; прочность государства обеспечит спокойную жизнь его любимцу.
В исполкоме Озола ждали хозяин и хозяйка Думиней. Ванаг с ними так и не мог договориться, и они ждали парторга.
— Ах, как хорошо, что мы вас дождались, — заискивающе начала Ирма. — Вы ведь сами были при том, когда мы все вычистили под метелку. Видали, что и семян не оставили. Хорошо, что родственники одолжили, так сумели засеять, иначе в будущем году сами остались бы без хлеба и государству нечего было бы сдавать. Но тут требуют сверх нормы. Ну скажите, где нам взять? Хоть в воду прыгай, нет нам больше житья… — и Ирма всхлипнула, закрыв глаза платочком.
— Если бы требовали картошку или овес, то мы могли бы малость сдать сверх нормы, раз уж такие времена, — заговорил теперь сам Думинь. — С тем, что у нас самих недород, никто не считается… Мы ведь кулаки…
— Дети кулаков пусть отбросы едят, они ведь хуже, щенят, — поддержала Ирма мужа.
— Перестаньте наконец скулить и притворяться! — не стерпел Ванаг. — Я у вас работал, знаю, какие отбросы: ваши дети едят и каким жарким вы батраков кормите.
Думини сделали вид, что не слышали, и продолжали наступление на Озола.
— Скажите, что же нам делать? С сумой по миру идти? Или воровать? — не унималась Ирма.
— В будущем году, наверно, в своем доме не удержимся, надо будет сказать, пусть волость забирает. Пусть отдаст тем, у кого по два колоса на соломине родятся, — с наигранной горечью говорил Думинь.
— Знаете что, — сказал Озол, не глядя на них, — идите домой и везите овес.
Думини, удивленные, переглянулись. Они приготовились к многочасовому спору с Озолом, запасли богатый арсенал слов, стонов и слез, но он остался неизрасходованным.
Проворно, словно боясь, что Озол может передумать, они выскользнули вон.
— Легко ты их отпустил, — сказал Ванаг недовольно.
— На этот раз мною овладело такое отвращение, что дыхание захватило.
— Как же ты справишься с Дудумом? Только что Лайвинь сообщил, что тот начал очередное сопротивление. У меня больше не хватает сил. Сегодня уж с тремя выдержал борьбу, не считая Думиней, — устало рассказывал Ванаг.
— С Густом говорить буду я. Право, мы, как в сказке, с драконами боремся. Одну голову отрубишь, вместо нее сразу же другая вырастает, — усмехнулся Озол.
Озол говорил с Густом в тот же день.
— Какое мне дело до того, что в России неурожай? — Густ сразу принял позу нападающего. — Вы вот все пишете да говорите, что Латвия — независимое государство. Какая же это независимость?..
— Подумайте головой, уважаемый господин Дудум! Тогда вы поймете, что Латвия в этом году не может ждать такой помощи от остальных советских республик, как в прошлом и позапрошлом году, — вспылил Озол.
— Мне их помощь не нужна, — резко ответил Густ.
— Едва ли вы обойдетесь без их помощи. Ту же соль, которую употребляете ежедневно, в своей земле вы не выкопаете, копайте хоть до сердцевины земного шара. И как бы вы ни плевались на все, что приходит из Советской страны, свинина без соли все же несъедобна. Обыкновенного гвоздя вы из своей земли не извлечете, придется обращаться за помощью к другим республикам, уже не говоря о машинах. Те времена, Дудум, когда вы отрывали кусок у трудящихся, прошли. Вам было дано достаточно времени, чтобы подумать. Но еще не видно, чтобы вы это начали делать. — Озол строго посмотрел Густу в лицо, на котором подергивались все мышцы и дрожали светлые усы.
— А если я этого не желаю? — Густ вызывающе посмотрел на Озола.
— Тем хуже для вас. История из-за этого не остановится, она может отбросить вас, как мусор.
— Вы мне угрожаете ссылкой? Тюрьмой? — заволновался Густ.
— Я не угрожаю. Мне незачем угрожать. Угрожают только слабые. Вы думаете, что раз Советская власть терпит таких, как вы, то она слаба? Таким наивным вы вовсе не кажетесь. Если мы справились с миллионными армиями фашистов, то такие отдельные фашистики нам вовсе не страшны. Вот как мы смотрим на вас. И требуем от вас лишь одного — вы не должны мешать нашему государству скорее залечивать раны, нанесенные вашими собратьями. Вы, один человек, намерены съесть урожай с тридцати гектаров, а остальные пусть голодают? Городской рабочий пусть с голодным желудком производит товары, необходимые его величеству Густу Последнему? Такова ваша логика. Отвыкайте от мысли, что все делается для вас, а не для трудового народа. Смотрите, как бы вы не попали в лагерь его активных врагов. И тогда трудовой народ будет в ы н у ж д е н столкнуть вас с дороги, как Саркалиса.
В глазах Густа сверкнули зеленые огоньки. Он, как рысь, вздернул усы, готовясь снова бросить оскорбление. Некоторое время он стоял, опершись обеими руками о спинку стула. Озол не спускал с него глаз, думая о том, как жалка и нища душонка и вся жизнь такого Густа.
У Густа задрожали руки. Он опустился на стул и ссутулился, облокотившись о край стола.
— А если я выполню все, что от меня требуют, вы обещаете меня не гнать из «Дудумов»? — спросил он тихим, загробным голосом, не глядя на Озола.
— Живите, кто вас гонит.
— Говорят, что организуют колхоз. Тогда я тоже смогу остаться в своем доме?
— Даже если бы вы захотели, вас не взяли бы в колхоз, — холодно сказал Озол.
— Так, ну да. Возможно… — пробормотал Густ. — Хорошо. Я отвезу сверх нормы.
27
СИЛА ПРИВЫЧКИ
Перед Октябрьской годовщиной комсомольцы устроили общий воскресник, провели уборку в законченном Народном доме, чтобы в праздничный вечер здесь могли собраться люди. Двухэтажное здание, построенное из тесаных бревен, было уже покрыто, окна застеклены, пол настлан. Но оставалось еще много работы по оборудованию сцены, уборке строительного мусора, протирке окон, и Мирдза с опасением поглядывала на солнце, заходившее с каждым днем все раньше. Ребята с коннопрокатного торопливо сколачивали скамейки из досок, приготовленных еще летом. Зента трудилась над доской почета, чтобы гости могли видеть имена юношей и девушек, особенно старательно работавших на стройке и на полях.
То была веселая предпраздничная суббота! Работа кипела вовсю. Столяры кончали обрамление сцены, печники опробовали дымоходы, девушки мыли окна и подметали пол, электромонтеры с плоскогубцами карабкались по стремянкам вверх. А на улице школьники орудовали метлами, вилами и лопатами. Этой шумной армией малышей руководили Салениек и учителя. К вечеру солнце заглянуло в блестевшие окна Народного дома и осенними холодными лучами обласкало белые стены, крышу и чисто подметенную площадку перед крыльцом. В новом доме уже могла начаться новая жизнь, и она началась, как только метлы, лопаты и тряпки были сложены в кучу. Началась с репетиций завтрашних выступлений. Салениек вывел на сцену школьников — они исполнили гимны Советского Союза и Латвийской республики, спели разученные песни.
Когда Мирдза вернулась домой, уже были густые сумерки. Она сходила в баню и — усталая, но удовлетворенная — могла наконец дать отдых рукам и ногам, не знавшим этим летом ни одного дня покоя. На ладонях у нее затвердели мозоли. Ничего, они послужат входным билетом на завтрашний вечер, когда Упмалис будет проверять руки, чтобы убедиться, кто как работал. Завтрашний вечер! Как она ждет его. Что он принесет, Мирдза и сама не могла себе сказать, но казалось — будет особенно радостно, будет особенно много впечатлений.
Наступило утро праздника. Мирдза еще до завтрака ушла в Народный дом, где надо было закончить украшение зала. К вечеру она уличила себя в том, что слишком часто выбегает на ступеньки и смотрит в ту сторону, откуда могла показаться зеленая машина с человеком в серой шинели без погон.
Наконец вечером, когда сумерки укутали все в сероватую вуаль, яркий сноп света пробил дорогу автомашине, и та легко и бесшумно подкатила к Народному дому. Но это не был «виллис», и приехал не тот, кого Мирдза ждала весь день и даже весь месяц. Приехал Рендниек, секретарь уездного комитета партии. Он кому-то помог выйти из машины. Это была Эльза, захотевшая поздравить комсомольцев с первым большим успехом. Мирдза не могла скрыть разочарования, в первое мгновение отразившееся на ее лице. Она была рада и Рендниеку, и Эльзе — но почему вместе с ними нет Упмалиса?
— Разрешите познакомить с новым секретарем укома комсомола, — Рендниек с улыбкой указал на Эльзу, когда Мирдза и Зента одновременно бросились обнимать ее.
— Значит, высокое начальство, а я думала, что наша старая Эльза! — шутила Мирдза, опуская руки и становясь навытяжку.
— И то, и другое, — так же шутливо отозвалась Эльза, здороваясь с подругами.
Озол и Ванаг также вышли встречать гостей. Они увели Рендниека, а Мирдза и Зента не отходили от Эльзы. Так как до начала празднества оставалось еще несколько часов, они решили сходить в исполком, на квартиру Ванагов, немного отдохнуть и приготовиться к вечеру. Здесь Эльза открыла свою сумочку и вынула письмо; словно проверяя, прочла адрес и передала Мирдзе. Той показалось, что прикосновение к серому конверту обжигает пальцы. Как ей хотелось вскрыть конверт сейчас же, немедленно, но вокруг были люди, пусть и близкие, но они не должны видеть ее нетерпения и волнения.
За час до начала вечера Мирдза решила, что ей все же надо быть в Народном доме. Закрывшись в комнатке заведующего, она вскрыла конверт и прочитала:
«Приветствую тебя, Мирдза!
Приходится уезжать раньше, чем думал. Поэтому не успел проститься. Но нужно ли прощаться, когда нас разделяет небольшое расстояние — от Латвии до Москвы три часа полета. Уезжаю с двойственным чувством. Я счастлив, что наконец смогу систематически учиться, вся культура большой столицы откроет мне свои двери. С другой стороны, жаль оставлять начатую работу, которая именно теперь, после войны, развернулась во всю ширь. Как хочется, чтобы на долю всех вас — комсомольцев выпали такие же богатые впечатлениями годы, какие предстоят мне. Чего я желаю тебе, Мирдза? Кончай курс средней школы, научись в совершенстве русскому языку, и я думаю, что сумею тебе помочь попасть в ту школу, в которую посчастливилось поступить мне. Разреши в будущем делиться с тобою впечатлениями об учебе и жизни в Москве, это, быть может, в какой-то мере пригодится тебе. Жму твою руку.
Валдис».
Это было все. Но Мирдза и не ждала большего, в этих немногих строках она чувствовала Упмалиса, Валдиса, как он подписался. Сколько теплоты излучала эта подпись. В этой подписи она видела Валдиса с его неутомимым стремлением постичь как можно больше, работать без устали, увлекать за собой людей.
Ни тысяча километров, отделяющая теперь его, ни три года, которые он проведет вдалеке, не помешают ему быть здесь, рядом. Он протянет дружескую руку через любое расстояние. Мирдзе больше ничего не надо, лишь бы не испытывать грусти и одиночества, мешающих жить.
С такими чувствами она оставила комнатку и вышла к гостям, стекающимся в новый Народный дом. Она знала почти всех. То были лучшие люди волости, так как вечера не посещают кулаки, вроде Густа Дудума и Думиня, — они готовы заткнуть уши, только бы не слышать, что Советское государство существует уже двадцать девять лет, выдержало все военные бури, выйдя из них еще более сплоченным и могучим.
Вот вошел какой-то мужчина, а с ним юноша в форме школы ФЗО, с комсомольским значком на груди. Мирдзе они показались знакомыми, но все же она не могла сразу припомнить, где их видела. Юноша узнал ее, поклонился, ожидая, что Мирдза подаст ему руку.
— Видно, загордилась! — улыбнулся он, и Мирдза вспомнила — то Арнольд Сурум, друг Карлена; когда-то она вместе с обоими мальчиками забиралась в сад Сурума за румяными и вкусными яблоками.
— Арнис! Вот уж не узнала! — воскликнула Мирдза. — В форме, и такой большой! Да еще комсомолец! Простите, — ведь это дядюшка Сурум.
— Он самый! — Сурум потряс ее руку. — Не стало у меня яблоневого сада, так ко мне никто и в гости не ездит, — шутливо упрекнул он.
— Я забыла, когда в последний раз у кого-нибудь была в гостях, — оправдывалась Мирдза.
Подошла мать Мирдзы, и ей тоже почти заново надо было знакомиться с Сурумами.
— Ты постарел, Сурум, как и я, — заметила Ольга.
— Так на белом свете устроено, что молодеют только молодые, — Сурум кивнул на Мирдзу и Арнольда, — а мы, старики, все стареем.
— «Со старым сердцем нынче стыдно жить», — напомнила Мирдза строчку из стихотворения Судрабкална. — Не так ли, Арнольд? Как ты себя чувствуешь? Все еще тоскуешь по естествознанию?
— Даже очень хорошо, что я попал в электротехническую школу, — сказал он не без гордости.
Вошли городские гости, а с ними Озол и Ванаг. Озол тепло поздоровался с Сурумом и справился, как теперь идут дела в волости.
— Снял ты с наших плеч тяжесть, — ответил Сурум, — новые люди стали управлять, совсем по-другому все обернулось.
Озол познакомил Сурума с Рендниеком, которому раньше рассказывал о недовольном родственнике.
— Мы почти все совсем не против нового, товарищ Рендниек, — свободно заговорил Сурум с секретарем. — Если с нами разумно потолковать — вот как этой осенью новые руководители, то сдали и по норме и сверх нормы. А в прошлом году на нас только покрикивали да приказывали — так можно из любого крестьянина врага сделать. Конечно, есть еще среди нас всякие люди. На некоторых соседей прямо досада: в хлеву три нерегистрированных коровы стоят, а хозяева ходят да стонут — от одной зарегистрированной не хотят молока сдавать.
— Приятно слышать, что в вашей волости произошли перемены к лучшему, — порадовался Рендниек.
— Во время больших преобразований — то же самое, что во время половодья, — всякий мусор плывет по течению, — философствовал Сурум. — Но придет время — прояснится, и глядишь, весь сор унесло.
— Его унесет еще быстрее, если вы, труженики, больше будете чувствовать себя хозяевами своей земли, — энергично подхватил Рендниек мысль собеседника. — Не надо ждать, пока сорняк сам по себе сгниет. Чем скорей его выполешь, тем лучше. Наведывайтесь почаще к нам в город, рассказывайте, что у вас на душе. Договорились?
Вечер начался исполнением гимнов, которые спел ученический хор под руководством Салениека. Доклад о двадцать девятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции сделал Рендниек. Потом Эльза поздравила молодежь с успешной работой по восстановлению родной волости. Во время ее речи почтальон передал Мирдзе и Зенте телеграмму из Москвы — привет от Упмалиса всем комсомольцам волости.
После официальной части начались танцы, но случилась неприятность. Свет сначала совсем потух, потом, правда, появился снова, но
такой тусклый, как от коптилки. Электромонтер проверил,: нет ли какого-нибудь дефекта в проводке, помогал ему и Арнольд Сурум, но они ничего не нашли. Озол сразу же подумал — не является ли причиной трестовская мельница, от которой Народный дом получал ток? С мельницы все еще не удалось убрать заведующего, слывшего взяточником, — он умел ловко и хитро скрывать свои проделки. Озол поделился с милиционером Канепом своими подозрениями и, пригласив с собой нескольких крестьян и электромонтера, сейчас же отправился на мельницу. Уже издали было слышно, что мельница гудит, — работал большой мукомольный постав.
— Смотри, какой старательный мельник, — усмехнулся Озол, — даже в праздничную ночь не знает покоя.
У коновязи стояла запряженная лошадь. К повозке приближался человек с мешком муки на спине. Завидев людей, он растерялся и хотел бросить мешок наземь, но Канеп подбежал к нему и крикнул:
— Стой!
Человек с мешком остановился, все ниже сгибаясь под тяжестью своей ноши, так что даже его лица нельзя было разглядеть, хотя Канеп посветил карманным фонарем.
— Свое молол или украл? — спросил милиционер.
— Свое, — ответил человек, и по голосу Озол узнал Думиня.
— А разрешение на помол есть? — спросил Канеп.
Молчание.
— Положи мешок на телегу и пойдем выясним.
Выяснилось, что Думинь привез на мельницу полный воз ржи и пшеницы. Разрешения на помол у него не было, так как он уже давно смолол свою норму. Было ясно, что помольщик и заведующий хотели воспользоваться праздничной ночью, когда все активисты будут в Народном доме.
— Откуда у тебя зерно? Под клетью наскреб? Помнишь, как жаловался, что мы твою клеть начисто вымели? — насмешливо спросил Озол.
Думинь хотел солгать, что зерно купил, но выдал себя, не сумев сказать, у кого.
— Дело ясное, — заключил Озол, не желая зря задерживаться. — Составим акт и завтра же на него и заведующего подадим в суд.
Постав остановили, и Народный дом сразу же ярко засветился.
Рендниек и Эльза остались в волости еще на день. Эльза должна была помочь комсомольцам создать первичные организации при сельсоветах, а Рендниек хотел сам побеседовать с крестьянами об организации артели.
Крестьяне собрались у Озола, все в праздничной одежде, с серьезными лицами, — и те, что уже решились, и те, что все еще колебались. Но они все же пришли, и уже это говорило о том, что у людей пробудился интерес к социалистическому хозяйству, хочется как можно больше знать — как там будет, хочется освободиться от сомнений, чтобы уверенно пойти по новому пути.
Рендниек обвел взглядом лица собравшихся крестьян, и ему понравилось, что они смотрят на него открыто и свободно, не как на «начальника», приехавшего сюда для того, чтобы своим присутствием подкрепить Озола, а как на товарища, к которому можно обращаться и от которого можно ждать совета.
После речи Рендниека, как обычно, наступила тишина. Потом слушатели начали наклоняться друг к другу, перешептываться — выскажись, мол, ты.
— Смелее, смелее, — подбадривал Рендниек. — Говорите вслух.
Наконец какой-то старик, откашлявшись, начал:
— Я слыхал такие разговоры — будто в колхозах всех крестьян хотят сделать бедняками. Бедняки, дескать, больше поддерживают Советскую власть. Я-то не знаю, правда ли все это, что говорят, только…
— Вовсе неверно, — ответил Рендниек, не дождавшись конца фразы, потому что крестьянин ее так и не договорил. — Такие слухи распространяются врагами Советской власти. В этих слухах нет ничего нового. Враги Советской власти распространяли их еще раньше, когда русские крестьяне начали объединяться в артели. Мы эксплуататоров свергли для того, чтобы всему народу обеспечить зажиточную жизнь.
— Вот как! — сказал крестьянин. — Чего только не наговорят.
После этого откашлялся и Акментынь.
— Мне хотелось бы знать вот что, — начал он. — У нас опыта еще нет, колхозов мы здесь пока не видели — но не получится ли так, как в девятнадцатом году — помните? Тогда тут в имении устроили колхоз, коммуной, правда, называли. Всех коров и кур у батраков собрали и согнали на большой скотный двор. Я раз видел, как Рикур пахал, а начальник, не помню, как звали, сидел на обочине канавы и, словно староста какой, смотрел, чтобы тот не лентяйничал.
— Ошибки и промахи обычно не забываются, — сказал Рендниек. — В девятнадцатом году в Латвии, действительно, в некоторых местах допустили ошибку, объединяя в коммуны совершенно неподготовленных людей. Да и техники никакой не было.
— Иногда мне опять-таки приходит на ум, — заговорил Рикур, — не будет ли колхоз вроде как имение, а мы вроде батраков? У батраков ведь тоже были и своя коровка, и курочка.
— Ничего общего, — пояснил Рендниек. — Во-первых, в имении вы были батраками, а имением владел барон. В артели такого владельца нет, все крестьяне добровольно объединяются на равных началах. Во-вторых, в имении урожай и доход присваивал себе барон, а теперь это все пойдет вам. Что же тут общего?
— Спасибо, спасибо, ну теперь мне ясно, — поблагодарил Рикур.
Заговорил и старый Пакалн.
— Вы и товарищ Озол советуете — больше в эти театры и кино ходить, лекции слушать. Но скажите на милость, как мы туда попадем, если дома не будет своей лошади? Молодые — те летом еще на велосипедах, а мы, старики, без лошади, что без ног. Некоторым за десять километров идти и как же потом в темноте возвращаться?
— По уставу артели лошадьми колхозники для необходимых нужд пользуются безвозмездно. Как попасть на вечер? Мне кажется, что в таком случае каждому в отдельности гнать лошадь не следует. Вы ведь обязательно обзаведетесь своей автомашиной. Ну, что там особенного — собрать людей, отвезти, а потом доставить домой. А дороги вы ведь наладите, чтобы машина могла заехать ко всем? — Рендниек улыбнулся.
Старый Пакалн замолчал. Самого для него важного он не спросил, стесняясь при посторонних излить свою душу.
Когда крестьяне, выяснив еще много практических вопросов и пообещав дать окончательный ответ через месяц, разошлись по домам, Рендниек тоже собрался в дорогу. На прощанье он сказал Озолу:
— У меня создалось впечатление, что с таким народом можно не бояться организовать артель. Когда это совершится — обрати внимание, чтобы на скотоводческую ферму и к лошадям поставили самых лучших, честных людей. Следи за правильным учетом трудодней. В этом залог успеха коллективного труда.
Однажды вечером в конце ноября к Озолу, запыхавшись от быстрой ходьбы, вошел взволнованный Эльмар Эзер.
— Ну вот, мы здесь топчемся на месте, толкуем и обдумываем, а тем временем другие уже все сделали! — выпалил он, сердито сдвинув брови.
— Уже все сделали! — Озол добродушно посмотрел на раскрасневшегося парня. — Могу я узнать, что именно?
— Колхоз организовали!
— В нашей волости или по соседству?
— Нет. В Елгавском уезде. У меня там знакомый комсомолец живет. Вот и написал.
— Это в Шкибской волости. Но почему тебя волнует то, что они организовали артель? — спросил Озол.
— Оказывается, вы уже знаете? Потому и волнуюсь — надеялся, мы будем первыми. А не получилось, — сокрушался Эльмар.
— Я так думаю, что неважно, будем ли мы первыми или вторыми. Важно, чтобы крестьяне объединились накрепко. Я рад, что елгавцам удалось первым организовать. Это покажет нашим крестьянам, что в других местах также о колхозах серьезно думают, что мы не выскочки какие-нибудь. Артель создается на многие годы, поэтому совсем неважно — месяцем раньше или позже. Не так ли, Эльмар?
Эзер, хотя и не стал возражать, но видно было, что первенство елгавцев задело его за живое.
— Я еще должен поговорить с некоторыми крестьянами, — добавил Озол. — Кое-кто все-таки еще сомневается.
Одним из колеблющихся был, по предположению Озола, старый Пакалн. Он, правда, не отказался, но на собрании был очень задумчив. Не совсем полагался Озол и на Лидумов — и решил навестить обоих.
Во дворе усадьбы «Кламбуры» Озол услышал голос старого Пакална. Казалось, он говорит с каким-то человеком, но когда Озол зашел в конюшню, то выяснилось, что старик беседует с молодым конем, которого в этом году впервые запрягал в плуг.
— Посмотри, картинка, а не лошадь! — гордился Пакалн своим питомцем. Это, действительно, была статная гнедая лошадка с белой отметиной на лбу; ее умные, добрые глаза вопросительно смотрели на людей.
— Баловник этакий, привык — я ему всегда что-нибудь приношу, — добродушно бранился Пакалн. — Как только не дам, начинает сам шарить по карманам. Ах ты, воришка! — он потрепал по шее гнедого, и тот мягкими губами потянулся к щеке хозяина.
— Это уж последний выращенный за мой век. Девятый по счету. Ему придется меня и на погост прокатить, — спокойно говорил Пакалн, словно о свадебной поездке.
— Слишком рано ты готовишься к таким почестям, — возразил Озол. — Сколько у тебя за плечами?
— Семьдесят два.
— Ну, тогда ты можешь еще девять таких рысаков вырастить. До ста лет по крайней мере надо прожить.
— Что ты, что ты, — детям в тягость и миру на смех! — отмахивался Пакалн обеими руками. — Если бы я знал, что из ума не выживу, то ничего бы не имел против. Иногда думаю — большие перемены сейчас происходят; только уж поэтому не хотелось бы помирать. Кто мне в царствии небесном расскажет, как здесь на земле все изменилось, как вы тут в колхозах живете?
— В этом ты еще сам сможешь убедиться, — начал Озол нужный разговор. — Люди уже решили, что работать вместе будет легче и прибыльнее. Пришел спросить, что ты надумал?
— Пойдем в дом, — пригласил Пакалн и медленно закрыл дверь конюшни. Так же неторопливо он прошел через двор и переступил порог дома. По одной этой медлительности Озол понял, что старику нелегко решиться и он вряд ли сегодня сможет дать ответ.
— Значит, все же порешили? — произнес Пакалн, усевшись.
— Да, порешили. Потому и пришел к тебе. Твоя усадьба примыкает к участку земли, который будет закреплен за артелью, — ответил Озол, глядя Пакалну в лицо.
— А Думини? Они тоже в этом участке. Разве они согласны? — спросил Пакалн, чтобы оттянуть ответ.
— С Думинем вопрос другой. Он сам в тюрьме. И если даже захочет, его не примут, — глядя в окно, ответил Озол.
Пакалн словно поник.
— Уходить из «Кламбуров» мне не хочется, — заговорил он, немного помолчав. — Здесь я родился, отсюда хотелось бы уйти на вечный покой. Но если…
— Дедушка, откуда у тебя такие мысли! — воскликнул Озол. — Тебя из «Кламбуров» никто не собирается выживать.
— Ах, сынок, чего я только своей старой головой не передумал, — Пакалн тряхнул седой бородой. — Ты думаешь, мне этой земли жаль? Никуда ее не унесут, тут же около меня и останется, если и не будет считаться моей. Горб и кривые пальцы нажил я, надрываясь над нею. Но признаюсь тебе, что меня за сердце хватает… Это — моя лошадка, которую мы смотрели. Не могу свыкнуться с мыслью, что она не будет моей. Как подумаю, что моего Лауциса придется вести на общую конюшню — не могу, думаю — пусть лучше мне выделят маленький клочок земли, где-нибудь на отлете. Много ли старому человеку надо. Помаленьку с Лауцисом обработаю. Пусть молодые остаются здесь, идут в артель со второй лошадью — мы ее недавно на базаре купили, не успел еще к ней привязаться.
Озол молча слушал. Глаза старого Пакална повлажнели.
— Сын ругается, что я к лошади так привязался. Но что я могу поделать, раз жизнь так прожита. Корова, овца — то для молока, шерсти. А лошадь? Она всегда была моим помощником, а плата ей за работу — корм. В неурожайные годы возила бревна, землю пахала, а довольствовалась болотной осокой и не роптала. И как я ей скажу: «Расстанемся, друг, — тебе идти в другую конюшню. Должна будешь слушаться кого придется. И кто знает, как с тобой будут обращаться… Кто ударит, кто плохо кормить будет, передохнуть не даст в конце борозды». И то сказать, я лошадей покупать-то покупал, но ни одной не продавал. Все в «Кламбурах» свой век доживали.
— Мучить или морить голодом лошадей мы не позволим, в этом ты можешь быть уверен, — сказал Озол. — Ты бывал когда-нибудь на коннопрокатном пункте? Разве там у Яна Приеде лошадям плохо живется?
— А как было при Калинке? — напомнил Пакалн.
— Таких Калинок мы в артель не пустим. В артели всю тяжелую работу будут делать машины, а лошади будут на подсобных работах.
Пакалн снова замолчал. Заговорил только немного погодя.
— Знаешь, о чем я попрошу, — дай годик присмотреться, какие там порядки будут, как с лошадьми будут обходиться. Привыкну… увижу, что все хорошо, что можно Лауциса доверить.
— Живи, дедушка, пока по-прежнему, — Озол встал, пожал старику руку. — Я думаю, что мы даже раньше докажем тебе, что и в артели лошадь — друг крестьянина.
— Не обижайся на старика, что мало мне это новое в мыслях принять — хочется руками пощупать, — извинился Пакалн прощаясь.
— Ничего, живи себе спокойно. Я думаю, что через год у нас будет, чему и подивиться и что руками пощупать, — сказал Озол.
— Дай бог, дай бог, — пожелал Пакалн.
В этот день Озол к Лидумам не пошел.
Разговор с Пакалном его как бы удручил, сделал рассеянным. Он думал о том, какой крутой поворот в душе крестьянина означает переход к коллективному хозяйству. Крестьянину пока еще трудно понять, что он в артели является хозяином земли, хотя она и не числится за ним, что лошадь, хотя она и на общей конюшне и паспорт ее не у него в кармане, все-таки принадлежит ему и что эта лошадь все же будет работать на него, что о ней надо заботиться и беречь, как свою. В течение столетий он привык к тому, что земля является частной собственностью, которую можно покупать и продавать, сдавать в аренду или же оставлять необработанной, и никому не было до этого дела, кроме как ее собственнику. Это прививалось из поколения в поколение и было закреплено законами государственной власти. Разумеется, никому также не было дела до того, что люди разорялись, что имущество их продавалось с молотка, что некоторые наживались на чужом труде. Ко всему этому так привыкли, что новые идеи, новый образ ведения хозяйства не у каждого сразу укладываются в голове. Как глубоко и правильно Ленин понял душу крестьянина, сказав, что сила привычки — самая страшная сила. Вот тот же Пакалн — он не хочет умирать, не увидев, как будет расти и развиваться первый колхоз в волости. Смутно он чувствует, что в этом нет ничего плохого для него, для человека, который никогда не ел хлеба, не заработанного собственными руками, и который всегда первым откликался на призывы Советской власти, не проявляя ни корысти, ни жажды к наживе. И все же он насторожен к новому, ибо не видел его и, как он сам говорил, не щупал своими руками.
Какая огромная ответственность лежит на пионерах общего поля — доказать тысячам людей, которые с напряженным вниманием будут следить за тем, как артель приходит к зажиточности, к культурной и более легкой жизни.
Это потребует труда, большого труда, потому что без труда ничего нового на свете не создашь. Поддаться иждивенческим настроениям, ждать, чтобы государство для начала все дало даром, значило бы строить здание на песке.
Надо преодолеть и внутренние противоречия в самом колхозе — вложить все силы в строительство, расширить посевы, увеличить поголовье скота, быстрее осушить луга, улучшить пастбища, выкорчевать негодные кустарники — добиться высокой оплаты за трудодень, заинтересовать колхозников, чтобы они не махнули рукой на общие поля и стада и не занялись только своим приусадебным участком, своими коровками. Чем ощутимее будет крестьянину польза от общего хозяйства, тем усерднее он примется за труд. Прописные истины! И все же они сложны, пока в человеческом сознании живет ветхозаветный Адам, который все нашептывает — дери с другого, сколько можешь. Тень поместья еще затмевает сознание крестьянина. Помещик был грабителем, помещик забирал у крестьянина землю, мучил его предков, а его самого обрекал на полуголодное существование. И если помещик забирал у крестьянина землю, то срубить в лесу имения бревно, накосить на барском лугу травы — не преступление. А потом, когда помещичьи леса стали называться собственностью государства, они в глазах крестьян остались такими же никому не принадлежащими лесами, и даже самый строгий ревнитель частной собственности не считал кражей — спилить сосну в казенном лесу.
Вот почему надо бояться, чтобы на общее добро люди не смотрели как на бесхозное, от которого можно урвать — тайно обмолотить зерно, накосить травы и клевера для своей коровы. Надо перевоспитывать людей, наряду с подъемом материального благосостояния поднимать сознательность людей.
Вечером Озол поделился с Олей и Мирдзой впечатлениями от своего разговора с Пакалном.
— Я, право, все время думала, что Пакалн не отстанет от нас, — Мирдза чувствовала себя разочарованной. — Он всегда был отзывчивым на все новое, поворчит иногда, но без всякого умысла.
— Да, вступление Пакална помогло бы кое-кому быстрее решиться. Я думаю о Лидумах…
— Ну, уж Эрик-то не пойдет в колхоз! — раздраженно воскликнула Мирдза. — Скорее забором обнесет свою землю!
— Не слишком ли ты плохого мнения о нем? — спросил Озол, пристально посмотрев дочери в глаза. — Не ударилась ли ты из одной крайности в другую?
— Зачем мне это нужно? — Мирдза поморщилась.
— Зачем? Иногда это нужно для того, чтобы доказать себе, что поступил правильно, допустив резкость к человеку. Особенно, если полюбил другого.
Мирдза порывисто вскинула голову и удивленно взглянула на отца. Неужели он о чем-нибудь догадывается? Да о чем же? Она снова не хотела себе признаться, но перед глазами мелькнуло знакомое лицо со шрамом, и она поняла, что зря отрицает это и играет в прятки.
— А если я поняла, что ошиблась, приняв за любовь чувства недолговечные, ненастоящие, то разве надо лицемерить? — спросила она, выдержав взгляд отца.
— Нет, — покачал Озол головой. — Лицемерить не надо. Но и не надо становиться несправедливым по отношению к другому.
— А разве я несправедлива? — не соглашалась Мирдза. — Поговори сам с Эриком, тогда увидишь.
На следующий день Озол пошел к Лидумам. Он впервые после неудачного сватовства Эрика внимательнее всмотрелся в его лицо и увидел в нем новые, более твердые черты; серые глаза Эрика посерьезнели.
Когда зашел разговор о колхозе, Эрик заметно оживился, собираясь что-то сказать, но Озол сделал ошибку, полушутя, полусерьезно заметив:
— Правда, Мирдза напророчила, что мое посещение будет напрасным. Я все же не поверил ей.
Он тут же пожалел, что сказал это — лицо Эрика дрогнуло, губы плотно сжались, глаза похолодели.
— Тут судить матери, — холодно произнес он. — Я здесь всего лишь ее сын.
— По-моему, вряд ли что путное получится в этих колхозах, — глядя куда-то вдаль, заметила Лидумиете. — Ведь еще в старые времена говорили: «своя рубашка ближе к телу».
— То были старые времена и старые люди, — доказывал Озол. — Нынче мы говорим иначе! Говорим словами Арайса-Берце: «Сила, не ощутимая в капле, становится могучей в море».
— Это так писатели учат, но разве все в жизни бывает, как в книгах, — недоверчиво протянула Лидумиете. — Я не против совместной обработки земли. Эрик говорит, что кроме артели могут быть и такие общества.
Озол посмотрел на Эрика, удивляясь, что этот тихий парень интересуется формами коллективного труда.
— С землей можно по-всякому, — если вспашешь, удобришь, засеешь, хорошо проборонишь, никуда она не денется, — продолжала Лидумиете. — Другое дело со скотиной. К ней нужно подойти с любовью.
— Но разве в колхозе нельзя за скотом с любовью ухаживать? — прервал ее Озол.
— Да кто же станет заботиться о том, что не его? Подбросит чего-нибудь — и бог с ней, с этой скотиной, — махнула она рукой.
— Почему вы думаете, что в колхозе доярки будут ненавидеть скот? — удивился Озол. — Скажите, если бы вам доверили колхозную животноводческую ферму, разве вы допустили бы, чтобы скотину морили голодом и как следует не доили бы?
— Нет, этого я, право, не могла бы допустить. Тогда я бы уж лучше ушла, — живо ответила Лидумиете.
— Неправильно. Не самой уходить, а гнать с фермы бездельников! — воскликнул Озол. — Я верю, что вы честно ухаживали бы и за общим скотом. Но почему вы не верите, что и другие, например, Мария Перкон или жена Лауска, поступили бы так же?
— Может и так, чего там спорить, — допустила Лидумиете. — Но мне все же кажется, что в артели все перепутается. Не будешь знать, что твое, что не твое.
— Я ведь вас не приневоливаю, — Озолу казалось, что эту женщину будет трудно переубедить. — Поступайте, как сами считаете лучше. У вас еще есть время, чтобы обдумать и присоединиться к нам. В январе у нас будет собрание, на котором каждый даст окончательный ответ.
Во время разговора Эрик, наморщив лоб, смотрел в окно. Поняв, что Озол собирается уходить, он обернулся и спросил:
— Скажите, в колхоз принимают таких, у кого нет своей земли?
— Почему же нет, — ответил Озол, — Принимают. Выделяют полгектара земли в личное пользование, как и остальным. Помогают дом построить, обзавестись коровами.
Эрик ни о чем больше не спросил, и Озол простился, не подозревая о настроении юноши. Лидумиете, тяжело вздохнув, пошла к скотине. Эрик зашел в свою комнату и хотел замкнуть дверь, но передумал и оставил ее открытой. Никто ведь не зайдет. А если бы и зашел? В его мозг никто не проникнет, никто не будет и подозревать, какой водоворот мыслей и чувств вызвала одна единственная фраза Озола о пророчестве Мирдзы, что Лидумам и не стоит предлагать вступать в артель.
Почему Мирдза так сказала, почему она не могла первой по-дружески поговорить с ним? Неужели она вместо прежнего чувства испытывает к нему только презрение? И снова он принялся распутывать тысячу узелков, которые начали завязываться после встречи с Мирдзой в госпитале, где он лечил раненую руку. Теперь, когда он разглядывал в зеркале нынешнего дня свое прежнее «я», ему казалось ненавистным это глупое, наивное лицо. Но раньше Эрик не понимал и даже не подозревал, каким он выглядел в глазах Мирдзы, и также не сумел понять ее истинный характер. Она казалась ему милой, задорной девушкой, которая от избытка молодой энергии ищет общественной работы, немножко бравирует в разговорах об окончании средней школы и охотно бы похвасталась женихом-героем. Но когда Мирдза прямо сказала: «Наши шаги не совпадают», он постепенно начал понимать, что Мирдза не только милая, задорная девушка, что в ней есть нечто большее, какое-то неодолимое стремление к высотам, к широким просторам, которых он не мог себе представить.
Да, не сразу он пришел к этому заключению. Некоторое время после решительного разговора он наивно полагал, что Мирдза хотела лишь подразнить его, сердясь за старомодное сватовство. Он ждал, что она сама придет и радостным своим смехом развеет недоразумение, казавшееся тогда столь незначительным. Но Мирдза не давала о себе знать. Потом ему казалось, что Мирдза считает неудобным прийти в «Лидумы» из-за его матери, которая, как старый человек, возможно, обиделась. Временами ему чудилось — Мирдза ждет его в роще, а если и не ждет, то воспоминания тянут ее в тот лесок, где они однажды случайно встретились. Но Мирдза не ждала — одиноко прохаживался он по осенней тропинке взад и вперед, пока не становился сам себе смешным.
Затем он на некоторое время упорно замкнулся в себе. Мирдза ведь сказала: «Хоть показал бы характер». Он может показать — не будет выходить из дому, не будет говорить почти ни слова с матерью, на которую взвалил большую часть вины за размолвку с Мирдзой.
Но и упрямство не перекинуло мостика через пропасть, которая между ним и Мирдзой все расширялась. Мирдза продолжала идти своей дорогой. Иногда он издали видел ее вместе с молодежью на работах. И незаметно в нем пробудилось желание познакомиться с тем миром, в котором жили, как в своем доме, Мирдза, ее отец, комсомольцы и партийцы, виденные им на фронте. Он приобрел книги — те самые, что видел у Озолов, и принялся читать.
Постепенно перед ним открылись иные горизонты, а все старое он увидел в другом свете. Он стыдился своей замкнутости, оторванности от людей, жалел, что не послушался призыва Мирдзы, не вступил в комсомол. И все же он долго не был в силах преодолеть себя, заставить отказаться от своего отшельничества, ждал, пока ему кто-нибудь протянет руку. Это могла быть не Мирдзина рука — время уже вылечило его, по крайней мере, так ему казалось.
Настал праздник Победы. Эриком овладело столь сильное желание быть среди людей, слушать разговоры, смех, почувствовать свою молодость, что он сбросил маску упрямства и пошел на коннопрокатный пункт, где лицом к лицу встретился с Мирдзой. И хотя ему казалось, что от волнения у него сердце выскочит из груди, он нашел в себе достаточно сил, чтобы быть сдержанным, поздороваться и, соблюдая правила приличия, ждать, пока Мирдза первая подаст руку. Но она, смутившись, не подала руки. Потом она танцевала с Упмалисом, порозовевшая и радостная. Некоторое время Эрик, танцуя с Яниной, глазами следил за Мирдзой и проверял себя: неужели он все еще так же влюблен, как и раньше. И, удивленный, заметил — нет теперь тех бурных чувств, что раньше влекли его к Мирдзе.
Так из его воображения ушла Мирдза — любимая девушка и невеста. Осталось уважение к ее деятельности, к ее горячности в работе и жажде к образованию. Эта жажда была свойственна и Янине, с которой он разговаривал и танцевал весь тот вечер. Эта жажда передалась и ему. От кого — от Мирдзы или Янины, — он не мог сказать. Ведь Янину он встретил уже после того, как на него повлияла Мирдза.
Но почему Мирдза, не зная его, нынешнего Эрика, так плохо отозвалась о нем? Видимо потому, что не знала о переменах, происшедших в нем, и слишком болезненно разочаровалась в прежнем Эрике. Так что же — заупрямиться еще раз и не пойти в артель? Или — вступить из упрямства?
Нет, он не может заупрямиться ни так, ни иначе. Ему стало тесно в своем доме, на своем клочке земли, богобоязненность матери и ее устарелые взгляды душат его, но он еще не в силах переубедить мать, слишком раздраженно и нетерпеливо воспринимает каждую ее косную мысль и суждение. Сколько раз они говорили о колхозе; убеждая мать, он изучил устав артели, повторял все слышанное от Озола и Рендниека, но она не пошла дальше старой, кем-то вдолбленной ей мудрости: «своя рубашка ближе к телу». Сегодня же вечером надо сказать ей определенно и окончательно: она может делать со своей землей, что хочет, но он вступит в колхоз. Так решил и старший брат Ян.
— Да, я вступлю! Твое пророчество, Мирдза, не сбудется.
28
В ГОРУ
В одно январское утро можно было видеть, как по направлению к исполкому шагали и ехали крестьяне ближнего конца волости. Догнав одного из пешеходов, седок осадил лошадь и крикнул:
— Садись, теперь ведь это и твоя лошадка! — и оба рассмеялись.
Молодежь разукрасила зал, как в большой праздник. И настроение у собравшихся было приподнятое, праздничное. Людям не сиделось на месте, они выходили в соседнюю комнату, в коридор — обсудить последние практические вопросы.
На собрание по случаю организации колхоза приехали Рендниек и представитель министерства сельского хозяйства республики.
Незадолго до начала еще одна повозка остановилась у исполкома. Это приехала семья Лидумов — мать и оба сына.
Мирдза увидела их через окно, но не сразу сообразила, зачем они приехали, подумала, по какому-нибудь делу.
Но когда распахнулась дверь зала и они вошли втроем — двое парней с серьезными, решительными лицами и мать, словно бы уставшая и ни на кого не глядя, — Мирдзе стало ясно, что Лидумы решили присоединиться к соседям. Мирдза не осмелилась посмотреть Эрику в глаза, стыдясь своего опрометчивого суждения, высказанного отцу, — она знала, что он передал ее слова Эрику.
Собранием руководил Озол. Он попросил Рендниека сказать несколько слов крестьянам, которые сегодня намечают себе новый широкий путь в гору, сметают преграды старых привычек, распахивают межи и убирают межевые столбы, всегда служившие яблоком раздора.
— Я представляю, какие сомнения вы преодолели в своих сердцах, — начал Рендниек. — И если вы сегодня решились, то хочется верить: вы поняли, что этот путь в гору, о котором упомянул товарищ Озол, легче будет проделать всем вместе, поддерживая друг друга, чем, карабкаясь в одиночку, порою даже сталкивая друг друга вниз, потому что частные интересы всегда порождают зависть, корысть. Эти явления советские люди считают опасной болезнью и борются с нею общими силами.
Он говорил о труде, который поднимает людей, поколение за поколением, на более высокую ступень развития. Только в социалистическом государстве труд стал делом чести. Только в Советской стране чествуют труженика, а не собственника, как в капиталистических странах, где тот пальцем не шевельнет, картофелину сам не вырастит; за него работают батраки, а барыши получает он.
— В основу колхозной жизни ляжет груд, это вы все, наверное, понимаете, — закончил Рендниек. — Но здесь вам придут на помощь наука и техника. Они год за годом будут облегчать вашу жизнь. Это означает, что вам надо стараться достойно принять дары науки — учиться применять машины, пополнять ваши знания по сельскому хозяйству, внедрять в практику все новое, что достигнуто учеными в их долголетних трудах. Вам нужно расти сознательными советскими гражданами, уважающими и умножающими социалистическую собственность, вам надо уметь разбираться в политической обстановке.
После речи Рендниека начали обсуждать практические вопросы — о некоторых изменениях в уставе, об избрании представителей, которые поедут в уездный город и в Ригу.
— Я предлагаю изменить пункт о минимальном количестве трудодней, — сказал Эльмар Эзер, перелистывая устав артели.
— Сколько бы ты хотел — больше или меньше? — спросил Озол.
— Разумеется, больше! Надо установить, чтобы каждый выработал, по крайней мере, триста трудодней. Я согласен и на пятьсот.
— Очень хорошо! Но мне кажется, что лодырничать никто не собирается, поэтому особые правила нам не понадобятся, — возразила Мирдза.
— Нет, все же надо, — спорил Эзер. — Рабочие тоже берут на себя обязательства.
— Так ведь устав не запрещает нам соревноваться, — не уступала Мирдза.
— Работа оплачивается по трудодням, каждый будет заинтересован выработать больше. — Озол хотел примирить их, но Эзер перебил:
— Не всегда! У кого семья небольшая, может сказать, что ему хватит и поменьше трудодней, и не станет стараться.
— Ну, ладно, тогда запишем двести трудодней, — уступил Озол.
— Триста! — не сдавался Эзер.
— Как думают товарищи?
— Может быть, запишем двести, но возьмем обязательство выработать, по крайней мере, по триста. Нам ведь поначалу придется многое приводить в порядок, — высказался Лауск.
— А вы подумали о том, кто мог бы руководить колхозом? — спросил Рендниек.
— Еще не договорились, но считаем, что никто, кроме товарища Озола, — сказал Гаужен.
— Озола не хотелось бы ограничивать работой только в колхозе, — заметил Рендниек. — Он нужен всей волости.
— Без Озола нам трудно пускаться на такое дело, — воскликнул Акментынь. — Тут нужна такая голова, которая умела бы и в хозяйстве разобраться, и в политике.
— Против этого возразить трудно, — вздохнул Рендниек. — Вероятно, придется отдать его вам, но с условием, что он частично будет заниматься и всей волостью, пока не подготовит себе замену.
Центром колхоза избрали усадьбу Саркалисов, которая была построена для крупного хозяйства, с хлевом на тридцать коров и десять лошадей.
— Теперь нашему новорожденному не хватает только имени, остальное уже есть. — Озол с улыбкой посмотрел на колхозников.
— Товарищ Озол упомянул, что наш путь идет в гору, — неожиданно заговорил Эрик Лидум. — Может быть, мы так и назовем наш колхоз — «В гору»?
— «В гору»? — задумчиво переспросил Эльмар Эзер. — Подниматься в гору трудно, не лучше ли уж назвать «Вперед»?
— Неужели ты, Эльмар, думаешь, что у нас не будет никаких трудностей? — сказал Озол. — Мы не смеем думать, что все пойдет само собой, как с крыши покатится.
— Правильно, пусть название напоминает, что нам не следует забывать о трудностях подъема, — согласился Лауск. — Я уже раньше, глядя на нашу жизнь, иногда думал: трудно нам, война нас словно в яму столкнула. А чувствуешь все же, что все идет как бы вверх, в гору, — с трудом, но идет.
— У нашей горы нет такой вершины, взобравшись на которую, мы могли бы сказать: «Ну, все достигнуто, можем отдохнуть, спокойно рассуждать — гляди, на какую высоту мы взобрались, выше уж некуда». Только мы вообразим это — как сразу покатимся в пропасть, — сказал Рендниек.
— Значит, так и назовем — «В гору», — предложило несколько человек сразу, и Эзер не возражал.
Когда новые колхозники один за другим подписывали протокол, Мирдза подошла к Эрику и подала ему руку.
— Прости… я ошиблась, — сказала она извиняющимся голосом.
— И притом дважды, — добавил Эрик без всякой язвительности.
— Эрик!
— Так было, Мирдза.
— Ты меня упрекаешь?
— Нет. Больше нет. С тех пор, как понял, что первая твоя ошибка была в том, что ты переоценила меня.
— Эрик, я так рада! Ты высоко поднялся…
— …в гору, хотела ты сказать, не так ли? — улыбнулся Эрик.
Их беседу прервал громкий голос. Рендниек поздравил новых колхозников с организацией колхоза.
— Ну, теперь постарайтесь, — пожелал Рендниек, — чтобы жизнь на самом деле пошла в гору.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
АННА САКСЕ И ЕЕ РОМАН «В ГОРУ»
Анна Оттовна Саксе родилась 16 января 1905 года в семье мелкого крестьянина-ремесленника в глухой латышской деревне. А двадцать лет спустя в провинциальной газетке «Тукума зиняс» («Тукумские вести») под инициалами А. С. напечатано стихотворение, овеянное горестной тревогой о несовершенстве раздираемого ненавистью мира, который следовало бы создать заново. Это и был первый шаг Саксе в литературе.
Об истинно близких народу писателях можно сказать, что их произведения, созданные на разных этапах, составляют как бы законченные главы большой, охватывающей опыт всей жизни книги. В таких случаях развитие художника видится как непрерывный рост, как постепенное движение в гору, где после каждого шага вперед открываются все более широкие жизненные горизонты.
Таких писателей следует считать счастливыми даже в том случае, если им в жизни приходилось преодолевать немало трудностей. Они счастливы потому, что им нечего бояться болезненных поворотов, резких переломов, неожиданной смены позиций. Счастливы потому, что им не надо ни о чем умалчивать, ни от чего отрекаться, ничего приукрашивать. Счастливы потому, что их стремления к совершенству в жизни и мастерстве совпадают с четко осознанными перспективами исторического развития. К писателям, о которых можно сказать, что они вышли из народа и срослись с ним, принадлежит и Анна Саксе.
Недалеко от Леясциема и сейчас стоит срубленный из бревен домишко, где родилась, провела детство и раннюю молодость Анна Саксе. Пылающий горн в кузнице деда, вздохи мехов, одинокие часы на выпасах, рассказы отца — участника революции 1905 года, тяготы жизни окружающих — первые впечатления детства… Волостная школа, а затем Леясциемская гимназия раскрыли более широкий мир, раздираемый противоречиями между богатыми и бедными, заставляющий задумываться о судьбе трудового люда. Жизненные пути уводят Анну Саксе из родного края, и только изредка ей удается побывать в отцовском доме. Но привязанность к родной стороне звучит во многих произведениях писательницы.
Многое запечатлелось в сознании и от народной борьбы в 1919 году за советскую Латвию. Навсегда остался в памяти девочки-подростка расстрел двух комсомольцев, схваченных в лесу реакционерами.
Край молодости появляется в романах и рассказах Анны Саксе не только как фон или источник многих прототипов. Влияние его прежде всего сказывается на идейном развитии писательницы, связывая ее неразрывными узами с народным стремлением к счастью.
С постоянными унижениями связано обучение в университете, который из-за недостатка средств приходится оставить, поиски службы и работа корректором в рижской буржуазной газете. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Анна Саксе уже в 1930 году начинает выполнять поручения коммунистического подполья.
Творческие искания молодой писательницы ясно выражены в ее произведениях той поры. Недовольство окружающей действительностью, стремление к иной жизни, горечь несбывшихся мечтаний, иногда даже отчаяние — ведущие мотивы ее поэзии и некоторых рассказов. В подпольных изданиях у Саксе начинают звучать революционные мотивы.
Однако широкая писательская деятельность Анны Саксе начинается только в 1940 году, с восстановлением в Латвии советской власти.
«Хотя я пишу уже со школьных лет, — рассказывала Анна Саксе в 1954 году в уральской областной газете, — моя писательская биография по-настоящему начинается только с 1940 года, с установлением в Латвии советской власти… До советской власти не была издана ни одна моя книга, да меня и не считали писательницей… Зато, начиная с 1940 года, я работаю почти непрерывно, и с тех пор у меня вышли два романа, — «Трудовое племя» и «В гору», а также три сборника рассказов».
Эвакуировавшись в начале войны в Киров, писательница продолжает литературную деятельность, пишет очерки и рассказы. К опубликованному еще в 1940 году роману «Трудовое племя» прибавляются такие значительные для всего творчества Анны Саксе рассказы, как «Мирный обыватель» и «Возвращение в жизнь», повесть для молодежи «Три сарайчика» («Отряд командира Яника»).
Анна Саксе начала свою литературную деятельность в жанре малой прозы. Однако наиболее важными для творчества писательницы были романы. Распад патриархальных отношений в латвийской деревне и становление крестьянства на революционном пути («Трудовое племя», 1940 г.), преодоление интеллигенцией мелкобуржуазных колебаний и рост рабочего движения в условиях буржуазной Латвии («Искры в ночи», 1950—1955 гг.), разгром сил реакции и начало социалистического строительства («В гору», 1948 г.) писательница показывает как этапы единого исторического процесса, ведущего от капиталистического прошлого к социалистическому настоящему и коммунистическому будущему.
Роман «В гору» — первое прозаическое произведение, написанное Анной Саксе после изгнания немецких фашистов из Латвии. Книга эта — лучшее из того, что создала писательница, и в то же время одно из наиболее значительных произведений латышской советской литературы.
Анна Саксе возвращается в Латвию в августе 1944 года. В тревожном неведении относительно судьбы своих детей, она вслед за наступающей Советской Армией направляется на родину. По дороге она видит дымящиеся развалины, убитых фашистами мирных жителей.
«Как ее изуродовали, мою дорогую Латвию! — восклицает писательница, вспоминая эти дни. — Резекне, красивый латгальский городок, уничтожен чуть ли не до последнего дома. Города поменьше на протяжении всего пути от Лудзы до Мадоны почти полностью сметены с лица земли. От крестьянских домов остались одни печи с дымоходами. Обгорелые или подпиленные яблони вздрагивают словно в предсмертной агонии».
На вопрос читателей, как писался роман «В гору», Анна Саксе отвечает:
«Я написала роман в 1946—1947 гг., но самое написание книги — это только часть работы. Работа писателя и в собирании материалов, и в том, что он должен увидеть в жизни своих будущих героев, обдуманно подойти к жизни в главных чертах ее, переболеть теми проблемами, которые ставит жизнь, и самому их решить. Если подойти к работе над моим романом с этой точки зрения, то надо сказать, что я начала ее с той минуты, как вернулась в Латвию, как только я ступила на родную землю после более чем трехлетней эвакуации».
Так что замысел романа «В гору» возник задолго до начала работы над ним. В основу его легли впечатления от встречи с послевоенной Латвией, от бесед с людьми, которые пережили оккупацию и войну и взялись за восстановление разрушенного вражеским нашествием хозяйства. А с прототипами Озола и Бауски Саксе встретилась еще раньше, в 1942 году, на фронте, в латышской дивизии.
В душу писательницы глубоко запало все виденное и пережитое. Анне Саксе стало ясно, что события эпохи апеллируют к ее писательской совести:
«Я не могла, не смела не писать об этом. И в то же время я видела, что жизнь не стоит на месте, народная экономика идет вперед такими стремительными шагами, что мне, видевшей, как медленно, вяло Латвия оправлялась после первой мировой войны, надо было показать моему народу людей, поставивших перед собой грандиозную задачу — за короткий срок поднять родину из груды руин и сделать ее еще более прекрасной… Я хотела показать большевиков — самоотверженных, верных социалистической родине людей, и комсомольцев, авангард молодого поколения».
Широкая эпическая, словно подсказанная самой историей манера повествования, увлекающего в бурный поток событий все больше и больше людей, становится характерной особенностью художественной ткани романа «В гору». В острых столкновениях вырисовываются яркие образы и завязываются узлы сложных взаимоотношений. В дальнейшем развитии сюжета дается чуть ли не энциклопедическое представление о переломных процессах в жизни латвийской деревни.
Ведя читателя за Юрисом Озолом по его пути в родную волость, Саксе мастерски рисует картины конца лета 1944 года. Радостна и вместе с тем горестна для Юриса Озола новая встреча с краем детства и юности. На живописном когда-то берегу озера валяются вырубленные исполинские ивы. То тут, то там видны пустые блиндажи. Пшеничное поле изрыто траншеями. Но загубленная красота родной стороны еще не самое страшное. Куда страшнее ущерб, причиненный человеческим душам и жизням. Разоренная земля почти безлюдна, отступающий враг угнал население. Сумевшие укрыться еще прячутся в лесах, не зная, как далеко отступили немцы.
Тяжкие испытания не миновали и Озола. Его единственного сына забрали в немецкую армию, а дочь отдана в услужение кулакам, которые, удирая от Советской Армии, увезли ее с собой. Бремя этих испытаний оказалось не по силам жене Озола, сломило ее.
Анализ нравственных переживаний Озола важен по многим
причинам. Во-первых, обнаруживается свойственное Анне Саксе проникновение в психологию героя, что исключает схематическое изображение характеров. Во-вторых, в этом ясно видна верность традициям реалистического искусства. Как известно, сила этого искусства заключена в глубине социального исследования мира, увиденного сквозь призму человеческой души. И в романе «В гору» при сплетении противоречивых чувств линия раскрытия социальных явлений сливается с теми кроющимися в душе человека эмоциональными моментами, без которых произведение не может волновать сердце и ум читателя. И, наконец, этим как бы подчеркивается, какой большой душевной активности потребуют от вернувшихся на родную землю задачи созидания новой мирной жизни. Хотя орудия и отгремели, но борьба еще не закончена. Она продолжается в новых условиях, требуя нового напряжения сил, иногда более упорного, чем на фронте, где враг узнается по мундиру.
Рассказывая о трудностях борьбы в мирных условиях, писательница создает колоритную галерею образов, охватывающую чуть ли не все социальные группировки латвийской деревни того времени. Об одних Анна Саксе говорит с любовью, о других — с презрением, но, как в одном, так и в другом случае, писательница с большим художественным тактом избегает упрощений и односторонних окрасок. Так, вдумчиво, с глубоким пониманием психологии крестьянина создается образ старого Пакална, всю жизнь поившего землю своим потом. Ничто на свете не может его выбить из колеи. Немцы выгоняют его из дому, он ухитряется вернуться. Исчезла семья, Пакалн не сомневается, что она найдется. И сама война против немецких захватчиков кажется ему вполне естественной: «Если вошь по тебе лезет, то ее надо раздавить».
Такие люди, как Пакалн, сразу же стали на сторону советской власти. Но привыкшего к тесноте своего двора труженика порой нелегко привлечь к участию в новой жизни: его дело, мол, землю копать. Начинания советской власти он поддерживает, обязанности свои перед государством выполняет образцово, но от любой должности отмахивается.
С тем же уважением к трудовому человеку, только, может быть, с еще большей теплотой, писательница рисует образ забитого жизнью батрака Яна Приеде, которого по инициативе Озола назначают председателем волисполкома. Ян Приеде в жизни не видел ничего, кроме тяжелого труда и несправедливостей. Именно, поэтому Озолу казалось, что бывший батрак лучше других поймет нужды тружеников и будет справедлив. Но получилось не так. Благое намерение оказалось серьезной ошибкой. Порядочного Яна трудная жизнь изъела, как ржавчина железо. Яну не только недостает знаний, в нем подавлена всякая инициатива, он вял и пассивен. Поэтому бывшие хозяева опутывают его, точно пауки муху.
Строго соответствующее действительности размещение социальных сил по определенным, но все же отвечающим особенностям каждого характера позициям является одной из отличительных черт романа «В гору».
С этим мы встречаемся уже в экспозиции романа, с дифференцированным изображением угнанных из своих усадеб жителей волости. Все они вырваны из привычной среды, все они потеряли большую или меньшую часть своего имущества, всем им одинаково грозит разлука с родной стороной. Однако к развивающимся событиям они относятся по-разному. И как бы далека ни была писательница от какого-либо «социального автоматизма», который с фатальной неизбежностью определял бы позиции отдельных людей в борьбе двух миров, разграничительная линия между ними в основных чертах совпадает с классовым различием этих людей.
Такие середняцкие семьи, как Лидумы, Балдыни, Пакалны и многие другие, немало натерпелись от немецких оккупантов и их приспешников-кулаков. Изгнание немецких захватчиков значило для них, в первую очередь, возвращение к мирному труду, возможность вновь увидеть своих сыновей и дочерей, угнанных на чужбину.
Для бедняков освобождение от немецкого ига означало возвращение полученной от советской власти земли, которую в годы оккупации отняли кулаки, а порою и возвращение сыновей, мужественно сражавшихся в Советской Армии.
Верная жизненной правде, писательница показывает и других людей, для которых освобождение от гитлеровцев было концом их господства и началом неизбежной расплаты за содеянные преступления. Продолжая разоблачение сельских мироедов и стяжателей, с которыми мы встречаемся уже в первом романе А. Саксе «Трудовое племя», писательница создает колоритные образы врагов советской власти.
Главное место среди них занимает Вилюм Саркалис, верный слуга оккупантов, вместе с ними участвующий в уничтожении мирного населения. Особенно он активен в угоне местной латышской молодежи во вражескую армию. Не скрывает своей ненависти к советской власти и колченогий Густ Дудум, бывшие батрачки которого скитаются по соседним волостям с прижитыми от него детьми. Из-за физического недостатка Дудум немцам не служил. Еще более «безупречной» его биографию делает то обстоятельство, что он даже не состоял в айзсаргах. Под стать им сквалыга и стяжатель Думинь. Ежедневно он объезжает оставшиеся без хозяев усадьбы и набивает свой сарай чужим добром.
С животной жадностью цепляется за свое имущество лицемерный слуга божий Август Мигла. Обоих сыновей он выкупил из легиона за жирно откормленную свинью. Когда же возвращается Советская Армия, он прячет их в лесу. С ненавистью следят они за тем, что же произойдет с огромными земельными угодьями отца.
Вместе с А. Саксе читатель становится свидетелем того, как в круг общественных противоречий втягиваются все слои населения. Лютеранские пасторы в Латвии, как правило, служили только власть предержащим, и не один из них стал соучастником вражеских злодеяний. Сложнее путь бывшего студента-богослова, сына сельского хозяина Салениека. В поисках правды он еще раньше пришел на позиции либерального свободомыслия, хотя оно и выражалось лишь в откровенном высмеивании церкви и ее слуг. Годы фашистской оккупации заставили переоценить общественные ценности. Молодой Салениек вынужден выбирать свой путь в сложных условиях борьбы.
Рассказывая о судьбе волостного писаря Янсона, писательница с острым сарказмом выступает против распространенных в некоторой части интеллигенции настроений невмешательства. Уже в первый год советской власти Янсон держался в стороне от «грубой политики», с болью следя за тем, как ею увлекается его жена Эльза. Жена уходит вместе с Советской Армией. Янсон ждет ее возвращения. Даже хранит любимые ею советские книги, но сам тем временем подмазывается к шуцманам, чтобы спокойно пережить войну.
Сознавая важность гражданской активности, особенно в послевоенные годы, писательница очень четко определяет дальнейший путь труса, используя для этого местами фельетонную манеру повествования. Анна Саксе беспощадно разоблачает несостоятельность философских лохмотьев, которыми пытается прикрыть свою душевную наготу этакий «пацифист» и «мирный обыватель». В главе с многозначительным названием «Пацифист становится убийцей» Янсон гибнет. Переход от лирических рефлексий к бандитским действиям внезапен, «пацифист» обагряет руки кровью, и его существованию приходит конец.
Охватывающая чуть ли не все прослойки латвийской деревни галерея образов в романе «В гору» сочетается с исчерпывающим показом конкретных типических обстоятельств послевоенных лет.
Возвращение демобилизованных воинов, первые шаги в создании органов советской власти, организация уборки урожая на бесхозных полях и поставок, так необходимых фронту, восстановление разрушенного хозяйства, раздел земли между бывшими батраками и безземельными крестьянами, борьба с бандитизмом, организация машинно-прокатного пункта, первые шаги к созданию сельскохозяйственных артелей, успехи и неудачи в воспитании кадров и многие другие проблемы экономической и политической борьбы не только упомянуты ради «современности», колорита в романе. Они стали главным содержанием деятельности изображенных в романе людей, и вместе с тем причиной конфликтов, при решении которых раскрываются человеческие характеры.
Но в то же время писательница остается в границах художественного произведения, избегая голой публицистичности. Конкретные приметы времени для нее не стали предметом экономического или исторического исследования, они служат показу важных для художественного произведения типических условий. Как и вообще в реалистическом искусстве, в литературе социалистического реализма всегда остается в силе тезис о типических условиях, как о предпосылке для изображения типических характеров. Но именно показ этих условий порой таит в себе наибольшие трудности. Об этом стоит напомнить потому, что в последние годы в произведениях латышской литературы, повествующих о жизни латвийской деревни, нередко отсутствует глубина в обрисовке характеров и изображении жизни. Это, очевидно, объясняется поверхностным восприятием действительности. Анна Саксе борьбу за построение новой жизни в латышской деревне в первые послевоенные годы сумела показать с яркой правдивостью, с характерной для эпохи конкретностью, в неустанном росте положительных жизненных сил.
Насколько писательница чужда всяким украшательским тенденциям, видно по таким созданным ею образам, как Юрис Озол и его дочь Мирдза.
Уверенность Озола в том, что с изгнанием облаченного в военную форму врага борьба еще не закончена, вскоре подтверждается. Откровенные противники советской власти уходят в леса, терроризируют население, совершают диверсии. Еще пускается в ход оружие и льется кровь. Не менее трудным было и одоление скрытого сопротивления кулаков и их приспешников.
Скомпрометировать советскую власть и сохранить свое влияние — главная цель врага. Он ловко использует неопытность молодых советских работников. Махинации противника иногда достигают цели. Даже такой знающий жизнь человек, как старый Пакалн, обращается к комсомолке Мирдзе с недоуменными вопросами. А девушка сама ищет объяснения событиям, которые происходят вокруг нее. Жизнь, как шумящий в весеннее половодье поток, выбрасывает на поверхность муть и мусор. Мирдзу одолевают мысли:
«Как все усложняется и запутывается, все иначе, чем она мечтала в мрачные годы немецкого господства. Казалось, что стоит только прогнать немцев и их прислужников — шуцманов, и сразу лицо всей страны изменится — люди станут самоотверженными, будут помогать друг другу в восстановлении разрушенного, и общие интересы станут преобладать над личными.
Но это не так, совсем не так, хотелось кричать. Даже на мельнице не мелят тому, кто не дает взяток. Как противно — точно при немцах, когда без куска масла и бутылки водки нельзя было зайти даже к сапожнику или портному. А в учреждениях, которые должны это видеть, — равнодушие. Даже не отвечают на жалобы… и все это обращается против советской власти. И вот она, Мирдза, не в состоянии больше так смело смотреть каждому в глаза, не может с гордостью сказать: видите, мы сразу же сделали жизнь лучше, извели взяточничество, справедливо распределили землю, желающих учиться послали в школы, в учреждениях у нас работают частные, отзывчивые люди. Разве теперь можно это с уверенностью сказать?»
Мирдза очень искренна в своих переживаниях. Секрет ее привлекательности хорошо раскрыл в своей статье в связи с присуждением Анне Саксе Государственной премии Андрей Упит:
«В романе особенно выделяется образ одной комсомолки, который создан писательницей с особой теплотой… эта девушка сама по себе не только удалась лучше других многих женщин в романе, но является также олицетворением всей молодой, цветущей, идущей в гору жизни латвийской советской деревни».
Однако, как ни горяч запал девушки, настоящую закалку она получает, только пройдя сквозь сложности и трудности жизни. Мирдза порою близка к отчаянию. Честь комсомола запятнана принятием в его ряды недостойного человека, кругом происходит много несправедливого, и нет сильной руки, которая одернула бы наглецов, помогла бы честным людям, нет человека, который увлек бы за собой равнодушных. Но все это должна сделать сама Мирдза, хоть у нее еще мало знаний и опыта.
Характер Мирдзы не получился бы столь многогранным и психологически достоверным, если бы писательница показала ее только в так называемых общественных отношениях. Характер девушки раскрывается и в кругу чисто личных переживаний, что придает образу полнокровность.
Те же творческие принципы определили и образ Юриса Озола.
В начале романа знакомство с Юрисом Озолом довольно поверхностно. Озол какое-то время даже остается в стороне от событий. И только тогда, когда борьба в волости обостряется, мы видим Озола активно действующим, узнаем его как человека и партийного работника.
Хозяйство волости не очень обширно, но Озолу ежедневно приходится сталкиваться все с новыми проблемами. Порою он устает от бесчисленных повседневных забот и сердится:
«Куда ни глянешь, всюду приходится сталкиваться с подлостью, халатностью и просто свинством. Во время войны все было проще, ты знал: перед тобой противник, но кругом друзья, у которых, как и у тебя, одна мысль, одно желание — скорей разбить врага, а здесь порою не знаешь, кто друг, кто враг».
Однако такие минуты не продолжительны. Озол понимает, что бюрократы и разгильдяи причиняют не меньше вреда, чем лесные бандиты. Он уверен, что советское государство не потерпит таких болячек. Это убеждение заставляет его действовать еще активнее, ибо советское государство — это и он сам, и каждый честный человек волости.
Правдивое изображение суровой жизни, первых послевоенных лет — одна из отличительных черт романа «В гору». Оно обретает особое значение, когда вспоминаешь атмосферу тех времен, а также более поздние бесплодные споры о «лакировке» или «очернении» жизни. Анну Саксе не интересует «проблема» сознательной дозировки «положительного» и «отрицательного» в литературных героях, ей так же безразличны споры о раскрашивании действительности в розовые или мрачные тона. Истинный художник никогда не думает о том, в каких соотношениях и пропорциях те или иные качества отпускать своим героям, а думает только о жизненности самого характера. Точно так же он не ходит по лавкам конъюнктурной оптики и не подбирает себе очки того или иного цвета, а глубоко изучает людей, самую жизнь, постигает ее закономерности и движущие силы, ибо только так можно создать истинно художественное произведение. Эта тенденция намечается уже и в ранних работах Анны Саксе, однако свое более полное воплощение она получает в романе «В гору».
Юрис Озол растет вместе со своим временем, при трудном подъеме в гору, он преодолевает серьезные семейные осложнения, радуется своей деятельной дочери, переболевает отцовским горем из-за гибели сына, совершает ошибки, исправляет их, учится активному отношению к жизни.
Политически умно, человечно, с мудрой терпимостью Озол в финале романа приводит трудовых крестьян к пониманию преимуществ социалистических форм хозяйствования. Этим венчается его деятельность и, точно мощным аккордом, завершается сам роман.
Во время его написания коллективизация латышской деревни только начиналась. Своей книгой Анна Саксе активно вмешалась в этот процесс, показав его, с одной стороны, как закономерное следствие предшествовавшей борьбы сельских тружеников, а с другой, — четко подчеркнув необходимость конкретных психологических и политических условий при проведении коллективизации.
В этом смысле интересно в романе и противопоставление двух типов работников и двух методов руководства. Для парторга соседней волости коллективизация стала лишь очередной кампанией, в большой мере даже средством, способствующим личной карьере. К созданию первого колхоза он относится как к какому-то рекорду, который нельзя уступить другим. Голое администрирование, запугивание, всякого рода принудительные средства кажутся ему не только допустимыми, но даже необходимыми.
Совсем по-иному ведет себя Юрис Озол. Переход к социалистическим формам хозяйствования является для него частью работы по строительству новой жизни, в которой значительное место занимает формирование самого человека. Озол не торопится с непродуманными предложениями, он старается создать надежную основу для нового начинания.
И даже тогда, когда условия для первого шага к новой жизни как будто уже созрели, Юрис Озол не поддается дешевым соблазнам. Вдумчивый партийный работник, он понимает, что новый человек формируется трудно, в сомнениях, в столкновении противоречий, постепенно освобождаясь от старых привычек. И по той же причине, надо полагать, первому колхозу волости дается такое многозначительное название — «В гору». Оно напоминает о больших трудностях, которые еще предстоит преодолеть в будущем, не позволяет успокаиваться.
События последующих лет подтвердили правдивость и жизненность позиций и методов руководства таких партийных деятелей, как Юрис Озол. Они также полностью оправдали подчеркнуто последовательное выдвижение партийного работника ленинского типа, воплощенного в образе Юриса Озола. Если во время возникновения романа и в пору изображенных в нем событий такие работники и их методы руководства были не очень в чести, то это обстоятельство только повышает общественно-политическое значение романа Анны Саксе.
В. МЕЛНИС
КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
Айзсарги — члены военно-фашистской организации латышского кулачества. В годы Великой Отечественной войны они занимались террором и шпионажем.
Арайс-Берце, Август (1890—1921) — латышский революционный писатель, коммунист. В 1920 году был редактором нелегальной большевистской газеты «Циня».
«Братская община» — религиозная секта.
Комильтоны «Селонии» — члены реакционной латышской студенческой корпорации.
«Конзум» — потребительское общество в буржуазной Латвии.
«Крестьянский союз» — кулацкая партия, возглавлявшаяся Ульманисом. (см.).
Оккультизм (
лат. occultus — тайный, сокровенный) — система суеверных представлений о таинственных силах и сверхъестественных свойствах природы, доступных якобы познанию «избранных», «посвященных».
«Перконкруст» («Крест Перуна») — фашистская организация.
Густав Целминь — гитлеровский агент, главарь перконкрустовцев.
По́рук, Ян (1871—1911) — латышский писатель. Автор рассказов, повестей, стихотворений, поэм.
Пура — мера объема сыпучих тел, равная приблизительно 70 литрам.
Пурвиета — старинная латышская земельная мера, соответствующая примерно 1/3 гектара.
Скалбе, Карлис — латышский писатель, мелкобуржуазный романист.
«Тевия» («Отечество») — газета, издававшаяся в Латвии гитлеровскими оккупационными властями.
Ульманис — диктатор буржуазной Латвии.
«Циня» («Борьба») — центральный орган Коммунистической партии Латвии, основанный в 1904 году.
Чангалы — презрительное прозвище неимущих жителей Латгалии.
Примечания
1
Прочь! В данном случае: Выходи вон!
(нем.).
(обратно)
2
Яйца
(нем.).
(обратно)
3
Завтрак
(нем.).
(обратно)
4
Пространство
(нем.).
(обратно)
5
Прозвище, данное связисткам в гитлеровской армии
(нем.).
(обратно)
6
Свободно от евреев!
(нем.).
(обратно)
7
Излюбленные слова Ульманиса.
(обратно)
8
Обстановка
(англ.).
(обратно)
9
Я вам
(латыш.).
(обратно)
10
Рай
(латыш.).
(обратно)
Оглавление
1
ВОЗВРАЩЕНИЕ
2
ЧЛЕН ПАРТИИ
3
ВОЛОСТИ НУЖЕН ХОЗЯИН
4
РАЗВЕ ЭТО МОЖНО ПРОСТИТЬ?
5
ОПУСТОШЕННЫЕ ГНЕЗДА
6
ВОЛОСТНОЕ СОБРАНИЕ
7
РАЗОРВАННЫЕ УЗЫ
8
ЧЕСТЬ И КОРЫСТЬ
9
РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ
10
РАЗМОЛВКА
11
ВОСКРЕСНИК В ШКОЛЕ
12
ЗЕМЛЯ
13
ОТВЕРГНУТЫЕ ИСТОРИЕЙ
14
В ВОЛОСТИ НЕТ ПОРЯДКА
15
КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
16
СВЕЖИЙ ВЕТЕР
17
ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА
18
ПАЦИФИСТ СТАНОВИТСЯ УБИЙЦЕЙ
19
ПАРТОРГ ВОЛОСТИ
20
ПОБЕДА
21
УКУС ГАДЮКИ
22
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
23
ШАГИ НЕ СОВПАДАЮТ
24
БОЛЬШЕ СВЕТА
25
ПЯТИЛЕТКА НАЧАЛАСЬ
26
БОРЬБА ЗА ХЛЕБ
27
СИЛА ПРИВЫЧКИ
28
В ГОРУ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
АННА САКСЕ И ЕЕ РОМАН «В ГОРУ»
КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
*** Примечания ***


 Справа замерцало озеро. Лес на берегу был сплошь вырублен, высокие ивы, вдоль и поперек, лежали друг на друге. На берегу были видны пустые блиндажи и ящики из-под боеприпасов. Пшеничное поле все изрыто траншеями. Так часто видел Озол эту картину; но все же на родной стороне, где знакомы и запечатлены в памяти каждое дерево, каждый куст и даже цветок на обочине дороги, следы происходивших здесь битв кричат о бедствиях войны громче, чем где-либо в ином месте.
Постройки имения уцелели. «Это хорошо, будет где разместить МТС», — хозяйским глазом Озол окинул недавно выстроенный сарай. Но сейчас же горячая волна прихлынула к лицу — оно стало багровым от злости: свезенные к сараю сельскохозяйственные машины — косилка, жнейка, картофелекопатель, конные грабли, — все это было разворочено гранатами. «Негодяи!» — выругался Озол, и сам удивился, что это его так сильно задело за живое. Как изменилось у него в эти годы представление о собственности. Теперь все личное казалось мелочью, а тут были разрушены машины, которые бы так пригодились в восстановлении волости.
За имением он свернул на проселочную дорогу, что вела к его усадьбе. Только небольшой лесок впереди — и за ним уже должен был показаться его дом. Озол почувствовал, что дыхание стало прерывистым, — задыхаясь, он усиленно глотал воздух, как окунь, выброшенный на берег. Он заставил себя идти быстрее, а в лесу даже попробовал бежать, но у него заболел раненый бок. Выйдя из леса, он увидел свой домик — невредимый, гревшийся на солнце, и трубу его, из которой тонкой прямой струей поднимался белый дым — день был безветренный. Дымящаяся труба — как много сулит она человеку, возвращающемуся к своему дому после столь длительного отсутствия. Дымок говорит о том, что в доме есть жизнь, живое существо, которое встретит тебя с радостным возгласом, поспешит поставить на стол миску с горячей едой, торопливо и сбивчиво начнет рассказывать: сперва, может быть, о самом незначительном и в обратном порядке — сначала о последних событиях, потом о более ранних.
Дверь дома отворилась, вышла женщина, — это, несомненно, была Ольга. Она остановилась посреди двора и, защитив от солнца глаза ладонью, стала смотреть на путника. Вероятно, не узнав, пошла в сторону сарайчика, возле которого лежали дрова. Взяла охапку дров, еще раз взглянула и вдруг, бросив дрова, с восклицанием: — Юрис! Юрис! — побежала ему навстречу.
В первые минуты, после того как они поздоровались, разговор не вязался. По ее лицу, по прядям поседевших волос, выбивавшимся из-под косынки, Озол увидал, что эти годы были для Ольги нелегкими. Сердце его жег вопрос: «Где дети?», но он не решался спросить, чувствуя по взгляду жены, что произошло какое-то несчастье; к радости встречи примешалась горечь.
Они вошли в свой дом. Ольга помогла Юрису снять вещевой мешок, усадила за стол. И, чтобы не говорить, засуетилась в поисках тарелки, ножа, вилки; выбежала на кухню, затем вернулась, браня немцев, которые все же нашли зарытую в землю посуду и перебили ее. Она рассказала, как жандармы, бряцая цепями на шее, ходили по домам и кричали: «Век!» Век!»[1] — и как люди зарывали в землю свои пожитки, со скотом и повозками прятались в лесах и болотах, но об этом разнюхивали свои же шуцманы и угоняли их. Удалось остаться только тем, кто не примыкал к большим группам, а отдельными семьями прятались в лесу. Рассказала о себе: как с лошадью, коровой и овечкой в последнюю ночь перед изгнанием забралась в перелесок, что за Волчьим болотом, и кормила скотину хлебными корками, чтобы та не откликалась на громкое мычанье, доносившееся с большака, по которому беспрерывным потоком, с повозками и скотом, двигались люди, подгоняемые жандармами и их собаками, чтобы не свернули в лес.
Юрис заметил, что жена говорит торопливо, перескакивая с одного на другое, словно опасаясь молчания. Он понимал, что Ольга боится вопроса: «Где дети?» и старается отдалить страшный ответ. Озолу стало как-то не по себе от сознания своей слабости, обидно за жену, оберегающую его, как малого ребенка. И он оборвал Ольгу резким прямым вопросом:
— Ну, а где Карлен и Мирдза?
Ольга вздрогнула, как от выстрела, грянувшего втихую ночь. На щеках выступили багровые пятна, из глаз брызнули слезы.
— Увезли… — громко всхлипнула она и дала волю слезам. Припав к плечу мужа, она рассказала, как Карлена в первый же год после прихода немцев выгнали из школы, как он не смел показываться ни в местечке, ни в волостном клубе, где хозяйские сынки, готовые выколоть ему глаза, называли его «красногалстучником» за то, что был пионером. Нынче летом, когда мальчику минуло семнадцать лет, он во что бы то ни стало хотел уйти в лес — говорил, что пойдет к партизанам. Она упросила его остаться. Все казалось, что еще мал, какой из него вояка. Но немцы усадили их, почти еще детей, на машины и увезли. В августе, когда объявили мобилизацию ребят его возраста, о бегстве уже нечего было и думать. Шуцманы шныряли по усадьбам, как борзые псы, грозились сжечь дома и расстрелять матерей и родственников мобилизованных, если те попытаются бежать. Карлена увезли, как и всех.
Юрис помрачнел. В груди закипала обида на жену, не пустившую Карлена к партизанам; тогда он остался бы здесь. А теперь? Не будь у него тяжелого ранения, они, сын и отец, сидели бы каждый в своем окопе и стреляли друг в друга. Не из ненависти, не из-за разности мировоззрений, но из-за нелепого насилия и вот ее, матери и жены, слабости. Старая песенка всех матерей: сынок, дескать, еще мал, кто за ним в лесу будет ходить, кто даст поесть. У него с языка чуть было не сорвался упрек, но он вовремя сдержался. Ольга и так была разбита; она, наверное, и сама себя проклинала. И не получится ли так, что он все бремя вины, давившее его все эти годы, взвалит на жену: неси, мол, его дальше, а я счастливо отделался. Возможно, этим летом, когда ей надо было решиться, как быть, Ольга растерялась точно так же, как он, когда должен был уехать.
— А где Мирдза? — его опять кольнуло в сердце и мгновенно в мозгу пронеслись все уже испытанные опасения, все допущенные им возможности, заставлявшие его бороться с самим собою, высмеивать себя, называть обманщиком, который пытается обмануть судьбу: раз я от тебя ничего не жду, ни на что не надеюсь, то ты не можешь уготовить мне ничего такого, что удивило бы меня. Он подумал — лицемеришь и тайно надеешься, что судьба оставит тебя в покое, пощадит, просто потому, что не стоит с тобой возиться, ведь все равно ей не оглушить тебя внезапным ударом, — ты ко всему готов.
— Мирдзу увезли с собою хозяева, наши же Саркалисы, — показала Ольга рукой в сторону большого соседнего хутора.
— Как, разве Мирдзе нужно было идти в услужение к хозяевам? — вспылил Юрис. — Разве у вас в своем доме не хватало хлеба и работы?
— Хватать-то хватало, — Ольга бессильно махнула рукой, — но не разрешили работать. Все вызывали в волостное правление и предупреждали, что на нашем клочке земли слишком много людей, одного человека необходимо отдать. Если Мирдза не наймется к Саркалисам, то ее пошлют на работу в Германию. Тогда мы порешили, что лучше уж здесь остаться, на месте, по крайней мере, не разлучимся.
— А ты не могла спрятать ее в перелеске за Волчьим болотом? — начал было Юрис с такой укоризной в голосе, что Ольга съежилась и в глазах у нее сверкнули слезы.
— Юрис, что ты говоришь! — упрекнула теперь она. — Саркалисы уехали отсюда, когда еще никого не угоняли. Только он сам остался, был шуцманом. Бегал по лесу, угрожая расстрелять всех, кто ждет большевиков. Как же Мирдзиня могла не ехать… Как же я могла ее спрятать? Ты говоришь это так, словно я не выплакала своих глаз.
Озол, мрачный, молчал. Он сознавал, что был несправедлив к жене. Он удивлялся и сам спрашивал себя, куда девалась нежность, согревавшая его сердце на фронте или в госпитале, когда он думал о своем доме, детях, жене. Где все те ласковые слова, с которыми он обращался к ним, когда его никто не слышал? Сейчас ему казалось, что близкие обидели его, не сумели остаться и дали себя угнать в позорную неволю.
— Не плачь, Ольга, — попытался Юрис преодолеть чувство досады. Но он произнес холодное «Ольга» вместо сердечного «Оля» и, чтобы исправить это, неуверенно погладил руку жены. Эта неловкая ласка растопила застывшие слезы Ольги и, припав, обессиленная, к плечу мужа, она безудержно зарыдала.
— Юрис, Юрис, вот какая наша встреча! — прорвались сквозь слезы слова, полные горя. — Сколько мы а тебе говорили, думали, как тебя встретить… Но получилось совсем иначе… Проклятые немцы! — воскликнула она. — Увезли нашего Карлена… словно от сердца кусок оторвали… И где теперь Мирдза скитается?..
— Не плачь, Оля, — Юрис нежно погладил волосы жены, с которых соскользнул платок и открыл уже пробившуюся седину. — Может быть, они найдут дорогу обратно. Пока дитя живет под крылышком матери, оно слабо, как птенец, но едва станет самостоятельным, начинает защищать себя. Оля, все будет хорошо. — Убеждая жену, Озол сам верил своим словам. — Вот увидишь — они вернутся!
В это мгновение он вспомнил юношей и девушек, потерявших родителей, но правдой или неправдой попавших в латышскую стрелковую дивизию и привыкнувших к военной жизни. Это только предубеждение родителей, что дети беспомощны, что их нужно опекать. Жизнь учит быстрее школ и книг.
Ольга сразу же пришла в себя, будто именно этих слов ждала она от Юриса. Ей так хотелось услышать, что дети вернутся, и когда это сказал муж, сам только что вернувшийся после долгих, столь тяжелых лет разлуки, то ему можно было поверить.
Чтобы рассеять накопившиеся чувства, Озол попросил жену показать ему, что осталось от их маленького хозяйства. Ольга засуетилась, начала было убирать со стола посуду и еду. Увидев, что Юрис едва прикоснулся к пище, повернулась к нему и недоуменно пробормотала:
— Как же это так? Почему ты не ешь? У вас ведь там, на войне, не бог весть как… — она осеклась на полуслове.
Юрис вспомнил прочитанное вчера в «Тевии» о заморенных голодом латышах, и на лбу у него легла поперечная складка. Неужели и Ольга поверила? «Да что я! — упрекнул он себя. — Она измучена горем — вот у нее иногда и сорвется необдуманное, случайное слово».
Ольга вернулась из кухни, схватила жакет и стала надевать, но никак не могла попасть в рукава. Юрис заметил, что она держит одежду наизнанку. Он взял у нее жакет и помог ей одеться.
Они вышли во двор. Собачонка, бегавшая в первое лето войны еще маленьким щенком, недоверчиво посмотрела на своего хозяина и зарычала…
— Вот тебе и раз, — рассмеялся Юрис, — не хочет признать меня. И впрямь чудно, даже собака напоминает о том, что прошли годы, а не дни.
Ольга не ответила. Они молча прошли за дом и остановились. Молодые яблони лежали на земле спиленные. Даже ягодные кустики были срублены. Над ульями не видно было ни одной пчелы.
Озол отвернулся. Ему часто приходилось видеть опустошенные сады, но обломанные при падении, острые ветви яблоньки, некогда посаженной им, казалось, разбередили у него рану в боку, и она заныла. Однако Юрис не дал болезненному ощущению овладеть сердцем. Он обратил свой взор к горизонту. Вдали, окутанный синеватой дымкой, вырисовывался спокойный, неподвижный бор, на небе пылало красновато-желтое вечернее зарево, а над верхушками деревьев лежала темно-серая полоса облаков. Вся природа была насыщена мирной тишиной уходившего лета; до самого леса, на равнине и на склонах, желтели созревшие хлеба, уже давно тосковавшие по жнецу.
И вот эта, столько раз виденная картина — бор вдали и закат над ним — такая привычная, что он, даже закрыв глаза, мог бы видеть каждую выдававшуюся верхушку дерева, — убедила Озола, что он у себя дома, в родном краю, о котором он столько мечтал и к которому стремился все эти три года.
Справа замерцало озеро. Лес на берегу был сплошь вырублен, высокие ивы, вдоль и поперек, лежали друг на друге. На берегу были видны пустые блиндажи и ящики из-под боеприпасов. Пшеничное поле все изрыто траншеями. Так часто видел Озол эту картину; но все же на родной стороне, где знакомы и запечатлены в памяти каждое дерево, каждый куст и даже цветок на обочине дороги, следы происходивших здесь битв кричат о бедствиях войны громче, чем где-либо в ином месте.
Постройки имения уцелели. «Это хорошо, будет где разместить МТС», — хозяйским глазом Озол окинул недавно выстроенный сарай. Но сейчас же горячая волна прихлынула к лицу — оно стало багровым от злости: свезенные к сараю сельскохозяйственные машины — косилка, жнейка, картофелекопатель, конные грабли, — все это было разворочено гранатами. «Негодяи!» — выругался Озол, и сам удивился, что это его так сильно задело за живое. Как изменилось у него в эти годы представление о собственности. Теперь все личное казалось мелочью, а тут были разрушены машины, которые бы так пригодились в восстановлении волости.
За имением он свернул на проселочную дорогу, что вела к его усадьбе. Только небольшой лесок впереди — и за ним уже должен был показаться его дом. Озол почувствовал, что дыхание стало прерывистым, — задыхаясь, он усиленно глотал воздух, как окунь, выброшенный на берег. Он заставил себя идти быстрее, а в лесу даже попробовал бежать, но у него заболел раненый бок. Выйдя из леса, он увидел свой домик — невредимый, гревшийся на солнце, и трубу его, из которой тонкой прямой струей поднимался белый дым — день был безветренный. Дымящаяся труба — как много сулит она человеку, возвращающемуся к своему дому после столь длительного отсутствия. Дымок говорит о том, что в доме есть жизнь, живое существо, которое встретит тебя с радостным возгласом, поспешит поставить на стол миску с горячей едой, торопливо и сбивчиво начнет рассказывать: сперва, может быть, о самом незначительном и в обратном порядке — сначала о последних событиях, потом о более ранних.
Дверь дома отворилась, вышла женщина, — это, несомненно, была Ольга. Она остановилась посреди двора и, защитив от солнца глаза ладонью, стала смотреть на путника. Вероятно, не узнав, пошла в сторону сарайчика, возле которого лежали дрова. Взяла охапку дров, еще раз взглянула и вдруг, бросив дрова, с восклицанием: — Юрис! Юрис! — побежала ему навстречу.
В первые минуты, после того как они поздоровались, разговор не вязался. По ее лицу, по прядям поседевших волос, выбивавшимся из-под косынки, Озол увидал, что эти годы были для Ольги нелегкими. Сердце его жег вопрос: «Где дети?», но он не решался спросить, чувствуя по взгляду жены, что произошло какое-то несчастье; к радости встречи примешалась горечь.
Они вошли в свой дом. Ольга помогла Юрису снять вещевой мешок, усадила за стол. И, чтобы не говорить, засуетилась в поисках тарелки, ножа, вилки; выбежала на кухню, затем вернулась, браня немцев, которые все же нашли зарытую в землю посуду и перебили ее. Она рассказала, как жандармы, бряцая цепями на шее, ходили по домам и кричали: «Век!» Век!»[1] — и как люди зарывали в землю свои пожитки, со скотом и повозками прятались в лесах и болотах, но об этом разнюхивали свои же шуцманы и угоняли их. Удалось остаться только тем, кто не примыкал к большим группам, а отдельными семьями прятались в лесу. Рассказала о себе: как с лошадью, коровой и овечкой в последнюю ночь перед изгнанием забралась в перелесок, что за Волчьим болотом, и кормила скотину хлебными корками, чтобы та не откликалась на громкое мычанье, доносившееся с большака, по которому беспрерывным потоком, с повозками и скотом, двигались люди, подгоняемые жандармами и их собаками, чтобы не свернули в лес.
Юрис заметил, что жена говорит торопливо, перескакивая с одного на другое, словно опасаясь молчания. Он понимал, что Ольга боится вопроса: «Где дети?» и старается отдалить страшный ответ. Озолу стало как-то не по себе от сознания своей слабости, обидно за жену, оберегающую его, как малого ребенка. И он оборвал Ольгу резким прямым вопросом:
— Ну, а где Карлен и Мирдза?
Ольга вздрогнула, как от выстрела, грянувшего втихую ночь. На щеках выступили багровые пятна, из глаз брызнули слезы.
— Увезли… — громко всхлипнула она и дала волю слезам. Припав к плечу мужа, она рассказала, как Карлена в первый же год после прихода немцев выгнали из школы, как он не смел показываться ни в местечке, ни в волостном клубе, где хозяйские сынки, готовые выколоть ему глаза, называли его «красногалстучником» за то, что был пионером. Нынче летом, когда мальчику минуло семнадцать лет, он во что бы то ни стало хотел уйти в лес — говорил, что пойдет к партизанам. Она упросила его остаться. Все казалось, что еще мал, какой из него вояка. Но немцы усадили их, почти еще детей, на машины и увезли. В августе, когда объявили мобилизацию ребят его возраста, о бегстве уже нечего было и думать. Шуцманы шныряли по усадьбам, как борзые псы, грозились сжечь дома и расстрелять матерей и родственников мобилизованных, если те попытаются бежать. Карлена увезли, как и всех.
Юрис помрачнел. В груди закипала обида на жену, не пустившую Карлена к партизанам; тогда он остался бы здесь. А теперь? Не будь у него тяжелого ранения, они, сын и отец, сидели бы каждый в своем окопе и стреляли друг в друга. Не из ненависти, не из-за разности мировоззрений, но из-за нелепого насилия и вот ее, матери и жены, слабости. Старая песенка всех матерей: сынок, дескать, еще мал, кто за ним в лесу будет ходить, кто даст поесть. У него с языка чуть было не сорвался упрек, но он вовремя сдержался. Ольга и так была разбита; она, наверное, и сама себя проклинала. И не получится ли так, что он все бремя вины, давившее его все эти годы, взвалит на жену: неси, мол, его дальше, а я счастливо отделался. Возможно, этим летом, когда ей надо было решиться, как быть, Ольга растерялась точно так же, как он, когда должен был уехать.
— А где Мирдза? — его опять кольнуло в сердце и мгновенно в мозгу пронеслись все уже испытанные опасения, все допущенные им возможности, заставлявшие его бороться с самим собою, высмеивать себя, называть обманщиком, который пытается обмануть судьбу: раз я от тебя ничего не жду, ни на что не надеюсь, то ты не можешь уготовить мне ничего такого, что удивило бы меня. Он подумал — лицемеришь и тайно надеешься, что судьба оставит тебя в покое, пощадит, просто потому, что не стоит с тобой возиться, ведь все равно ей не оглушить тебя внезапным ударом, — ты ко всему готов.
— Мирдзу увезли с собою хозяева, наши же Саркалисы, — показала Ольга рукой в сторону большого соседнего хутора.
— Как, разве Мирдзе нужно было идти в услужение к хозяевам? — вспылил Юрис. — Разве у вас в своем доме не хватало хлеба и работы?
— Хватать-то хватало, — Ольга бессильно махнула рукой, — но не разрешили работать. Все вызывали в волостное правление и предупреждали, что на нашем клочке земли слишком много людей, одного человека необходимо отдать. Если Мирдза не наймется к Саркалисам, то ее пошлют на работу в Германию. Тогда мы порешили, что лучше уж здесь остаться, на месте, по крайней мере, не разлучимся.
— А ты не могла спрятать ее в перелеске за Волчьим болотом? — начал было Юрис с такой укоризной в голосе, что Ольга съежилась и в глазах у нее сверкнули слезы.
— Юрис, что ты говоришь! — упрекнула теперь она. — Саркалисы уехали отсюда, когда еще никого не угоняли. Только он сам остался, был шуцманом. Бегал по лесу, угрожая расстрелять всех, кто ждет большевиков. Как же Мирдзиня могла не ехать… Как же я могла ее спрятать? Ты говоришь это так, словно я не выплакала своих глаз.
Озол, мрачный, молчал. Он сознавал, что был несправедлив к жене. Он удивлялся и сам спрашивал себя, куда девалась нежность, согревавшая его сердце на фронте или в госпитале, когда он думал о своем доме, детях, жене. Где все те ласковые слова, с которыми он обращался к ним, когда его никто не слышал? Сейчас ему казалось, что близкие обидели его, не сумели остаться и дали себя угнать в позорную неволю.
— Не плачь, Ольга, — попытался Юрис преодолеть чувство досады. Но он произнес холодное «Ольга» вместо сердечного «Оля» и, чтобы исправить это, неуверенно погладил руку жены. Эта неловкая ласка растопила застывшие слезы Ольги и, припав, обессиленная, к плечу мужа, она безудержно зарыдала.
— Юрис, Юрис, вот какая наша встреча! — прорвались сквозь слезы слова, полные горя. — Сколько мы а тебе говорили, думали, как тебя встретить… Но получилось совсем иначе… Проклятые немцы! — воскликнула она. — Увезли нашего Карлена… словно от сердца кусок оторвали… И где теперь Мирдза скитается?..
— Не плачь, Оля, — Юрис нежно погладил волосы жены, с которых соскользнул платок и открыл уже пробившуюся седину. — Может быть, они найдут дорогу обратно. Пока дитя живет под крылышком матери, оно слабо, как птенец, но едва станет самостоятельным, начинает защищать себя. Оля, все будет хорошо. — Убеждая жену, Озол сам верил своим словам. — Вот увидишь — они вернутся!
В это мгновение он вспомнил юношей и девушек, потерявших родителей, но правдой или неправдой попавших в латышскую стрелковую дивизию и привыкнувших к военной жизни. Это только предубеждение родителей, что дети беспомощны, что их нужно опекать. Жизнь учит быстрее школ и книг.
Ольга сразу же пришла в себя, будто именно этих слов ждала она от Юриса. Ей так хотелось услышать, что дети вернутся, и когда это сказал муж, сам только что вернувшийся после долгих, столь тяжелых лет разлуки, то ему можно было поверить.
Чтобы рассеять накопившиеся чувства, Озол попросил жену показать ему, что осталось от их маленького хозяйства. Ольга засуетилась, начала было убирать со стола посуду и еду. Увидев, что Юрис едва прикоснулся к пище, повернулась к нему и недоуменно пробормотала:
— Как же это так? Почему ты не ешь? У вас ведь там, на войне, не бог весть как… — она осеклась на полуслове.
Юрис вспомнил прочитанное вчера в «Тевии» о заморенных голодом латышах, и на лбу у него легла поперечная складка. Неужели и Ольга поверила? «Да что я! — упрекнул он себя. — Она измучена горем — вот у нее иногда и сорвется необдуманное, случайное слово».
Ольга вернулась из кухни, схватила жакет и стала надевать, но никак не могла попасть в рукава. Юрис заметил, что она держит одежду наизнанку. Он взял у нее жакет и помог ей одеться.
Они вышли во двор. Собачонка, бегавшая в первое лето войны еще маленьким щенком, недоверчиво посмотрела на своего хозяина и зарычала…
— Вот тебе и раз, — рассмеялся Юрис, — не хочет признать меня. И впрямь чудно, даже собака напоминает о том, что прошли годы, а не дни.
Ольга не ответила. Они молча прошли за дом и остановились. Молодые яблони лежали на земле спиленные. Даже ягодные кустики были срублены. Над ульями не видно было ни одной пчелы.
Озол отвернулся. Ему часто приходилось видеть опустошенные сады, но обломанные при падении, острые ветви яблоньки, некогда посаженной им, казалось, разбередили у него рану в боку, и она заныла. Однако Юрис не дал болезненному ощущению овладеть сердцем. Он обратил свой взор к горизонту. Вдали, окутанный синеватой дымкой, вырисовывался спокойный, неподвижный бор, на небе пылало красновато-желтое вечернее зарево, а над верхушками деревьев лежала темно-серая полоса облаков. Вся природа была насыщена мирной тишиной уходившего лета; до самого леса, на равнине и на склонах, желтели созревшие хлеба, уже давно тосковавшие по жнецу.
И вот эта, столько раз виденная картина — бор вдали и закат над ним — такая привычная, что он, даже закрыв глаза, мог бы видеть каждую выдававшуюся верхушку дерева, — убедила Озола, что он у себя дома, в родном краю, о котором он столько мечтал и к которому стремился все эти три года.
 Эта мысль не дает ей покоя. Почему он разрешил им продолжать буйствовать. Вот и в Гарупе. Там гнали всех, как сквозь строй, отнимали коров, овец, свиней, кур. Оставили каждому по коровке да по две овцы с ягнятами. Все остальное забрали, хотя и самим-то девать некуда было — не съесть же столько и не угнать. Разбрелась скотинка по лесам, кто ее теперь сыщет? Если все же суждено вернуться домой, то как начать жить? Точно погорельцы! Но тогда хотя бы соседи могли помочь: дать теленка, чтобы вырастить; овечку или поросенка можно было бы купить на базаре. Но как же быть теперь, когда все одинаково бедны? Хоть домой бы попасть, может, понемногу опять стали бы на ноги. Но за какие грехи приходится здесь томиться, ночевать, словно дикому зверю, в чистом поле? Хлеб пропадет несжатый. Останется ли еще дом цел? Пришли бы хоть поскорее красноармейцы и не дали бы немцам разрушать и жечь… «Господи, дай их оружию такую силу, чтобы они прогнали немцев!..» — шептала Лидумиете, погружаясь в сон.
Занималось ясное и прохладное утро. У опушки леса на еще не просохшем лугу, низко над травой стлался белый туман. Над ним, словно призраки, проплывали головы людей. То были молодые мужчины, проводившие дни и ночи в лесу и выходившие к своим на луг только к завтраку — так рано немцы еще не шныряли. На этот раз у котла Лидумов собралось едоков больше обычного — Эрик привел с собой двух соседских парней, мобилизованных в легион: Гуннара Каупиня и Арниса Зариня. В последних боях их рота была сильно потрепана; уцелевшим в ожидании пополнения дали отпуск. Кому — на три дня, кому — на четыре, а некоторым — на целую неделю. Эрик старался уговорить Гуннара и Арниса в легион не возвращаться, смешаться с беженцами и отстать. Они в нерешительности пожимали плечами: в лесу, мол, им нечего будет есть, они только станут обузой для остальных. С собой они взяли немного, а ведь кто знает, сколько им еще скитаться, возможно, погонят еще дальше, в самую Германию, и тогда опять будут проверять. Без документов далеко не уйдешь, только наживешь неприятностей. Немцы говорят, что скоро начнется их большое контрнаступление, будто бы изобретено какое-то новое оружие, которое в ближайшее время появится и на этом фронте.
— Что они хвастают! — гневно вспылил Эрик. — Не пройдет и недели, как немцы отсюда смажут пятки. Новое оружие! Как бы они от страха медвежьей болезнью не заболели!
— А как же ты? Останешься с красными? — широко раскрыл глаза Гуннар.
— Останусь на своей земле, — спокойно ответил Эрик.
— Да, семь футов тебе, пожалуй, оставят, — посмеялся Арнис. — Ты что, не читал «Тевии»? Не знаешь, что в Калснавах в первый же день расстреляли всех оставшихся.
— Не расстреляли ли их немцы в свой последний день, — сердито ответил Эрик.
— Тебе, наверно, безразлично, что большевики сожгли твою церковь, — проговорил Арнис, бросив злой взгляд на Эрика.
— Где это? — с любопытством спросила Лидумиете.
— Ну, нашу.
— Что болтаешь, ни одного красного не было поблизости, когда немцы взрывали ее и жгли.
— Ну, если вы не верите мне, то поверьте газете. Здесь черным по белому… — и Арнис вытащил из кармана смятый номер «Тевии».
Семья Лидумов по очереди прочла заметку о том, что красноармейцы сразу же по приходе сожгли энскую церковь. Алма отвернулась, не сказав ни слова. Эрик угрюмо усмехнулся и, сплюнув, пробурчал:
— Они могут писать даже белым по черному, я же буду верить только своим глазам.
А мать долго глядела в газету, после чего с возмущением воскликнула:
— Какая ложь, какая несусветная ложь! Если таковы эти писаки, то я теперь уж большевиков совсем не боюсь. Это все немцы сами натворили, что о большевиках пишут. — И она принялась подробно рассказывать, как их выгнали ночью. Она уже раз десять говорила об этом с соседями и каждый вечер все снова перебирала в своих мыслях. Арнис нервно мял пальцами газету и, как бы нечаянно, запалил ее об откатившуюся от костра головню.
После завтрака у костра Лидумов стали собираться и другие соседи. Первой приплыла мать шуцмана Саркалиса, придерживая подол длинной юбки, чтобы предохранить его от росы.
— Я уж смотрю, смотрю, ведь это защитники земли нашей, — затараторила она, состроив слащавую улыбку. — Ну, русских этих дальше не пускайте, иначе до осени не выгоните.
— Почему же твой сын не идет землю защищать? — сдерживая гнев, спросила Балдиниете. — Другими распоряжаться и на войну гнать — легко, а как самому идти, то становится незаменимым. — Балдиниете так злилась на шуцмана Саркалиса, что была не в силах совладать с собой, хотя и видела, как в карих глазах мамаши Саркалис загорелись зеленые огоньки. Старший сын Балдиниете убежал из легиона и прятался в баньке, но Саркалис пронюхал об этом и угнал его обратно в немецкую армию. Только недавно, в августе, немцы забирали семнадцатилетних мальчиков. Своего Ольгерта она уж ни за что не хотела отпускать и спрятала его в сарае под соломой. И опять Саркалис примчался, как собака, требуя, чтобы ему сказали, где Ольгерт. Она не сказала и после того, как шуцман навел на нее дуло винтовки. Но когда он пригрозил спалить сарай и уже зажег спичку, женщина не стерпела. Не могла же она дать умереть Ольгерту такой смертью.
— У моего сына должность намного труднее, чем быть на войне, — снова слащаво улыбнулась Саркалиене и вздохнула. — Если матери вырастили таких сыновей, которые не хотят защищать землю отцов, то кому-нибудь же надо быть «злым» и напомнить им об их долге.
— У кого же из нас больше этой земли отцов? — язвительно спросил малоземельный хозяин Гаужен.
— Чем меньше земли, тем милее она должна быть, — все так же слащаво ответила Саркалиене.
— О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих… — напевая, подошел седой, почтенного вида человек. Это был Юрис Калейс. Пятьдесят лет он прослужил чиновником, на старости купил себе усадьбу с полуразрушенными постройками, отремонтировал их, надеясь безмятежно дожить свой век. Война развалила его семью. Старший сын, вопреки строгим предупреждениям отца, в первый год Советской власти связался с корпорантской организацией, был изобличен в печатании контрреволюционных листовок и незадолго до войны выслан. Младший сын добровольно вступил в немецкую армию. В последнем письме он писал, что наскочил на свою же мину и потерял обе ноги. Где он был теперь, этого отец не знал. Дочь вышла за актера. После того, как у нее родился сын, она осталась в Риге одна. Муж бросил ее. А последний удар постиг Калейса совсем недавно, уже во время скитаний. Сгорел его дом. Эту весть принес Саркалис, который спустя несколько дней после изгнания населения ездил в свою волость посмотреть, сколько в ней осталось «ожидающих прихода большевиков». Это будто произошло случайно, видимо, какой-то солдат обронил горящую спичку. Ночью в доме Калейса расположились немецкие солдаты и изрядно выпили. Умышленно или нечаянно, но дома больше не было. Не было и сыновей. Все мысли Юриса Калейса теперь устремлялись в Ригу, к дочери, которая непременно хочет уехать, а помочь ей некому. Поэтому старшая сестра напрасно уговаривала его спрятаться вместе с нею. Он не находил покоя, тоска о детях грызла и мучила его, и, чтобы забыться, он пел. Особенно полюбилась ему песенка «О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих».
— Как вы, господин Калейс, еще можете петь? — с недоумением и упреком обратилась к нему Альвина Пакалн из «Кламбуров». — У меня сердце так неспокойно за старика отца: кто знает, где он. А если бы у меня, как у вас… мне было бы не до песен.
— Много сулила, да мало мне дала, но разве не все ли равно тра-тра-ла-ла-ла-ла, — пропел Калейс, повернувшись к Альвине, и улыбнулся, но все видели, чего ему стоила эта улыбка.
— Сколько я ни расспрашивала всех ехавших за нами беженцев, — вернулась Альвина к своей наболевшей заботе, — никто не видел нашего отца. Как мы пришли на выгон Густыня, он словно сквозь землю провалился.
— Отец твой теперь пшеницу жнет, — сказал Эрик. — Тебе хорошо, вернешься домой, а пироги, гляди, уж готовы. А у нас все вороны склюют, пока…
— Где же он жнет, на небесных нивах, что ли? — издевательски перебил его Густ Дудум, хромой, обозленный жизнью холостяк. — Должно быть, слоняясь по своим «Кламбурам», попался чекистам прямо в лапы.
— Разве такому старику чекисты что-нибудь сделают, — рассуждала Альвина. — Я боюсь — не вывихнул ли себе ногу, прыгая где-нибудь через канаву.
— А ты думаешь, что они станут спрашивать твоего отца, сколько ему лет? — усмехнулся Густ холодно и зло. — Не найдут больших преступников, повесят и таких стариков.
— Не пустые ли это разговоры, — усомнилась Альвина. — Не может же быть, чтобы хватали, кого попало, да в яму.
— Так делают только немцы! — прозвучал молодой, звонкий голос, и Густ столь стремительно повернулся на своей здоровой ноге, что хромая нога отстала, и он пошатнулся, но все же успел опереться на трость и не упасть.
— Молчи, Мирдза, — прошептал Эрик, ткнув в бок девушку. Та схватила под руку Зенту Плауде, и обе, едва сдерживая смех, отошли в сторону. Ярость Густа угасла. Он понял, что если обрушится на Мирдзу, то запугает и Зенту, — прелестную мечту заката своей жизни, — бегавшую от него, как бабочка от охотящегося за нею мальчика. Своим настойчивым ухаживанием за Зентой он был смешон и людям и самому себе, но все же не в силах был запретить своему пятидесятилетнему сердцу мечтать о молодой, цветущей девушке. Стоило ему встретить ее — на дороге, на вечеринке или в гостях, — как сердце начинало колотиться учащенно и неравномерно, лысый затылок и щеки багровели, а глаза больше ничего другого не видели, кроме темно-русых кос, обвивавших голову Зенты, кроме ее овального, бело-розового лица, голубых, необычно больших глаз под длинными ресницами и темными дугами бровей. И Густ, обычно бранивший «всяких бездельников и коммунистов», с которыми правительство якобы обращалось слишком мягко, при виде Зенты притихал, становился любезным и смущенно жевал концы своих светлых усов.
— Смотрите, как расхрабрилась моя коммунистка, — сердито кивнула Саркалиене в сторону Мирдзы, — почуяла запах своих. Мирдза, ступай к коровам, нечего шататься вокруг! — крикнула она. Девушка ушла и увела с собой Зенту.
— Тебе-то хорошо, — с нескрываемым возмущением заговорила Балдиниете. — У людей коров отняли, а у тебя вся скотина цела.
— Что же в этом хорошего, — лицемерно вздохнула Саркалиене, — много добра — много забот.
— Вот видишь, как нехорошо немцы поступают, — с насмешливым сочувствием вмешался в разговорГаужен. — Твой Вилюм так усердно им служит, а они возложили на тебя такое бремя.
— Кого любят, того и наказывают, — поддержал его чей-то голос.
Густ уже хотел было наброситься на Гаужена и вступиться за Саркалиене — замечания их казались ему уж слишком коммунистическими, они были направлены не только против Саркалиене, но против всех, кто в прошлом и теперь был заодно с немцами, «последним спасением от красных». Но Густ замолчал на полуслове, увидев подходивших волостного старосту Силиса, писаря Янсона и пастора общины Гребера. У двоих были озабоченные лица. Янсон был заметно пьян и глупо улыбался.
Поздоровавшись, они присели подле Саркалиене и справились о Вилюме. Тот уже увез жену с детьми и часть вещей на станцию, чтобы эвакуировать их дальше поездом. Сам же с мамашей, с остальными вещами и со скотиной поедет по направлению к Риге.
— Мы тоже поедем дальше, — вставил Янсон.
— Разве большевики опять наседают? — с опаской спросил Густ.
— Наседать-то наседают, — уклончиво ответил Силис, — но наши дерутся, как звери. Уложили еще десять красных дивизий.
— Откуда у русских берется столько людей? — наивно удивилась Лидумиете. — Каждый день только тут укладывают по десять дивизий, а разве в других местах не воюют?
— Наши отступают по плану, — пояснил Силис. — Уж они-то знают, как далеко следует заманить русских и где сказать им «стоп!» Сил у русских больше нет. Вот, например, за Гауей — по пальцам можно пересчитать, где в какой ямке сидит у них по солдату.
— По дивизии, — поправил Гаужен. — Иначе немцы бы не могли так много уложить.
Силис сделал вид, что не слышал.
— «О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих», — запел Калейс и встал. По физиономиям должностных лиц он догадался о серьезности положения и не хотел терять ни минуты. Он должен был попасть в Ригу, к дочери, иначе потеряет и ее, свою последнюю радость, и останется один, как ствол дуба, у которого обрублены все ветви. Не желая задерживаться, он ни с кем не стал прощаться. Узлы с одеждой он бросил, чтобы легче было идти. Пройдя порядочное расстояние в сторону станции, он все же вернулся — надо было взять кое-что из продуктов, кто знает, есть ли у Интини и маленького Юрита что кушать. Ему было больно видеть, как хозяйки выливали снятое молоко или поили им коров, ведь у Юрита, возможно, не было даже молочной сыворотки. Он пойдет на станцию и попытается, хоть на буферах, добраться до Риги.
— Здесь много моих прихожан, — кашлянув, торжественно начал Гребер. — Некоторые собираются ехать дальше. Неизвестно, когда встретимся снова. Вы знаете, что нашей любимой церкви больше нет. Большевики, для которых нет ничего святого, сожгли ее.
Лидумиете, пораженная, разинула рот. Кому он это рассказывает? Для чего? Почему никто не возражает? Все ведь видели, как это было.
— Поэтому я думаю, — продолжал Гребер, — отслужим молебен в большом храме природы, здесь же под открытым небом. Будем просить, чтобы небо помогло оружию великой Германии…
Люди медленно встали. Мужчины вяло, нехотя сняли шапки. Гребер велел спеть псалом «Господь, ты наша твердыня». У Лидумиете, всегда хорошо певшей в церкви, словно сухой кусок застрял в горле. Она, правда, раскрывала рот, но не могла подладиться к Саркалиене, которая сперва затянула низко, потом взяла чрезмерно высоко и, не выдержав, снова снизила голос.
Затем Гребер начал проповедь: «Господь, покарай нас, но не слишком сурово…»
Эрик незаметно удалился: он беспокоился за Мирдзу. Саркалисы собирались ехать дальше и могли увезти девушку с собой. Он встретил ее у опушки леса, где она пасла коров.
— Мирдза, тебе надо спрятаться, — сказал он, переводя дух: утомительно было притворяться хромым и, кроме того, он волновался, оставшись с Мирдзой наедине.
— Почему? — спросила она, вставая. — Разве Саркалиене собирается натравить на меня своего Вилюма?
— Этого я не знаю, но сегодня они поедут дальше, по направлению к Риге, возможно и в Германию. Тебе надо бы остаться здесь… — запинался он.
— Почему мне н у ж н о остаться здесь? — дразнила Мирдза Эрика, наивно глядя на него широко раскрытыми глазами.
— Да, ну… тебе ведь надо остаться здесь. Вместе поедем обратно домой… Может, твой отец вернулся. — Лицо Эрика стало более уверенным. Мирдзе в самом деле надо ждать возвращения отца, и хотя бы только поэтому она не может ехать.
— Куда же мне спрятаться, Эрик? — спросила она, став серьезной.
— Пойдем со мной, — позвал Эрик. Он уже заранее приготовил план, на случай, если подойдет Красная Армия и немцы погонят выселенцев дальше. В лесу, под кучей хвороста, он выкопал яму на четверых — для себя, матери, сестры и Мирдзы. Скотину и повозки он бросил бы. Пусть пропадают, уж как-нибудь наживут снова: нельзя же дать угнать себя в Германию. Он очень сожалел, что еще до того, как их заставили уйти из дома, не убежал в лес, ведь видел же он на большаке потоки выгнанных из восточных волостей. Но человек по своей природе безрассуден — пока ему самому нож к горлу не приставят, не верит, что так может и с ним приключиться. Ни матери, ни сестре он еще не говорил о своем намерении, опасаясь, что они не захотят бросить еще оставшуюся у них корову и овец.
— Хорошо, Эрик, — быстро решилась Мирдза. — Но что делать с коровами?
— Пусть сами пасутся. Если разбредутся, то Вилюм их выследит. Он на это мастер.
Из-за Мирдзы и коров у Саркалисов получилась задержка. После обеда Вилюм вернулся со станции встревоженный. Ничего не объясняя, он велел матери погрузить на повозку котелки, позвать Мирдзу со скотиной и спешно отправиться в путь. Распорядившись, он побежал к волостному старшине и нашел его сидящим вместе с Янсоном и Гребером под ольховым кустом за бутылкой самогона.
— Совсем обалдели! — воскликнул Вилюм приглушенным голосом. — Нашли время пить. Мы не можем задерживаться ни минуты. Под Валкой беспрерывно идут бои. Если русские прорвут фронт, мы окажемся в мешке.
Силис развел руками и опрокинул бутылку. Самогон, булькая, потек на траву и пролился бы весь, если бы Янсон не подхватил бутылку. Он поднял ее на уровень глаз, прикинул, сколько в ней еще осталось, дрожащей рукой нащупал на земле пробку, заткнул и сунул бутылку в карман.
— Я встретил штурмфюрера, — пояснил Вилюм. — Он говорит, что этой ночью решится. Говорит: мы сидим, как на горячих углях. Вдруг может прийти приказ оторваться. Пускать гражданское население по дорогам впереди себя мы уже не можем. Если кто хочет спастись, пусть попытается сейчас же. Но это относится только к особым лицам. Как далеко они смогут уйти, он не знает. Посоветовал мне ехать этим поездом, — может быть, он последний. Но как же я могу — мать и скотина останутся здесь. Нельзя же допустить, чтобы старушку посадили на кол.
— Не бойся. Где ж взять такой кол, чтоб выдержал твою мамашу, — съязвил Гаужен, шедший мимо и услыхавший последнюю фразу.
— Ах ты, вошь! — прошипел Вилюм сквозь зубы. — Ползаешь по кустам и подслушиваешь.
— Что ж поделаешь; у леса — уши, у поля — глаза, — усмехнулся Гаужен. — Искал местечка поукромнее, а тут господа.
Новость, так встревожившую Саркалиса и Силиса, Гаужен сообщил соседям.
— Ах, боже, может, наконец-то попадем домой, — вздохнула Лидумиете. — Надоело валяться под кустами, словно цыганам.
За каких-нибудь полчаса эта весть облетела весь луг. Матери наказывали детям не уходить далеко от повозок, скоро поедут домой.
— Домой! Мамочка, мы поедем домой, — ликовала Дзидра Пакалн, услышав разговоры. — Поедем к дедушке. И обрадуется же киска, когда увидит меня.
— Ты больше обрадуешься киске, чем она тебе, — улыбнулась мать.
— Мама, разве отсюда до дома так же далеко, как от дома до этого места? — допытывалась Дзидра.
— Нет, доченька, до дома всегда ближе, — ответила мать.
— А не можем мы сходить посмотреть? Хочу видеть, цветет ли еще мой цветок. Отнесем киске молочка. Мне хочется домой! — Дзидра стала нетерпеливой.
— Еще нельзя, доченька! — успокаивала мать. — Немцы еще не пускают.
— А когда они пустят?
— Вот когда Красная Армия их прогонит, — сказала мать и осеклась, увидев приближавшихся легионеров Арниса и Гуннара. — Пойди, присмотри за коровкой, — добавила она. Парни шли медленно и задумчиво. Альвина предложила им молока. Но оба отказались.
— Что, ребята, головы повесили? — спросила она для того, чтобы начать разговор.
— С отпуском у нас ничего не получается, — ответил Арнис угрюмо. — Опять вперед двигаться надо.
— Зачем вперед, поедемте обратно! Я вам дам одежду моего мужа.
— Да, не знаешь, как быть, — Арнис сплюнул. — Документов нет: заберут еще как пленного и будешь висеть на сосне с опаленным боком. Помнишь, что писал во фронтовой газете военный корреспондент Целминь.
Гуннар устало отмахнулся:
— Мало ли что он писал, а что он сам же рассказывал Эдису Рудзиту? Немцы подпалили труп легионера и показывали его, чтобы ребята лучше дрались.
— Рудзиту, Рудзиту, — с насмешкой сказал Арнис. — Тот бы сам перебежал, если бы только мог. Двум парням поручено следить за ним.
Они ушли, но немного погодя Гуннар вернулся, попросил у Альбины одежду и ушел в лес.
С другого конца луга доносились сердитые крики, Саркалиене бранилась:
— Ну, куда же запропастилась эта бездельница? Вся скотина разбрелась! Уж покажу я ей! С парнями шляется. Мирдза, выйдешь ты из леса? Собирай скотину, поедем!
Но Мирдзы не было, и Саркалиене, не переставая ругать ее, сама сгоняла скот. На помощь пришли Вилюм, Силис и Янсон. Коров наконец удалось собрать вокруг готовых к отъезду повозок.
Собрались и Силисы. У Янсона и Гребера лошадей не было. Они положили свои узелки на повозку Силиса. Саркалиене все сновала среди выселенцев, расспрашивая о Мирдзе.
— Подумайте, как же я одна управлюсь с таким стадом? — жаловалась она каждому, готовому выслушать ее. — Если бы невестка не уехала! Вот бездельница, вот бездельница эта Мирдза, прямо хоть плачь. Уж больно храбры они нынче стали, никого не боятся. Я и Вилюму говорю — не к добру это.
А Вилюм в свою очередь искал мать. На его лице можно было прочесть затаенную угрозу — он понимал, что игра проиграна, но не хотел покориться. Он ходил среди людей, стиснув зубы, рыжеватые волосы выбивались из-под шуцмановской фуражки. Свою темно-рыжую бороду он не брил уже много дней. Зеленоватые его глаза никому не смотрели прямо в лицо.
Было уже одиннадцать часов, когда повозки Саркалисов и Силисов с привязанными животными вытянулись на большак. Саркалиене сидела высоко на последней повозке и, оборачиваясь, успокаивала скотину, которая рвалась и мычала на привязи. Они вынуждены были держаться обочины дороги, так как по середине неслись автомашины немецкой армии; впереди — легковые с офицерами в блестящих мундирах, а за ними — грузовики с ящиками и мешками с продуктами и боеприпасами. Позади стреляли орудия. Вскоре дорогу запрудили автомашины, битком набитые пехотой. Машины мчались с бешеной скоростью, стремясь обогнать друг друга. Коровы Саркалисов в испуге рванулись в сторону и повернули телегу с лошадью поперек дороги. Грузовик, уступая путь обгонявшей его машине, врезался в повозку Саркалиене. Раздались крики и грохот, повозка опрокинулась со сломанным колесом. Саркалиене слетела в канаву, лошадь барахталась на земле, в отчаянии храпя и пытаясь освободиться от упряжи. Коровы попадали на колени и рвали прикрепленную к рогам привязь.
В общей сутолоке и шуме моторов, в большой трагедии разгрома эта маленькая трагедия Саркалиене казалась столь незначительной, что восхваляемые некоторыми за рыцарство немецкие офицеры и солдаты даже не сочли нужным уменьшить скорость своего «движения на отрыв» и помочь старой женщине, вырастившей им столь услужливого сына.
Вилюм вскоре понял, что за стихийной лавиной отступающих невозможно угнаться, и свернул на первую попавшуюся проселочную дорогу. Остальные последовали за ним. Оттуда они смотрели, как отступает армия, безжалостно оставляя на милость судьбы и народа своих приспешников, пресмыкавшихся перед ними в течение трех лет.
Не видя повозки с матерью, Вилюм пошел ее искать. Каким-то чудом и у матери, и у лошади, и у коров уцелели все кости. Отвязанные животные перескочили через канаву, из которой уже выбиралась их хозяйка.
Четверо мужчин держали военный совет.
— Через несколько часов большевики будут здесь, — угрюмо сообщил Вилюм.
— Будет благоразумнее, если ты скинешь форму шуцмана, — заметил Гребер. — Они ведь тебя не знают, примут за обычного беженца.
— Форму-то я сниму, но борьбу против красных буду продолжать! — патетически воскликнул Вилюм. — Настоящие латыши уйдут в леса и будут стрелять из кустов.
— А что будут делать женщины? — с опаской спросил Силис.
— Женщины пусть едут домой. На самом деле не так уж все страшно, как мы рассказывали, — Вилюм скривил лицо в гримасу. — У нас остались в тылу осведомители. Они передают, что ни одной семьи никакой черт не трогает. Женщины должны лишь держать язык за зубами. Пусть скажут, что немцы нас в последнюю минуту мобилизовали, — и все.
— А что мне делать с волостными бумагами и печатью? — растерянно пролепетал Силис.
— Что делать? — Вилюм щелкнул пальцами. — Бланки паспортов у тебя есть? Янсон сделает для нас паспорта. Скажем, я буду Альбертом Сарканбардисом, Силис превратится в Карла… Ну, скажем… э, пиши: Карл Карклинь. Гребер будет Грабулисом. Янсон сам может придумать себе имя.
Янсон заполнил бланк паспорта Саркалису, затем Силису и Греберу, прихлопнул печать, и они превратились в Сарканбардиса, Карклиня и Гарбулиса. Он взял еще один бланк и стал придумывать себе имя. Как назвать себя? Э, не все ли равно! Напишет какое-нибудь имя и перестанет быть Артуром Янсоном. Превратится в бродягу без дома, без семьи… Вернется Эльза и поселится на старой квартире, а он не сможет даже к ней прийти. Эльза… как она могла так исчезнуть, не простившись, ничего не сказав. Уехала в Ригу и не вернулась. Даже письма не оставила. Как могла она уйти, бросить его одного? От кого она бежала? Он сумел бы защитить ее — у него связи, репутация солидного человека. До сих пор он не мог привыкнуть к жизни без нее — единственной, прелестной, незабвенной. Ни одной вещички в ее комнате не тронул, даже раскрытая книга «Как закалялась сталь» все эти годы пролежала на столике. С наступлением сумерек он заходил туда, как в склеп, ласково прикасался рукою к незаконченному рукоделию, лежавшему в корзинке, гладил вазу, в которой шелестели высохшие цветы жасмина. Все это осталось с того лета, когда она исчезла. При мысли, что Эльза, может быть, умерла и больше не вернется, ему становилось страшно. После каждого такого паломничества — как он называл посещение комнаты Эльзы — Янсон всегда напивался, зачастую до потери сознания. Теперь, когда Эльза, возможно, уже близко и может через несколько дней или недель вернуться, он должен исчезнуть и потерять ее навсегда. А что если Эльза сейчас спешит, идет пешком издалека, чтобы возобновить прежнюю жизнь; встретит его, бросится к нему в объятия и станет целовать, целовать… Но перед ним бланк паспорта, в него нужно вписать чужое имя, и он больше не будет Артуром, Арицисом, Арцитом…
Янсон оглянулся. Саркалис и Силис отошли к своим повозкам и копались в мешках с одеждой. Он вытащил из кармана бутылку самогона, поднес ко рту и одним глотком осушил ее до дна. Самогон был противен, но тянуло выпить еще. Увидев, что Силис и Саркалис уходят в кусты, должно быть, переодеться, он подбежал к жене Силиса и выклянчил еще бутылку. Янсон не хотел напиться, он лишь хотел приглушить безумную, тупую боль, все больше и больше распиравшую сердце, которому становилось тесно в груди.
Когда Саркалис и Силис вышли из кустов, они увидали, что Янсон лежит, погрузившись в дремоту. Рядом валялись две пустые бутылки, волостная печать и бланк паспорта.
— Ну, что с ним будешь делать? — развел Силис руками.
— Мямля, — выругался Саркалис. — Такой в лесу будет только обузой. Бросим его на повозку, пусть едет домой. Если его не сошлют в Сибирь, то он у нас еще попляшет. А может, он так нам больше пригодится.
На шоссе колонны немецких автомашин начали редеть. Все же по шоссе возвращаться нельзя было… Вскоре могли показаться красноармейцы. Решили ехать проселками. Обоз должна была возглавить Силисиене. На две другие повозки посадили по ребенку, на первой повозке Саркалиса никто не сидел, на вторую взвалили Янсона, на последнюю опять взобралась Саркалиене, Вилюм поучал женщин и детей, что говорить и как вести себя.
— Мы ведь не навсегда расстаемся, — успокаивал Вилюм жену Силиса, всхлипнувшую при прощании с мужем. — Немцы скоро вернутся. А мы будем у себя дома раньше их. Вы только примечайте друзей большевиков, а мы их вот так! — он провел пальцем вокруг шеи, затем показал вверх. — Если встретите Арниса Зариня, скажите, что мы несколько часов будем ждать его в лесу, за белым домом с красной крышей.
На рассвете обоз вернулся на луг Дуниса. Передовые советские части уже продвигались по большаку. Солдаты советовали подождать следующего дня, чтобы не мешать движению наступающих войск, предупреждали, чтобы не сворачивали с дорог, так как разминированы пока только обочины. Советовали быть осторожными и в своих домах, когда будут открывать двери или окна, — могут произойти взрывы.
Вечером люди постарше укладывались на покой со вздохом облегчения — последняя ночь в телеге или под открытым небом. Пусть им за один день и не добраться до дому, но по пути домой можно переспать и на камне. Молодежь собралась на опушке леса и затеяла танцы. К ней присоединились красноармейцы, запевшие веселую плясовую.
Алма Лидум лежала под навесом сарая рядом с матерью. Она никак не могла заснуть, ноги так и просились потанцевать. Вечер был такой радостный — последний вечер скитаний, а завтра — дорога приведет к дому. Разве можно спать в такую ночь, когда хочется радоваться, резвиться, быть молодой? Но мать не пустила ее на опушку леса, к молодежи, жалуясь, что не может спокойно спать, если Алмы нет рядом. Жаль было матери, но сердце колотилось, не давало уснуть.
Алма услышала далеко на западе выстрел, услышала вой мины, затем сильный удар и ужасный взрыв. Больше она уже ничего не услышала. В грудь ударило что-то твердое и острое, в лицо брызнула густая липкая жидкость. Веки закрылись, чтобы никогда больше не открыться.
Взрыв оглушил весь лагерь. Только немного спустя раздались крики перепуганных женщин и детей. Лидумиете приподнялась, потрогала Алминю. Слава богу, спит рядом, тихо и спокойно, наверно, с перепугу.
— Немцы благодарят нас за масло и шпик, — услышала Лидумиете в темноте голос Гаужена.
— Как ты можешь шутить, еще немного и… — упрекнула она. — У меня со страха во рту пересохло. Алминя, дочка, дай водички — кувшин рядом с тобой.
Алма не отвечала, даже не шевельнулась.
Мать недоумевала: как можно так спать, что и пушкой не разбудить?
— Ал… Алминя! — страшнее взрыва тишину пронзил полный отчаяния крик Лидумиете. Она нащупала руку Алмини, холодную, безжизненную, и мгновенно поняла, что между нею и дочерью стала смерть.
Новый вой и взрыв потрясли воздух, землю и человеческий рассудок. Среди криков и стонов громче всех звучал голос Саркалиене.
— Боже, мою коровку убило! Ой, ой!
Красноармейцы вскочили, посоветовали сейчас же ехать по направлению к дому. Немцы, зная, что здесь расположились беженцы, решили, видимо, вызвать панику и не удовлетворятся несколькими минами.
Эрик пошел разыскивать мать и сестру. Мать сидела, обхватив голову руками, покачивалась и причитала:
— Дьяволы, дьяволы!.. мою доченьку… мою единственную… Пусть высохнет грудь матери, вскормившей таких чудовищ. О, дьяволы, дьяволы!
Эрик испугался — не лишилась ли мать рассудка. Опустившись на колени, начал ее успокаивать, но она упала лицом Алме на грудь и так пронзительно зарыдала, что он скорее догадался, чем увидел, что произошло. Он с трудом оторвал мать от трупа сестры и стал настойчиво уговаривать ее уехать, если хочет спастись.
— Не хочу! Пусть и меня убьет тут же. О, господи, если у тебя не камень вместо сердца, то срази меня молнией! — кричала она.
— Успокойся, мать, — умолял Эрик. — Ведь мне и Яну ты тоже нужна.
— Яник, сын мой, где теперь покоятся твои кости? — Напоминание о сыне, который, казалось, уже был потерян, вызвало новый приступ боли.
Только когда все выехали на большак, Эрику удалось немного успокоить мать, и та разыскала одеяло, чтобы завернуть Алму. Гаужен и Мирдза помогли ему положить на повозку доски, застелить их сеном и простынями и уложить тело.
Медленно, словно похоронная процессия, беженцы двигались домой. На лугу, где был их лагерь, бушевала огненная буря. Рвались мины, в воздухе шипело и грохотало. Вспыхнул пожар — горел сенной сарай, в прохладные ночи и дождливые дни дававший приют детям и больным. Пламя, словно страшный гигантский факел, освещало похоронную процессию, в которой, вопреки обычаю, покойника везли без гроба и на последней подводе. Навстречу шли колонны красноармейцев. Они весело приветствовали ехавших на первых повозках, но узнав о происшедшем, притихали.
Беженцы сделали привал, чтобы позавтракать и дать отдохнуть лошадям и чего-нибудь поесть самим. Пускать скотину на луг пастись было опасно, поэтому женщины, нарвав на обочине дороги запыленной травы, кормили коров из рук. Труднее, чем остальным, пришлось Саркалиене, к ней тянулось шесть морд — как же тут управиться.
— Мирдзиня, дочка, — заискивающе обратилась она к своей бывшей батрачке. — Возьми косу с повозки и накоси травки. Смотри, какая там хорошая отава.
— Я ваших коров больше кормить не стану, — ответила Мирдза. — Кончилось мое рабство.
Саркалиене сверкнула глазами, но сама косить не пошла. На лугу могли быть мины, и не рисковать же, упаси боже, из-за скотины жизнью.
С овцами и ягнятами никто не мог совладать. Они перескочили через канаву и бросились к отаве. Изголодавшиеся, они щипали траву и не шли на зов своих хозяек. Пора было отправляться в путь. Чтобы не задерживаться, Гаужен натравил на них собаку. Овцы понеслись обратно на большак, только старая овца Пакалнов упрямо оставалась на лугу и, став в боевую позу, замахнулась на собаку передней ногой. И надо же было тому случиться, — все это видели, но никто не спохватился остановить ребенка, — через канаву перебралась маленькая девочка, это была Дзидра, и побежала мелкими быстрыми шажками, чтобы пригнать непослушную овцу. В воздух взлетел столб пламени и дыма, оглушительный взрыв потряс землю. Когда люди опомнились, они прежде всего взглянули на луг. Посреди зеленой отавы зияла черная яма, а на краю ее билась в предсмертной агонии Дзидра. Не думая об опасности, которая еще могла таиться в земле, несколько мужчин бросилось к ребенку. Матери, потерявшей дар речи, они смогли передать лишь безжизненное тело девочки.
На следующее утро белая лошадь привезла в «Кламбуры» повозку, на которой сидела постаревшая женщина с ребенком на коленях. К повозке была привязана корова, а позади шел мужчина. Ни у кого из них в глазах не было радости возвращения. Она не заискрилась и тогда, когда дедушка, старый Пакалн, завидев и узнав едущих, бросил косу и поспешил к ним навстречу.
— Значит, вернулись! — кричал он еще издалека. — И моя внучка тоже. Ну, и радость же будет ей, киска маленьких принесла… — он сразу замолчал, увидев окаменелые лица снохи и сына.
— Прими, отец, — произнес усталым голосом молодой Пакалн, подходя к повозке, чтобы взять ребенка из рук матери.
Старик взял на руки внучку. Долго, не веря своим глазам, он смотрел ей в лицо, пока, словно во сне, не услышал голос сына:
— Понесем в клеть, там прохладнее.
Сын хотел помочь нести, но дедушка не позволил. Бережно, как самую драгоценную ношу, он понес свою любимицу через двор в клеть и положил на постель. Он стоял перед ней и, не отрываясь, смотрел на бледное, обрамленное светлыми кудрями личико, пока из его глаз не покатились две крупные слезы. Медленно покачивая седой головой, старик прошептал:
— Разве это можно простить?
Эта мысль не дает ей покоя. Почему он разрешил им продолжать буйствовать. Вот и в Гарупе. Там гнали всех, как сквозь строй, отнимали коров, овец, свиней, кур. Оставили каждому по коровке да по две овцы с ягнятами. Все остальное забрали, хотя и самим-то девать некуда было — не съесть же столько и не угнать. Разбрелась скотинка по лесам, кто ее теперь сыщет? Если все же суждено вернуться домой, то как начать жить? Точно погорельцы! Но тогда хотя бы соседи могли помочь: дать теленка, чтобы вырастить; овечку или поросенка можно было бы купить на базаре. Но как же быть теперь, когда все одинаково бедны? Хоть домой бы попасть, может, понемногу опять стали бы на ноги. Но за какие грехи приходится здесь томиться, ночевать, словно дикому зверю, в чистом поле? Хлеб пропадет несжатый. Останется ли еще дом цел? Пришли бы хоть поскорее красноармейцы и не дали бы немцам разрушать и жечь… «Господи, дай их оружию такую силу, чтобы они прогнали немцев!..» — шептала Лидумиете, погружаясь в сон.
Занималось ясное и прохладное утро. У опушки леса на еще не просохшем лугу, низко над травой стлался белый туман. Над ним, словно призраки, проплывали головы людей. То были молодые мужчины, проводившие дни и ночи в лесу и выходившие к своим на луг только к завтраку — так рано немцы еще не шныряли. На этот раз у котла Лидумов собралось едоков больше обычного — Эрик привел с собой двух соседских парней, мобилизованных в легион: Гуннара Каупиня и Арниса Зариня. В последних боях их рота была сильно потрепана; уцелевшим в ожидании пополнения дали отпуск. Кому — на три дня, кому — на четыре, а некоторым — на целую неделю. Эрик старался уговорить Гуннара и Арниса в легион не возвращаться, смешаться с беженцами и отстать. Они в нерешительности пожимали плечами: в лесу, мол, им нечего будет есть, они только станут обузой для остальных. С собой они взяли немного, а ведь кто знает, сколько им еще скитаться, возможно, погонят еще дальше, в самую Германию, и тогда опять будут проверять. Без документов далеко не уйдешь, только наживешь неприятностей. Немцы говорят, что скоро начнется их большое контрнаступление, будто бы изобретено какое-то новое оружие, которое в ближайшее время появится и на этом фронте.
— Что они хвастают! — гневно вспылил Эрик. — Не пройдет и недели, как немцы отсюда смажут пятки. Новое оружие! Как бы они от страха медвежьей болезнью не заболели!
— А как же ты? Останешься с красными? — широко раскрыл глаза Гуннар.
— Останусь на своей земле, — спокойно ответил Эрик.
— Да, семь футов тебе, пожалуй, оставят, — посмеялся Арнис. — Ты что, не читал «Тевии»? Не знаешь, что в Калснавах в первый же день расстреляли всех оставшихся.
— Не расстреляли ли их немцы в свой последний день, — сердито ответил Эрик.
— Тебе, наверно, безразлично, что большевики сожгли твою церковь, — проговорил Арнис, бросив злой взгляд на Эрика.
— Где это? — с любопытством спросила Лидумиете.
— Ну, нашу.
— Что болтаешь, ни одного красного не было поблизости, когда немцы взрывали ее и жгли.
— Ну, если вы не верите мне, то поверьте газете. Здесь черным по белому… — и Арнис вытащил из кармана смятый номер «Тевии».
Семья Лидумов по очереди прочла заметку о том, что красноармейцы сразу же по приходе сожгли энскую церковь. Алма отвернулась, не сказав ни слова. Эрик угрюмо усмехнулся и, сплюнув, пробурчал:
— Они могут писать даже белым по черному, я же буду верить только своим глазам.
А мать долго глядела в газету, после чего с возмущением воскликнула:
— Какая ложь, какая несусветная ложь! Если таковы эти писаки, то я теперь уж большевиков совсем не боюсь. Это все немцы сами натворили, что о большевиках пишут. — И она принялась подробно рассказывать, как их выгнали ночью. Она уже раз десять говорила об этом с соседями и каждый вечер все снова перебирала в своих мыслях. Арнис нервно мял пальцами газету и, как бы нечаянно, запалил ее об откатившуюся от костра головню.
После завтрака у костра Лидумов стали собираться и другие соседи. Первой приплыла мать шуцмана Саркалиса, придерживая подол длинной юбки, чтобы предохранить его от росы.
— Я уж смотрю, смотрю, ведь это защитники земли нашей, — затараторила она, состроив слащавую улыбку. — Ну, русских этих дальше не пускайте, иначе до осени не выгоните.
— Почему же твой сын не идет землю защищать? — сдерживая гнев, спросила Балдиниете. — Другими распоряжаться и на войну гнать — легко, а как самому идти, то становится незаменимым. — Балдиниете так злилась на шуцмана Саркалиса, что была не в силах совладать с собой, хотя и видела, как в карих глазах мамаши Саркалис загорелись зеленые огоньки. Старший сын Балдиниете убежал из легиона и прятался в баньке, но Саркалис пронюхал об этом и угнал его обратно в немецкую армию. Только недавно, в августе, немцы забирали семнадцатилетних мальчиков. Своего Ольгерта она уж ни за что не хотела отпускать и спрятала его в сарае под соломой. И опять Саркалис примчался, как собака, требуя, чтобы ему сказали, где Ольгерт. Она не сказала и после того, как шуцман навел на нее дуло винтовки. Но когда он пригрозил спалить сарай и уже зажег спичку, женщина не стерпела. Не могла же она дать умереть Ольгерту такой смертью.
— У моего сына должность намного труднее, чем быть на войне, — снова слащаво улыбнулась Саркалиене и вздохнула. — Если матери вырастили таких сыновей, которые не хотят защищать землю отцов, то кому-нибудь же надо быть «злым» и напомнить им об их долге.
— У кого же из нас больше этой земли отцов? — язвительно спросил малоземельный хозяин Гаужен.
— Чем меньше земли, тем милее она должна быть, — все так же слащаво ответила Саркалиене.
— О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих… — напевая, подошел седой, почтенного вида человек. Это был Юрис Калейс. Пятьдесят лет он прослужил чиновником, на старости купил себе усадьбу с полуразрушенными постройками, отремонтировал их, надеясь безмятежно дожить свой век. Война развалила его семью. Старший сын, вопреки строгим предупреждениям отца, в первый год Советской власти связался с корпорантской организацией, был изобличен в печатании контрреволюционных листовок и незадолго до войны выслан. Младший сын добровольно вступил в немецкую армию. В последнем письме он писал, что наскочил на свою же мину и потерял обе ноги. Где он был теперь, этого отец не знал. Дочь вышла за актера. После того, как у нее родился сын, она осталась в Риге одна. Муж бросил ее. А последний удар постиг Калейса совсем недавно, уже во время скитаний. Сгорел его дом. Эту весть принес Саркалис, который спустя несколько дней после изгнания населения ездил в свою волость посмотреть, сколько в ней осталось «ожидающих прихода большевиков». Это будто произошло случайно, видимо, какой-то солдат обронил горящую спичку. Ночью в доме Калейса расположились немецкие солдаты и изрядно выпили. Умышленно или нечаянно, но дома больше не было. Не было и сыновей. Все мысли Юриса Калейса теперь устремлялись в Ригу, к дочери, которая непременно хочет уехать, а помочь ей некому. Поэтому старшая сестра напрасно уговаривала его спрятаться вместе с нею. Он не находил покоя, тоска о детях грызла и мучила его, и, чтобы забыться, он пел. Особенно полюбилась ему песенка «О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих».
— Как вы, господин Калейс, еще можете петь? — с недоумением и упреком обратилась к нему Альвина Пакалн из «Кламбуров». — У меня сердце так неспокойно за старика отца: кто знает, где он. А если бы у меня, как у вас… мне было бы не до песен.
— Много сулила, да мало мне дала, но разве не все ли равно тра-тра-ла-ла-ла-ла, — пропел Калейс, повернувшись к Альвине, и улыбнулся, но все видели, чего ему стоила эта улыбка.
— Сколько я ни расспрашивала всех ехавших за нами беженцев, — вернулась Альвина к своей наболевшей заботе, — никто не видел нашего отца. Как мы пришли на выгон Густыня, он словно сквозь землю провалился.
— Отец твой теперь пшеницу жнет, — сказал Эрик. — Тебе хорошо, вернешься домой, а пироги, гляди, уж готовы. А у нас все вороны склюют, пока…
— Где же он жнет, на небесных нивах, что ли? — издевательски перебил его Густ Дудум, хромой, обозленный жизнью холостяк. — Должно быть, слоняясь по своим «Кламбурам», попался чекистам прямо в лапы.
— Разве такому старику чекисты что-нибудь сделают, — рассуждала Альвина. — Я боюсь — не вывихнул ли себе ногу, прыгая где-нибудь через канаву.
— А ты думаешь, что они станут спрашивать твоего отца, сколько ему лет? — усмехнулся Густ холодно и зло. — Не найдут больших преступников, повесят и таких стариков.
— Не пустые ли это разговоры, — усомнилась Альвина. — Не может же быть, чтобы хватали, кого попало, да в яму.
— Так делают только немцы! — прозвучал молодой, звонкий голос, и Густ столь стремительно повернулся на своей здоровой ноге, что хромая нога отстала, и он пошатнулся, но все же успел опереться на трость и не упасть.
— Молчи, Мирдза, — прошептал Эрик, ткнув в бок девушку. Та схватила под руку Зенту Плауде, и обе, едва сдерживая смех, отошли в сторону. Ярость Густа угасла. Он понял, что если обрушится на Мирдзу, то запугает и Зенту, — прелестную мечту заката своей жизни, — бегавшую от него, как бабочка от охотящегося за нею мальчика. Своим настойчивым ухаживанием за Зентой он был смешон и людям и самому себе, но все же не в силах был запретить своему пятидесятилетнему сердцу мечтать о молодой, цветущей девушке. Стоило ему встретить ее — на дороге, на вечеринке или в гостях, — как сердце начинало колотиться учащенно и неравномерно, лысый затылок и щеки багровели, а глаза больше ничего другого не видели, кроме темно-русых кос, обвивавших голову Зенты, кроме ее овального, бело-розового лица, голубых, необычно больших глаз под длинными ресницами и темными дугами бровей. И Густ, обычно бранивший «всяких бездельников и коммунистов», с которыми правительство якобы обращалось слишком мягко, при виде Зенты притихал, становился любезным и смущенно жевал концы своих светлых усов.
— Смотрите, как расхрабрилась моя коммунистка, — сердито кивнула Саркалиене в сторону Мирдзы, — почуяла запах своих. Мирдза, ступай к коровам, нечего шататься вокруг! — крикнула она. Девушка ушла и увела с собой Зенту.
— Тебе-то хорошо, — с нескрываемым возмущением заговорила Балдиниете. — У людей коров отняли, а у тебя вся скотина цела.
— Что же в этом хорошего, — лицемерно вздохнула Саркалиене, — много добра — много забот.
— Вот видишь, как нехорошо немцы поступают, — с насмешливым сочувствием вмешался в разговорГаужен. — Твой Вилюм так усердно им служит, а они возложили на тебя такое бремя.
— Кого любят, того и наказывают, — поддержал его чей-то голос.
Густ уже хотел было наброситься на Гаужена и вступиться за Саркалиене — замечания их казались ему уж слишком коммунистическими, они были направлены не только против Саркалиене, но против всех, кто в прошлом и теперь был заодно с немцами, «последним спасением от красных». Но Густ замолчал на полуслове, увидев подходивших волостного старосту Силиса, писаря Янсона и пастора общины Гребера. У двоих были озабоченные лица. Янсон был заметно пьян и глупо улыбался.
Поздоровавшись, они присели подле Саркалиене и справились о Вилюме. Тот уже увез жену с детьми и часть вещей на станцию, чтобы эвакуировать их дальше поездом. Сам же с мамашей, с остальными вещами и со скотиной поедет по направлению к Риге.
— Мы тоже поедем дальше, — вставил Янсон.
— Разве большевики опять наседают? — с опаской спросил Густ.
— Наседать-то наседают, — уклончиво ответил Силис, — но наши дерутся, как звери. Уложили еще десять красных дивизий.
— Откуда у русских берется столько людей? — наивно удивилась Лидумиете. — Каждый день только тут укладывают по десять дивизий, а разве в других местах не воюют?
— Наши отступают по плану, — пояснил Силис. — Уж они-то знают, как далеко следует заманить русских и где сказать им «стоп!» Сил у русских больше нет. Вот, например, за Гауей — по пальцам можно пересчитать, где в какой ямке сидит у них по солдату.
— По дивизии, — поправил Гаужен. — Иначе немцы бы не могли так много уложить.
Силис сделал вид, что не слышал.
— «О, жизнь, я качаюсь на волнах твоих», — запел Калейс и встал. По физиономиям должностных лиц он догадался о серьезности положения и не хотел терять ни минуты. Он должен был попасть в Ригу, к дочери, иначе потеряет и ее, свою последнюю радость, и останется один, как ствол дуба, у которого обрублены все ветви. Не желая задерживаться, он ни с кем не стал прощаться. Узлы с одеждой он бросил, чтобы легче было идти. Пройдя порядочное расстояние в сторону станции, он все же вернулся — надо было взять кое-что из продуктов, кто знает, есть ли у Интини и маленького Юрита что кушать. Ему было больно видеть, как хозяйки выливали снятое молоко или поили им коров, ведь у Юрита, возможно, не было даже молочной сыворотки. Он пойдет на станцию и попытается, хоть на буферах, добраться до Риги.
— Здесь много моих прихожан, — кашлянув, торжественно начал Гребер. — Некоторые собираются ехать дальше. Неизвестно, когда встретимся снова. Вы знаете, что нашей любимой церкви больше нет. Большевики, для которых нет ничего святого, сожгли ее.
Лидумиете, пораженная, разинула рот. Кому он это рассказывает? Для чего? Почему никто не возражает? Все ведь видели, как это было.
— Поэтому я думаю, — продолжал Гребер, — отслужим молебен в большом храме природы, здесь же под открытым небом. Будем просить, чтобы небо помогло оружию великой Германии…
Люди медленно встали. Мужчины вяло, нехотя сняли шапки. Гребер велел спеть псалом «Господь, ты наша твердыня». У Лидумиете, всегда хорошо певшей в церкви, словно сухой кусок застрял в горле. Она, правда, раскрывала рот, но не могла подладиться к Саркалиене, которая сперва затянула низко, потом взяла чрезмерно высоко и, не выдержав, снова снизила голос.
Затем Гребер начал проповедь: «Господь, покарай нас, но не слишком сурово…»
Эрик незаметно удалился: он беспокоился за Мирдзу. Саркалисы собирались ехать дальше и могли увезти девушку с собой. Он встретил ее у опушки леса, где она пасла коров.
— Мирдза, тебе надо спрятаться, — сказал он, переводя дух: утомительно было притворяться хромым и, кроме того, он волновался, оставшись с Мирдзой наедине.
— Почему? — спросила она, вставая. — Разве Саркалиене собирается натравить на меня своего Вилюма?
— Этого я не знаю, но сегодня они поедут дальше, по направлению к Риге, возможно и в Германию. Тебе надо бы остаться здесь… — запинался он.
— Почему мне н у ж н о остаться здесь? — дразнила Мирдза Эрика, наивно глядя на него широко раскрытыми глазами.
— Да, ну… тебе ведь надо остаться здесь. Вместе поедем обратно домой… Может, твой отец вернулся. — Лицо Эрика стало более уверенным. Мирдзе в самом деле надо ждать возвращения отца, и хотя бы только поэтому она не может ехать.
— Куда же мне спрятаться, Эрик? — спросила она, став серьезной.
— Пойдем со мной, — позвал Эрик. Он уже заранее приготовил план, на случай, если подойдет Красная Армия и немцы погонят выселенцев дальше. В лесу, под кучей хвороста, он выкопал яму на четверых — для себя, матери, сестры и Мирдзы. Скотину и повозки он бросил бы. Пусть пропадают, уж как-нибудь наживут снова: нельзя же дать угнать себя в Германию. Он очень сожалел, что еще до того, как их заставили уйти из дома, не убежал в лес, ведь видел же он на большаке потоки выгнанных из восточных волостей. Но человек по своей природе безрассуден — пока ему самому нож к горлу не приставят, не верит, что так может и с ним приключиться. Ни матери, ни сестре он еще не говорил о своем намерении, опасаясь, что они не захотят бросить еще оставшуюся у них корову и овец.
— Хорошо, Эрик, — быстро решилась Мирдза. — Но что делать с коровами?
— Пусть сами пасутся. Если разбредутся, то Вилюм их выследит. Он на это мастер.
Из-за Мирдзы и коров у Саркалисов получилась задержка. После обеда Вилюм вернулся со станции встревоженный. Ничего не объясняя, он велел матери погрузить на повозку котелки, позвать Мирдзу со скотиной и спешно отправиться в путь. Распорядившись, он побежал к волостному старшине и нашел его сидящим вместе с Янсоном и Гребером под ольховым кустом за бутылкой самогона.
— Совсем обалдели! — воскликнул Вилюм приглушенным голосом. — Нашли время пить. Мы не можем задерживаться ни минуты. Под Валкой беспрерывно идут бои. Если русские прорвут фронт, мы окажемся в мешке.
Силис развел руками и опрокинул бутылку. Самогон, булькая, потек на траву и пролился бы весь, если бы Янсон не подхватил бутылку. Он поднял ее на уровень глаз, прикинул, сколько в ней еще осталось, дрожащей рукой нащупал на земле пробку, заткнул и сунул бутылку в карман.
— Я встретил штурмфюрера, — пояснил Вилюм. — Он говорит, что этой ночью решится. Говорит: мы сидим, как на горячих углях. Вдруг может прийти приказ оторваться. Пускать гражданское население по дорогам впереди себя мы уже не можем. Если кто хочет спастись, пусть попытается сейчас же. Но это относится только к особым лицам. Как далеко они смогут уйти, он не знает. Посоветовал мне ехать этим поездом, — может быть, он последний. Но как же я могу — мать и скотина останутся здесь. Нельзя же допустить, чтобы старушку посадили на кол.
— Не бойся. Где ж взять такой кол, чтоб выдержал твою мамашу, — съязвил Гаужен, шедший мимо и услыхавший последнюю фразу.
— Ах ты, вошь! — прошипел Вилюм сквозь зубы. — Ползаешь по кустам и подслушиваешь.
— Что ж поделаешь; у леса — уши, у поля — глаза, — усмехнулся Гаужен. — Искал местечка поукромнее, а тут господа.
Новость, так встревожившую Саркалиса и Силиса, Гаужен сообщил соседям.
— Ах, боже, может, наконец-то попадем домой, — вздохнула Лидумиете. — Надоело валяться под кустами, словно цыганам.
За каких-нибудь полчаса эта весть облетела весь луг. Матери наказывали детям не уходить далеко от повозок, скоро поедут домой.
— Домой! Мамочка, мы поедем домой, — ликовала Дзидра Пакалн, услышав разговоры. — Поедем к дедушке. И обрадуется же киска, когда увидит меня.
— Ты больше обрадуешься киске, чем она тебе, — улыбнулась мать.
— Мама, разве отсюда до дома так же далеко, как от дома до этого места? — допытывалась Дзидра.
— Нет, доченька, до дома всегда ближе, — ответила мать.
— А не можем мы сходить посмотреть? Хочу видеть, цветет ли еще мой цветок. Отнесем киске молочка. Мне хочется домой! — Дзидра стала нетерпеливой.
— Еще нельзя, доченька! — успокаивала мать. — Немцы еще не пускают.
— А когда они пустят?
— Вот когда Красная Армия их прогонит, — сказала мать и осеклась, увидев приближавшихся легионеров Арниса и Гуннара. — Пойди, присмотри за коровкой, — добавила она. Парни шли медленно и задумчиво. Альвина предложила им молока. Но оба отказались.
— Что, ребята, головы повесили? — спросила она для того, чтобы начать разговор.
— С отпуском у нас ничего не получается, — ответил Арнис угрюмо. — Опять вперед двигаться надо.
— Зачем вперед, поедемте обратно! Я вам дам одежду моего мужа.
— Да, не знаешь, как быть, — Арнис сплюнул. — Документов нет: заберут еще как пленного и будешь висеть на сосне с опаленным боком. Помнишь, что писал во фронтовой газете военный корреспондент Целминь.
Гуннар устало отмахнулся:
— Мало ли что он писал, а что он сам же рассказывал Эдису Рудзиту? Немцы подпалили труп легионера и показывали его, чтобы ребята лучше дрались.
— Рудзиту, Рудзиту, — с насмешкой сказал Арнис. — Тот бы сам перебежал, если бы только мог. Двум парням поручено следить за ним.
Они ушли, но немного погодя Гуннар вернулся, попросил у Альбины одежду и ушел в лес.
С другого конца луга доносились сердитые крики, Саркалиене бранилась:
— Ну, куда же запропастилась эта бездельница? Вся скотина разбрелась! Уж покажу я ей! С парнями шляется. Мирдза, выйдешь ты из леса? Собирай скотину, поедем!
Но Мирдзы не было, и Саркалиене, не переставая ругать ее, сама сгоняла скот. На помощь пришли Вилюм, Силис и Янсон. Коров наконец удалось собрать вокруг готовых к отъезду повозок.
Собрались и Силисы. У Янсона и Гребера лошадей не было. Они положили свои узелки на повозку Силиса. Саркалиене все сновала среди выселенцев, расспрашивая о Мирдзе.
— Подумайте, как же я одна управлюсь с таким стадом? — жаловалась она каждому, готовому выслушать ее. — Если бы невестка не уехала! Вот бездельница, вот бездельница эта Мирдза, прямо хоть плачь. Уж больно храбры они нынче стали, никого не боятся. Я и Вилюму говорю — не к добру это.
А Вилюм в свою очередь искал мать. На его лице можно было прочесть затаенную угрозу — он понимал, что игра проиграна, но не хотел покориться. Он ходил среди людей, стиснув зубы, рыжеватые волосы выбивались из-под шуцмановской фуражки. Свою темно-рыжую бороду он не брил уже много дней. Зеленоватые его глаза никому не смотрели прямо в лицо.
Было уже одиннадцать часов, когда повозки Саркалисов и Силисов с привязанными животными вытянулись на большак. Саркалиене сидела высоко на последней повозке и, оборачиваясь, успокаивала скотину, которая рвалась и мычала на привязи. Они вынуждены были держаться обочины дороги, так как по середине неслись автомашины немецкой армии; впереди — легковые с офицерами в блестящих мундирах, а за ними — грузовики с ящиками и мешками с продуктами и боеприпасами. Позади стреляли орудия. Вскоре дорогу запрудили автомашины, битком набитые пехотой. Машины мчались с бешеной скоростью, стремясь обогнать друг друга. Коровы Саркалисов в испуге рванулись в сторону и повернули телегу с лошадью поперек дороги. Грузовик, уступая путь обгонявшей его машине, врезался в повозку Саркалиене. Раздались крики и грохот, повозка опрокинулась со сломанным колесом. Саркалиене слетела в канаву, лошадь барахталась на земле, в отчаянии храпя и пытаясь освободиться от упряжи. Коровы попадали на колени и рвали прикрепленную к рогам привязь.
В общей сутолоке и шуме моторов, в большой трагедии разгрома эта маленькая трагедия Саркалиене казалась столь незначительной, что восхваляемые некоторыми за рыцарство немецкие офицеры и солдаты даже не сочли нужным уменьшить скорость своего «движения на отрыв» и помочь старой женщине, вырастившей им столь услужливого сына.
Вилюм вскоре понял, что за стихийной лавиной отступающих невозможно угнаться, и свернул на первую попавшуюся проселочную дорогу. Остальные последовали за ним. Оттуда они смотрели, как отступает армия, безжалостно оставляя на милость судьбы и народа своих приспешников, пресмыкавшихся перед ними в течение трех лет.
Не видя повозки с матерью, Вилюм пошел ее искать. Каким-то чудом и у матери, и у лошади, и у коров уцелели все кости. Отвязанные животные перескочили через канаву, из которой уже выбиралась их хозяйка.
Четверо мужчин держали военный совет.
— Через несколько часов большевики будут здесь, — угрюмо сообщил Вилюм.
— Будет благоразумнее, если ты скинешь форму шуцмана, — заметил Гребер. — Они ведь тебя не знают, примут за обычного беженца.
— Форму-то я сниму, но борьбу против красных буду продолжать! — патетически воскликнул Вилюм. — Настоящие латыши уйдут в леса и будут стрелять из кустов.
— А что будут делать женщины? — с опаской спросил Силис.
— Женщины пусть едут домой. На самом деле не так уж все страшно, как мы рассказывали, — Вилюм скривил лицо в гримасу. — У нас остались в тылу осведомители. Они передают, что ни одной семьи никакой черт не трогает. Женщины должны лишь держать язык за зубами. Пусть скажут, что немцы нас в последнюю минуту мобилизовали, — и все.
— А что мне делать с волостными бумагами и печатью? — растерянно пролепетал Силис.
— Что делать? — Вилюм щелкнул пальцами. — Бланки паспортов у тебя есть? Янсон сделает для нас паспорта. Скажем, я буду Альбертом Сарканбардисом, Силис превратится в Карла… Ну, скажем… э, пиши: Карл Карклинь. Гребер будет Грабулисом. Янсон сам может придумать себе имя.
Янсон заполнил бланк паспорта Саркалису, затем Силису и Греберу, прихлопнул печать, и они превратились в Сарканбардиса, Карклиня и Гарбулиса. Он взял еще один бланк и стал придумывать себе имя. Как назвать себя? Э, не все ли равно! Напишет какое-нибудь имя и перестанет быть Артуром Янсоном. Превратится в бродягу без дома, без семьи… Вернется Эльза и поселится на старой квартире, а он не сможет даже к ней прийти. Эльза… как она могла так исчезнуть, не простившись, ничего не сказав. Уехала в Ригу и не вернулась. Даже письма не оставила. Как могла она уйти, бросить его одного? От кого она бежала? Он сумел бы защитить ее — у него связи, репутация солидного человека. До сих пор он не мог привыкнуть к жизни без нее — единственной, прелестной, незабвенной. Ни одной вещички в ее комнате не тронул, даже раскрытая книга «Как закалялась сталь» все эти годы пролежала на столике. С наступлением сумерек он заходил туда, как в склеп, ласково прикасался рукою к незаконченному рукоделию, лежавшему в корзинке, гладил вазу, в которой шелестели высохшие цветы жасмина. Все это осталось с того лета, когда она исчезла. При мысли, что Эльза, может быть, умерла и больше не вернется, ему становилось страшно. После каждого такого паломничества — как он называл посещение комнаты Эльзы — Янсон всегда напивался, зачастую до потери сознания. Теперь, когда Эльза, возможно, уже близко и может через несколько дней или недель вернуться, он должен исчезнуть и потерять ее навсегда. А что если Эльза сейчас спешит, идет пешком издалека, чтобы возобновить прежнюю жизнь; встретит его, бросится к нему в объятия и станет целовать, целовать… Но перед ним бланк паспорта, в него нужно вписать чужое имя, и он больше не будет Артуром, Арицисом, Арцитом…
Янсон оглянулся. Саркалис и Силис отошли к своим повозкам и копались в мешках с одеждой. Он вытащил из кармана бутылку самогона, поднес ко рту и одним глотком осушил ее до дна. Самогон был противен, но тянуло выпить еще. Увидев, что Силис и Саркалис уходят в кусты, должно быть, переодеться, он подбежал к жене Силиса и выклянчил еще бутылку. Янсон не хотел напиться, он лишь хотел приглушить безумную, тупую боль, все больше и больше распиравшую сердце, которому становилось тесно в груди.
Когда Саркалис и Силис вышли из кустов, они увидали, что Янсон лежит, погрузившись в дремоту. Рядом валялись две пустые бутылки, волостная печать и бланк паспорта.
— Ну, что с ним будешь делать? — развел Силис руками.
— Мямля, — выругался Саркалис. — Такой в лесу будет только обузой. Бросим его на повозку, пусть едет домой. Если его не сошлют в Сибирь, то он у нас еще попляшет. А может, он так нам больше пригодится.
На шоссе колонны немецких автомашин начали редеть. Все же по шоссе возвращаться нельзя было… Вскоре могли показаться красноармейцы. Решили ехать проселками. Обоз должна была возглавить Силисиене. На две другие повозки посадили по ребенку, на первой повозке Саркалиса никто не сидел, на вторую взвалили Янсона, на последнюю опять взобралась Саркалиене, Вилюм поучал женщин и детей, что говорить и как вести себя.
— Мы ведь не навсегда расстаемся, — успокаивал Вилюм жену Силиса, всхлипнувшую при прощании с мужем. — Немцы скоро вернутся. А мы будем у себя дома раньше их. Вы только примечайте друзей большевиков, а мы их вот так! — он провел пальцем вокруг шеи, затем показал вверх. — Если встретите Арниса Зариня, скажите, что мы несколько часов будем ждать его в лесу, за белым домом с красной крышей.
На рассвете обоз вернулся на луг Дуниса. Передовые советские части уже продвигались по большаку. Солдаты советовали подождать следующего дня, чтобы не мешать движению наступающих войск, предупреждали, чтобы не сворачивали с дорог, так как разминированы пока только обочины. Советовали быть осторожными и в своих домах, когда будут открывать двери или окна, — могут произойти взрывы.
Вечером люди постарше укладывались на покой со вздохом облегчения — последняя ночь в телеге или под открытым небом. Пусть им за один день и не добраться до дому, но по пути домой можно переспать и на камне. Молодежь собралась на опушке леса и затеяла танцы. К ней присоединились красноармейцы, запевшие веселую плясовую.
Алма Лидум лежала под навесом сарая рядом с матерью. Она никак не могла заснуть, ноги так и просились потанцевать. Вечер был такой радостный — последний вечер скитаний, а завтра — дорога приведет к дому. Разве можно спать в такую ночь, когда хочется радоваться, резвиться, быть молодой? Но мать не пустила ее на опушку леса, к молодежи, жалуясь, что не может спокойно спать, если Алмы нет рядом. Жаль было матери, но сердце колотилось, не давало уснуть.
Алма услышала далеко на западе выстрел, услышала вой мины, затем сильный удар и ужасный взрыв. Больше она уже ничего не услышала. В грудь ударило что-то твердое и острое, в лицо брызнула густая липкая жидкость. Веки закрылись, чтобы никогда больше не открыться.
Взрыв оглушил весь лагерь. Только немного спустя раздались крики перепуганных женщин и детей. Лидумиете приподнялась, потрогала Алминю. Слава богу, спит рядом, тихо и спокойно, наверно, с перепугу.
— Немцы благодарят нас за масло и шпик, — услышала Лидумиете в темноте голос Гаужена.
— Как ты можешь шутить, еще немного и… — упрекнула она. — У меня со страха во рту пересохло. Алминя, дочка, дай водички — кувшин рядом с тобой.
Алма не отвечала, даже не шевельнулась.
Мать недоумевала: как можно так спать, что и пушкой не разбудить?
— Ал… Алминя! — страшнее взрыва тишину пронзил полный отчаяния крик Лидумиете. Она нащупала руку Алмини, холодную, безжизненную, и мгновенно поняла, что между нею и дочерью стала смерть.
Новый вой и взрыв потрясли воздух, землю и человеческий рассудок. Среди криков и стонов громче всех звучал голос Саркалиене.
— Боже, мою коровку убило! Ой, ой!
Красноармейцы вскочили, посоветовали сейчас же ехать по направлению к дому. Немцы, зная, что здесь расположились беженцы, решили, видимо, вызвать панику и не удовлетворятся несколькими минами.
Эрик пошел разыскивать мать и сестру. Мать сидела, обхватив голову руками, покачивалась и причитала:
— Дьяволы, дьяволы!.. мою доченьку… мою единственную… Пусть высохнет грудь матери, вскормившей таких чудовищ. О, дьяволы, дьяволы!
Эрик испугался — не лишилась ли мать рассудка. Опустившись на колени, начал ее успокаивать, но она упала лицом Алме на грудь и так пронзительно зарыдала, что он скорее догадался, чем увидел, что произошло. Он с трудом оторвал мать от трупа сестры и стал настойчиво уговаривать ее уехать, если хочет спастись.
— Не хочу! Пусть и меня убьет тут же. О, господи, если у тебя не камень вместо сердца, то срази меня молнией! — кричала она.
— Успокойся, мать, — умолял Эрик. — Ведь мне и Яну ты тоже нужна.
— Яник, сын мой, где теперь покоятся твои кости? — Напоминание о сыне, который, казалось, уже был потерян, вызвало новый приступ боли.
Только когда все выехали на большак, Эрику удалось немного успокоить мать, и та разыскала одеяло, чтобы завернуть Алму. Гаужен и Мирдза помогли ему положить на повозку доски, застелить их сеном и простынями и уложить тело.
Медленно, словно похоронная процессия, беженцы двигались домой. На лугу, где был их лагерь, бушевала огненная буря. Рвались мины, в воздухе шипело и грохотало. Вспыхнул пожар — горел сенной сарай, в прохладные ночи и дождливые дни дававший приют детям и больным. Пламя, словно страшный гигантский факел, освещало похоронную процессию, в которой, вопреки обычаю, покойника везли без гроба и на последней подводе. Навстречу шли колонны красноармейцев. Они весело приветствовали ехавших на первых повозках, но узнав о происшедшем, притихали.
Беженцы сделали привал, чтобы позавтракать и дать отдохнуть лошадям и чего-нибудь поесть самим. Пускать скотину на луг пастись было опасно, поэтому женщины, нарвав на обочине дороги запыленной травы, кормили коров из рук. Труднее, чем остальным, пришлось Саркалиене, к ней тянулось шесть морд — как же тут управиться.
— Мирдзиня, дочка, — заискивающе обратилась она к своей бывшей батрачке. — Возьми косу с повозки и накоси травки. Смотри, какая там хорошая отава.
— Я ваших коров больше кормить не стану, — ответила Мирдза. — Кончилось мое рабство.
Саркалиене сверкнула глазами, но сама косить не пошла. На лугу могли быть мины, и не рисковать же, упаси боже, из-за скотины жизнью.
С овцами и ягнятами никто не мог совладать. Они перескочили через канаву и бросились к отаве. Изголодавшиеся, они щипали траву и не шли на зов своих хозяек. Пора было отправляться в путь. Чтобы не задерживаться, Гаужен натравил на них собаку. Овцы понеслись обратно на большак, только старая овца Пакалнов упрямо оставалась на лугу и, став в боевую позу, замахнулась на собаку передней ногой. И надо же было тому случиться, — все это видели, но никто не спохватился остановить ребенка, — через канаву перебралась маленькая девочка, это была Дзидра, и побежала мелкими быстрыми шажками, чтобы пригнать непослушную овцу. В воздух взлетел столб пламени и дыма, оглушительный взрыв потряс землю. Когда люди опомнились, они прежде всего взглянули на луг. Посреди зеленой отавы зияла черная яма, а на краю ее билась в предсмертной агонии Дзидра. Не думая об опасности, которая еще могла таиться в земле, несколько мужчин бросилось к ребенку. Матери, потерявшей дар речи, они смогли передать лишь безжизненное тело девочки.
На следующее утро белая лошадь привезла в «Кламбуры» повозку, на которой сидела постаревшая женщина с ребенком на коленях. К повозке была привязана корова, а позади шел мужчина. Ни у кого из них в глазах не было радости возвращения. Она не заискрилась и тогда, когда дедушка, старый Пакалн, завидев и узнав едущих, бросил косу и поспешил к ним навстречу.
— Значит, вернулись! — кричал он еще издалека. — И моя внучка тоже. Ну, и радость же будет ей, киска маленьких принесла… — он сразу замолчал, увидев окаменелые лица снохи и сына.
— Прими, отец, — произнес усталым голосом молодой Пакалн, подходя к повозке, чтобы взять ребенка из рук матери.
Старик взял на руки внучку. Долго, не веря своим глазам, он смотрел ей в лицо, пока, словно во сне, не услышал голос сына:
— Понесем в клеть, там прохладнее.
Сын хотел помочь нести, но дедушка не позволил. Бережно, как самую драгоценную ношу, он понес свою любимицу через двор в клеть и положил на постель. Он стоял перед ней и, не отрываясь, смотрел на бледное, обрамленное светлыми кудрями личико, пока из его глаз не покатились две крупные слезы. Медленно покачивая седой головой, старик прошептал:
— Разве это можно простить?
 С трудом подбирая русские слова, она успокаивала, детей. Опустившись на придорожный камень, она посадила на колени и крепко прижала к себе обоих дрожавших ребят.
— Найдем мамочку, найдем, — повторяла она, не зная, как лучше утешить детей.
— Как тебя звать? — спросила она старшего, когда тот умолк.
— Володей, — ответил тот.
— А братишку?
— Ваней.
— Ну вот, Володя и Ваня, вы посидите, присмотрите за моей лошадкой и коровкой, а я пойду, поищу папу и маму.
Мальчики сразу соскочили с ее колен, один стал около лошади, другой — ближе к корове. Балдиниете пошла к месту взрыва, но если бы знала, что там увидит, ни за что не пошла бы. Это было страшнее, чем смотреть на убитого человека, истекающего кровью, даже страшнее того, как погибли Алма Лидум и Дзидриня. Она не увидела людей, хотя раньше их было двое, не увидела лошади, хотя была лошадь. Зияла лишь глубокая черная яма, а поодаль валялась рука женщины, безжизненно простертая, с откинутой кверху шершавой от работы ладонью. И еще увидела она — торчит лошадиная голова, шея которой будто вогнана в землю, рядом с нею — мужская нога в сапоге. Кругом — изодранные клочки одежды и рассыпавшееся зерно, далеко за канаву отброшено колесо от телеги. Это было все, что осталось от двух человек; когда-то они жили в своем доме, но их угнали сюда, и они ютились по чужим углам; в одном месте их принимали приветливо, в другом лишь терпели, а в третьем презирали и бранили. Теперь они спешили домой, эта дорога вела к большаку, выходившему к шоссе, по которому они вернулись бы в родные места.
Показались два советских офицера. Осмотрев место недавней трагедии, они заметили женщину, все еще стоявшую в оцепенении.
— Это ваши? — угрюмо спросил один из них.
— Нет. Я их не знаю, — ответила Балдиниете. — Но остались ребята. Вон там, — она показала рукой. — Два мальчика. Что с ними делать?
— Как, что с ними делать? Растить их надо, вот что! — воскликнул офицер, и Балдиниете почувствовала, как кровь ударила ей в лицо: как это она сама не догадалась, что мальчиков надо взять к себе, заменить им мать.
— Я охотно бы, — запиналась она, подыскивая русские слова, так как знала их не много. — Только сами видите, как мне трудно с языком, — смущенно развела она руками.
— У вас есть свои дети? — спросил второй офицер.
— Есть. Два сына. Только немец забрал. — Балдиниете пыталась сдержать слезы.
— Хорошие были сыновья?
— Хорошие, — ответила она с гордостью.
— Ну вот, воспитайте этих сироток такими же хорошими людьми! Они скоро научатся вашему языку. Дети быстро поймут. Неважно, на каком языке говорит человек, главное, чтобы сердце было хорошее.
Она вернулась к детям. Ребятишки стояли около повозки и говорили что-то лошади. Они уже не плакали. Дети быстро забывают горе и несчастье.
— Садитесь, ребятки, поедем искать маму и папу, — сказала она, стараясь сделать беззаботное лицо. Малыши сразу взобрались на повозку, Володя даже взялся править лошадью, а Ваня улегся на коленях новой матери. Они поехали прямо, по направлению к реке, на берегу которой должен был быть дом Балдиниете. Должен бы — но его не было. Это хозяйка дома заметила сразу же, как только выехала из кустарника и напрягла зрение, чтобы с радостью снова посмотреть на свой дом. Дома не было, только закоптелая труба торчала над голыми, опаленными ветвями яблонь. В эту минуту она благословляла офицеров, подавших ей хорошую мысль — взять детей. Не будь мальчиков — Володи, смело правившего лошадью, и маленького доверчивого Вани, она бы не перенесла так спокойно еще одно несчастье, кричала бы и рвала на себе волосы. А возможно, и нет, быть может, она осталась бы тихой и немой, без мыслей, без чувств. Теперь надо было подумать о том, куда уложить на ночь новых сыновей, — уже наступал сырой осенний вечер. На западе горизонт закрывала темно-серая туча, на небе плыли ладьи облаков. Куда ехать, у кого просить приюта? Как трудно теперь ей, привыкшей всю жизнь жить в своем доме, каким бы он ни был. Ни одной ночи, даже если ее и просили, она не провела под чужой кровлей. А теперь надо было самой идти проситься, обивать чужие пороги и радоваться уголку в чужих сенях.
Куда ехать, к кому обратиться? Тут же, направо, идет дорога в усадьбу Думиней. Ирма даже приходится дальней родственницей — дочь двоюродной сестры покойного мужа. Такая большая усадьба, разве там не найдется места для трех человек, лошади и коровы. Свои поля тоже близко, способнее было бы обрабатывать. В будущую весну, когда надо будет начать строить новый дом, не придется далеко бегать туда и обратно. Нельзя поверить, чтобы Думини отказали в приюте. Они часто жаловались, что построили слишком большие хоромы, зимой не натопишь, летом не проветришь, в зале и в угловой комнате всегда сыро. Вот и будет польза от того, что в доме прибавится жильцов, наконец просохнут стены и выведется плесень.
— Володя, сынок, заверни лошадь вон на эту дорогу, — показала она.
Мальчик понял и, увидев за фруктовым садом дымящуюся трубу, спросил:
— Это, тетенька, твой дом?
— Там мы будем жить, пока не построим себе нового дома, — бодро и уверенно ответила женщина.
Из ворот выбежала собака и с лаем бросилась навстречу.
— Кранц, Кранц! — позвала Балдиниете, и собака смущенно завиляла хвостом. Из кухни распространялся запах горячих блинов. Володя жадно потянул носом. «Бедняжка, кто знает, когда ел, — подумала Балдиниете. — Накормит Ирма ребятишек блинами, и, быть может, не станут сегодня спрашивать о своей матери».
Когда во дворе загрохотала телега и раздалось Володино громкое «тпрр», из кухни вышла хозяйка, поспешно вытирая фартуком руки. Узнав родственницу и соседку, она состроила радостное лицо и даже воскликнула: «Ах, и ты дома!» — но затем, наверное, вспомнив, что у Балдиниете дома больше нет, и угадав ее намерение, — куда же деваться погорелице, — сразу стала серьезной и неловко замолчала.
— Было бы хорошо, если бы мы, как ты говоришь, нашли себе здесь дом, — ухватилась Балдиниете за слова Ирмы.
— А это что за мальчики? — притворяясь, что не поняла, спросила Думиниете.
— Это мои сыновья, — Балдиниете погладила русую головку Володи и нежно посмотрела на Ваню, который, согревшись у нее на коленях, спал.
— Словно бы на русских похожи? — Ирма недоверчиво, со скрытой неприязнью, разглядывала ребят.
Балдиниете отослала Володю в садик, посмотреть на цветы, и, отозвав Ирму в сторонку, шепотом рассказала, что родители детей убиты и она взяла мальчиков к себе.
— Дети еще не знают об ужасном несчастье, — закончила она. — Пусть сперва привыкнут ко мне, а до тех пор от них как-нибудь скрою. Ах, какие же чудовища эти немцы, Алму Лидум убили, дочку Пакалнов… И теперь вот этих — я не догадалась спросить у мальчика, как его фамилия.
— Не гнались бы эти сумасшедшие за немцами, так бы ничего… — брюзжала Ирма, равнодушная к чужому горю. — У нас и того хуже: лошадь убило, а Петеру ступню оторвало.
— Жив остался?
— Жив-то жив. Но подумай, в страдную пору — и такое несчастье. Хлеб осыпается. Нашего Яна этот сумасшедший Озол сделал волостным старшиной, или как их там теперь называют. А лошадь! Лошадей теперь так мало, сколько она по нынешним временам должна стоить, — жаловалась Думиниете.
— Да, да… — протянула Балдиниете, не зная, как утешить родственницу. — Слушай, уже наступает вечер. Будем говорить прямо. Нам ведь не придется ехать к чужим людям искать крова?
— Что поделаешь, осенью нового дома не построишь, — ответила Думиниете, косясь одним глазом на сад, так как мальчик подошел близко к яблоне, под которое валялись опавшие яблоки.
— Дома не построю, но я думала, что вы как родственники на зиму уступите нам угловую комнатушку, — спокойно объяснила Балдиниете. — Все равно пустует.
— Я, право, не знаю… — растерянно отговаривалась Ирма. — Сам еще не вернулся из больницы…
В первый миг она забыла, что комнатка и зал набиты наворованными вещами, но затем спохватилась и энергично замахала обеими руками:
— Нет, нет, у нас никак нельзя! Если бы у тебя еще не было этих русских мальчишек… — избегая взгляда Балдиниете, она наблюдала за ее лицом: может быть, родственница, попав в безвыходное положение, откажется от ребят.
— Мальчики останутся со мной, — решительно сказала Балдиниете.
— Нет, нет, такую обузу — чужих детей к себе в дом не возьму! — еще тверже заявила Ирма. — Разве от них можно будет яблоко уберечь или что-нибудь другое. Если бы они хоть латыши были.
— Я вижу, Ирма, что у тебя в груди нет ни латышского, ни человеческого сердца, — с горечью вздохнулаБалдиниете. — Дай тебе бог прожить свою жизнь так, чтобы не надо было идти к другим проситься, — пожелала она ей, но пожелание прозвучало как предупреждение. Позвав Володю, она велела ему повернуть лошадь. Так они уехали, провожаемые растерянным взглядом Думиниете и запахом горячих блинов.
«Дала бы хоть ребятам по блину, — с досадой подумала Балдиниете, и сама проглотила набежавшую слюну. — Скупа как яловая корова».
— Почему мы уезжаем? — грустно спросил Володя. Видно было, что он не только голоден, но и хочет спать.
— Тут нехорошие люди, — сказала Балдиниете.
Они повернули на прежнюю дорогу и поехали вперед, сами не зная куда. С заросших камышом болот поднимался холодный туман, все гуще и гуще стлался он над землею, окутывая блеклым покрывалом поля, луга и леса. Во влажном вечернем воздухе стук колес отдавался резким эхом по кустарнику и на дороге, и Балдиниете казалось, что не одна она едет, а целая вереница тихих, подавленных людей, у которых немцы сожгли дома и которым свои же соседи не дали уголка, где приютиться. Как же далеко придется ехать в ночь и туман? Не устроиться ли здесь же под какой-нибудь сосной? Но может, там уже притаилась коварная смерть, злорадно стерегущая жертву. И тогда останется лишь рука или нога и обломок колеса. Ну и пусть! Что же еще осталось в жизни? От дома — один пепел. Сыновья… сыновья где-то в далеких краях, за широкой огненной стеной. Им уже не вернуться, нечего надеяться. Какой смысл продолжать путь, всюду и всегда будут только ночь да туман. Солнце ее жизни закатилось. Его восхода — возвращения сыновей — ей не дождаться.
Малыш на ее коленях зашевелился. Он боролся со сном и тер глаза кулачками: проснувшись, сообразил, что телега все еще движется вперед, и спросил:
— Мамочка, почему ты пропала? — и обхватил шею Балдиниете. Затем оторвался и удивленными глазами посмотрел ей в лицо.
— Разве ты другая мамочка? — допытывался мальчик.
— А ты хочешь, чтобы я была твоей мамочкой? — Балдиниете прижала мальчика к груди.
— Ты будешь такая же хорошая, как моя мамочка? — спросил Ваня.
— Постараюсь, — улыбнулась она.
Где-то вдали замерцал огонек. Лошадь сама повернула вправо. Пусть идет. Ради детей надо позабыть стыд и проситься еще к кому-нибудь на ночлег. Дорога как бы знакомая. Днем-то узнала бы, но в темноте порою и свой собственный дом кажется чужим.
Слева от дороги вынырнула темная фигура с косой на плече.
— Эй, кто там едет? — раздался сильный голос Гаужена.
— Гаужен! — воскликнула Балдиниете. — Ну, конечно, это ведь дорога в «Гаужены», в темноте не узнала. Вот хорошо! Ты ведь позволишь переночевать у тебя?
— Разве тебе уже кто-нибудь не позволил, мать?
— Родственники прогнали. Ирма Думинь… — с горечью ответила Балдиниете.
— Тоже выдумала, к Думиням заезжать! — усмехнулся Гаужен и сплюнул. — Какая им от тебя может быть польза? Заезжай ко мне и живи. Таких хором, как у Думиней, у меня, правда, нет. Один сосед с берега реки уже поселился у меня. У них у всех от домов остались одни развалины. Ты не одна. Э, что у тебя там на возу шевелится? Овечка, что ли?
— Это мои новые сыновья. Только что допытывались, буду ли я хорошей матерью, — улыбнулась Балдиниете. Удивительно, куда девалась тяжесть, давившая сердце, на душе стало спокойно и бодро.
Гаужен наклонился, чтобы рассмотреть мальчиков, спросил, как звать, и, посмеявшись, хлопнул Володю по плечу:
— Молодцы ребята! Они тебе помогут дождаться твоих взрослых сыновей.
С трудом подбирая русские слова, она успокаивала, детей. Опустившись на придорожный камень, она посадила на колени и крепко прижала к себе обоих дрожавших ребят.
— Найдем мамочку, найдем, — повторяла она, не зная, как лучше утешить детей.
— Как тебя звать? — спросила она старшего, когда тот умолк.
— Володей, — ответил тот.
— А братишку?
— Ваней.
— Ну вот, Володя и Ваня, вы посидите, присмотрите за моей лошадкой и коровкой, а я пойду, поищу папу и маму.
Мальчики сразу соскочили с ее колен, один стал около лошади, другой — ближе к корове. Балдиниете пошла к месту взрыва, но если бы знала, что там увидит, ни за что не пошла бы. Это было страшнее, чем смотреть на убитого человека, истекающего кровью, даже страшнее того, как погибли Алма Лидум и Дзидриня. Она не увидела людей, хотя раньше их было двое, не увидела лошади, хотя была лошадь. Зияла лишь глубокая черная яма, а поодаль валялась рука женщины, безжизненно простертая, с откинутой кверху шершавой от работы ладонью. И еще увидела она — торчит лошадиная голова, шея которой будто вогнана в землю, рядом с нею — мужская нога в сапоге. Кругом — изодранные клочки одежды и рассыпавшееся зерно, далеко за канаву отброшено колесо от телеги. Это было все, что осталось от двух человек; когда-то они жили в своем доме, но их угнали сюда, и они ютились по чужим углам; в одном месте их принимали приветливо, в другом лишь терпели, а в третьем презирали и бранили. Теперь они спешили домой, эта дорога вела к большаку, выходившему к шоссе, по которому они вернулись бы в родные места.
Показались два советских офицера. Осмотрев место недавней трагедии, они заметили женщину, все еще стоявшую в оцепенении.
— Это ваши? — угрюмо спросил один из них.
— Нет. Я их не знаю, — ответила Балдиниете. — Но остались ребята. Вон там, — она показала рукой. — Два мальчика. Что с ними делать?
— Как, что с ними делать? Растить их надо, вот что! — воскликнул офицер, и Балдиниете почувствовала, как кровь ударила ей в лицо: как это она сама не догадалась, что мальчиков надо взять к себе, заменить им мать.
— Я охотно бы, — запиналась она, подыскивая русские слова, так как знала их не много. — Только сами видите, как мне трудно с языком, — смущенно развела она руками.
— У вас есть свои дети? — спросил второй офицер.
— Есть. Два сына. Только немец забрал. — Балдиниете пыталась сдержать слезы.
— Хорошие были сыновья?
— Хорошие, — ответила она с гордостью.
— Ну вот, воспитайте этих сироток такими же хорошими людьми! Они скоро научатся вашему языку. Дети быстро поймут. Неважно, на каком языке говорит человек, главное, чтобы сердце было хорошее.
Она вернулась к детям. Ребятишки стояли около повозки и говорили что-то лошади. Они уже не плакали. Дети быстро забывают горе и несчастье.
— Садитесь, ребятки, поедем искать маму и папу, — сказала она, стараясь сделать беззаботное лицо. Малыши сразу взобрались на повозку, Володя даже взялся править лошадью, а Ваня улегся на коленях новой матери. Они поехали прямо, по направлению к реке, на берегу которой должен был быть дом Балдиниете. Должен бы — но его не было. Это хозяйка дома заметила сразу же, как только выехала из кустарника и напрягла зрение, чтобы с радостью снова посмотреть на свой дом. Дома не было, только закоптелая труба торчала над голыми, опаленными ветвями яблонь. В эту минуту она благословляла офицеров, подавших ей хорошую мысль — взять детей. Не будь мальчиков — Володи, смело правившего лошадью, и маленького доверчивого Вани, она бы не перенесла так спокойно еще одно несчастье, кричала бы и рвала на себе волосы. А возможно, и нет, быть может, она осталась бы тихой и немой, без мыслей, без чувств. Теперь надо было подумать о том, куда уложить на ночь новых сыновей, — уже наступал сырой осенний вечер. На западе горизонт закрывала темно-серая туча, на небе плыли ладьи облаков. Куда ехать, у кого просить приюта? Как трудно теперь ей, привыкшей всю жизнь жить в своем доме, каким бы он ни был. Ни одной ночи, даже если ее и просили, она не провела под чужой кровлей. А теперь надо было самой идти проситься, обивать чужие пороги и радоваться уголку в чужих сенях.
Куда ехать, к кому обратиться? Тут же, направо, идет дорога в усадьбу Думиней. Ирма даже приходится дальней родственницей — дочь двоюродной сестры покойного мужа. Такая большая усадьба, разве там не найдется места для трех человек, лошади и коровы. Свои поля тоже близко, способнее было бы обрабатывать. В будущую весну, когда надо будет начать строить новый дом, не придется далеко бегать туда и обратно. Нельзя поверить, чтобы Думини отказали в приюте. Они часто жаловались, что построили слишком большие хоромы, зимой не натопишь, летом не проветришь, в зале и в угловой комнате всегда сыро. Вот и будет польза от того, что в доме прибавится жильцов, наконец просохнут стены и выведется плесень.
— Володя, сынок, заверни лошадь вон на эту дорогу, — показала она.
Мальчик понял и, увидев за фруктовым садом дымящуюся трубу, спросил:
— Это, тетенька, твой дом?
— Там мы будем жить, пока не построим себе нового дома, — бодро и уверенно ответила женщина.
Из ворот выбежала собака и с лаем бросилась навстречу.
— Кранц, Кранц! — позвала Балдиниете, и собака смущенно завиляла хвостом. Из кухни распространялся запах горячих блинов. Володя жадно потянул носом. «Бедняжка, кто знает, когда ел, — подумала Балдиниете. — Накормит Ирма ребятишек блинами, и, быть может, не станут сегодня спрашивать о своей матери».
Когда во дворе загрохотала телега и раздалось Володино громкое «тпрр», из кухни вышла хозяйка, поспешно вытирая фартуком руки. Узнав родственницу и соседку, она состроила радостное лицо и даже воскликнула: «Ах, и ты дома!» — но затем, наверное, вспомнив, что у Балдиниете дома больше нет, и угадав ее намерение, — куда же деваться погорелице, — сразу стала серьезной и неловко замолчала.
— Было бы хорошо, если бы мы, как ты говоришь, нашли себе здесь дом, — ухватилась Балдиниете за слова Ирмы.
— А это что за мальчики? — притворяясь, что не поняла, спросила Думиниете.
— Это мои сыновья, — Балдиниете погладила русую головку Володи и нежно посмотрела на Ваню, который, согревшись у нее на коленях, спал.
— Словно бы на русских похожи? — Ирма недоверчиво, со скрытой неприязнью, разглядывала ребят.
Балдиниете отослала Володю в садик, посмотреть на цветы, и, отозвав Ирму в сторонку, шепотом рассказала, что родители детей убиты и она взяла мальчиков к себе.
— Дети еще не знают об ужасном несчастье, — закончила она. — Пусть сперва привыкнут ко мне, а до тех пор от них как-нибудь скрою. Ах, какие же чудовища эти немцы, Алму Лидум убили, дочку Пакалнов… И теперь вот этих — я не догадалась спросить у мальчика, как его фамилия.
— Не гнались бы эти сумасшедшие за немцами, так бы ничего… — брюзжала Ирма, равнодушная к чужому горю. — У нас и того хуже: лошадь убило, а Петеру ступню оторвало.
— Жив остался?
— Жив-то жив. Но подумай, в страдную пору — и такое несчастье. Хлеб осыпается. Нашего Яна этот сумасшедший Озол сделал волостным старшиной, или как их там теперь называют. А лошадь! Лошадей теперь так мало, сколько она по нынешним временам должна стоить, — жаловалась Думиниете.
— Да, да… — протянула Балдиниете, не зная, как утешить родственницу. — Слушай, уже наступает вечер. Будем говорить прямо. Нам ведь не придется ехать к чужим людям искать крова?
— Что поделаешь, осенью нового дома не построишь, — ответила Думиниете, косясь одним глазом на сад, так как мальчик подошел близко к яблоне, под которое валялись опавшие яблоки.
— Дома не построю, но я думала, что вы как родственники на зиму уступите нам угловую комнатушку, — спокойно объяснила Балдиниете. — Все равно пустует.
— Я, право, не знаю… — растерянно отговаривалась Ирма. — Сам еще не вернулся из больницы…
В первый миг она забыла, что комнатка и зал набиты наворованными вещами, но затем спохватилась и энергично замахала обеими руками:
— Нет, нет, у нас никак нельзя! Если бы у тебя еще не было этих русских мальчишек… — избегая взгляда Балдиниете, она наблюдала за ее лицом: может быть, родственница, попав в безвыходное положение, откажется от ребят.
— Мальчики останутся со мной, — решительно сказала Балдиниете.
— Нет, нет, такую обузу — чужих детей к себе в дом не возьму! — еще тверже заявила Ирма. — Разве от них можно будет яблоко уберечь или что-нибудь другое. Если бы они хоть латыши были.
— Я вижу, Ирма, что у тебя в груди нет ни латышского, ни человеческого сердца, — с горечью вздохнулаБалдиниете. — Дай тебе бог прожить свою жизнь так, чтобы не надо было идти к другим проситься, — пожелала она ей, но пожелание прозвучало как предупреждение. Позвав Володю, она велела ему повернуть лошадь. Так они уехали, провожаемые растерянным взглядом Думиниете и запахом горячих блинов.
«Дала бы хоть ребятам по блину, — с досадой подумала Балдиниете, и сама проглотила набежавшую слюну. — Скупа как яловая корова».
— Почему мы уезжаем? — грустно спросил Володя. Видно было, что он не только голоден, но и хочет спать.
— Тут нехорошие люди, — сказала Балдиниете.
Они повернули на прежнюю дорогу и поехали вперед, сами не зная куда. С заросших камышом болот поднимался холодный туман, все гуще и гуще стлался он над землею, окутывая блеклым покрывалом поля, луга и леса. Во влажном вечернем воздухе стук колес отдавался резким эхом по кустарнику и на дороге, и Балдиниете казалось, что не одна она едет, а целая вереница тихих, подавленных людей, у которых немцы сожгли дома и которым свои же соседи не дали уголка, где приютиться. Как же далеко придется ехать в ночь и туман? Не устроиться ли здесь же под какой-нибудь сосной? Но может, там уже притаилась коварная смерть, злорадно стерегущая жертву. И тогда останется лишь рука или нога и обломок колеса. Ну и пусть! Что же еще осталось в жизни? От дома — один пепел. Сыновья… сыновья где-то в далеких краях, за широкой огненной стеной. Им уже не вернуться, нечего надеяться. Какой смысл продолжать путь, всюду и всегда будут только ночь да туман. Солнце ее жизни закатилось. Его восхода — возвращения сыновей — ей не дождаться.
Малыш на ее коленях зашевелился. Он боролся со сном и тер глаза кулачками: проснувшись, сообразил, что телега все еще движется вперед, и спросил:
— Мамочка, почему ты пропала? — и обхватил шею Балдиниете. Затем оторвался и удивленными глазами посмотрел ей в лицо.
— Разве ты другая мамочка? — допытывался мальчик.
— А ты хочешь, чтобы я была твоей мамочкой? — Балдиниете прижала мальчика к груди.
— Ты будешь такая же хорошая, как моя мамочка? — спросил Ваня.
— Постараюсь, — улыбнулась она.
Где-то вдали замерцал огонек. Лошадь сама повернула вправо. Пусть идет. Ради детей надо позабыть стыд и проситься еще к кому-нибудь на ночлег. Дорога как бы знакомая. Днем-то узнала бы, но в темноте порою и свой собственный дом кажется чужим.
Слева от дороги вынырнула темная фигура с косой на плече.
— Эй, кто там едет? — раздался сильный голос Гаужена.
— Гаужен! — воскликнула Балдиниете. — Ну, конечно, это ведь дорога в «Гаужены», в темноте не узнала. Вот хорошо! Ты ведь позволишь переночевать у тебя?
— Разве тебе уже кто-нибудь не позволил, мать?
— Родственники прогнали. Ирма Думинь… — с горечью ответила Балдиниете.
— Тоже выдумала, к Думиням заезжать! — усмехнулся Гаужен и сплюнул. — Какая им от тебя может быть польза? Заезжай ко мне и живи. Таких хором, как у Думиней, у меня, правда, нет. Один сосед с берега реки уже поселился у меня. У них у всех от домов остались одни развалины. Ты не одна. Э, что у тебя там на возу шевелится? Овечка, что ли?
— Это мои новые сыновья. Только что допытывались, буду ли я хорошей матерью, — улыбнулась Балдиниете. Удивительно, куда девалась тяжесть, давившая сердце, на душе стало спокойно и бодро.
Гаужен наклонился, чтобы рассмотреть мальчиков, спросил, как звать, и, посмеявшись, хлопнул Володю по плечу:
— Молодцы ребята! Они тебе помогут дождаться твоих взрослых сыновей.
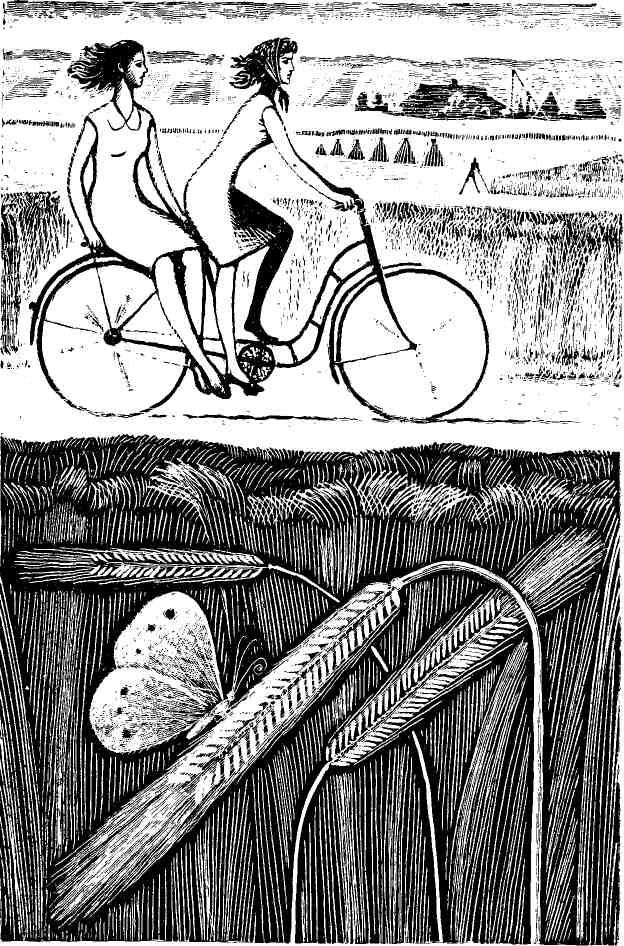 — Здравствуй, Эрик! — крикнула еще издали Мирдза и стремительно соскочила с велосипеда.
Ответив на приветствие, Эрик слегка покраснел.
— Чего ты копошишься, как цыпленок, — усмехнулась Мирдза. — А где твоя жнейка?
— Кто-то увез, пока нас не было.
— И неизвестно куда?
— Нет. Кому же было караулить? — махнул Эрик рукой. — На одного человека есть подозрения, но как тут докажешь?
— На Петера Думиня?
— Говорят, что он все таскал к себе, — медленно ответил Эрик. — Но я ведь сам-то не видел.
— Идем, проверим! — воскликнула Мирдза. — Отец тоже видел, как он шнырял по вашей усадьбе. Здесь же ему и ногу оторвало.
— Как-то неудобно, — отговаривался Эрик. — Ирма раскричится. Может, после сам отдаст.
— А тем временем у тебя весь хлеб осыплется, — вспылила Мирдза. — Чего тут неудобного? Ему не было стыдно у тебя красть, а тебе стыдно спросить у него, чтобы он вернул!
— Ну и пусть, — нерешительно проговорил Эрик. — Если не будет дождя, я помаленьку скошу.
— Машины будут нужны не только вам самим, — вмешалась Эльза. — Без машин не уберем бесхозные поля. Вопрос только в том, как законно произвести обыск и изъятие.
— Вот как, мы будем мудрствовать о законности и дадим хлебу осыпаться! — горячо возразила Мирдза и густо покраснела. — Петер Думинь плевал на законность, когда брал. А нам надо будет ждать постановления прокурора, найти милиционера в белых перчатках и тогда попросить Петера открыть свой сарай.
— Это не совсем так, — попыталась Эльза успокоить Мирдзу, — нам не нужно давать повода говорить, что большевики занимаются самоуправством.
— Но еще хуже будет, — возразила Мирдза, — если скажут, что большевики смотрят на воров сквозь пальцы. Кого настоящие крестьяне больше всего презирают? Воров и лентяев. Если вы не пойдете со мной, то я соберу смелых ребят, и тогда мы найдем закон.
— Мирдза, не так стремительно! — предупредила Эльза. — Обсудим спокойно. Может, поговорим с Ирмой Думинь, и она отдаст.
— А если не отдаст, то я взломаю сарай и вытащу машины. — Мирдзу нельзя было успокоить. — Очень весело получается — я должна отвечать, чтобы в поле не осталось ни одного колоса, но к машинам не допускают. Делайте, что хотите, пусть тогда убирают хлеб вороны да воробьи, а не я. Нет, — быстро спохватилась она, — не так я хотела сказать. Я буду работать: фронту нужен хлеб. Но я все же буду работать на машинах, иначе хлеб останется под снегом. И если вы не дадите мне взять их днем, то я это сделаю ночью.
Эльзе начинало нравиться упорство Мирдзы. Правда была на ее стороне, хотя, может быть, это и не соответствовало букве закона.
— Ладно, я согласна, Мирдза, — уступила она. — Только сделаем это так, чтобы нас самих не прогнали, как бандитов. Ты, Мирдза, поезжай в исполком и получи от председателя записку, что нам поручается взять в пользование машины, пока не будут найдены их владельцы.
— Хорошо, я еду! — и Мирдза повернула велосипед.
— Надо бы найти кого-нибудь, кто подписался бы в качестве свидетеля.
— Зайди к Салениеку, — показала Мирдза рукой в сторону усадьбы «Какты». — И к Пакалну.
Эльза встретила Пакалнов — сына и отца — в сарае, куда они сгружали привезенный хлеб. Поздоровавшись и поговорив с ними, она рассказала о цели своего прихода.
— Нет, нет, — отмахивался старый Пакалн. — За всю свою жизнь я не был в суде и в дела других вмешиваться не хочу. Впутаешься в такое дело, а потом таскайся по судам. Некогда. Работать надо.
— А если бы то же самое случилось с вами и никто бы не пошел в свидетели? — спросила Эльза, задетая безразличием Пакална.
— Зачем тут свидетели, — уклонился Пакалн от прямого ответа. — Если Петер что взял, верните кому принадлежит, и делу конец. Пусть жалуется. Его вещь вы ведь не возьмете. А на то, что краденое заберете, он жаловаться не станет. Не такой уж глупый.
Эльза больше не пыталась уговаривать его. Пакалн по-своему был прав, но все же ей хотелось обеспечить себя свидетелями, чтобы Думини не смогли пустить слух, будто у них отняли их собственное добро. Она простилась и пошла к Салениеку.
Салениек согласился сразу.
— Здесь можно будет сделать интересное психологическое наблюдение: что в Ирме сильнее — честь или корысть, — усмехнулся он.
Когда они вернулись к Эрику, Мирдза уже подъезжала на велосипеде и издали размахивала полученной бумажкой.
— Ну, знаете, этот Ян тоже чудак — боялся подписать, — возмущенно и торопливо рассказывала она. — «Да как же можно, ведь я у них так долго работал», — подражала Мирдза медленной манере Яна разговаривать. — Но я его заставила! — гордо закончила она.
Когда все четверо явились в «Думини», Ирма встретила их недоверчивым и беспокойным взглядом.
— У нас имеются сведения, — начала Мирдза без обиняков, — что Думинь увез к себе в сарай оставленные в поле машины Лидумов.
— Какие машины? — удивилась Ирма. — Нет, нет у нас никаких машин. Муж что-то говорил, будто солдаты забрали.
— Не могу себе представить, чтобы солдатам нужны были жнейки. Они косят немцев из пушек и пулеметов, — иронизировала Мирдза.
— Возможно, ваш муж собрал машины, чтобы они под дождем не заржавели, — пыталась Эльза подсказать Ирме выход из положения.
— Охотно сделали бы это, но некогда было, — смягчилась Ирма. — Я уже самому говорила, надо, мол, присмотреть за домами соседей, приедут люди, захотят жить. А он отвечает: «Хлеб убирать пора, некогда смотреть». Наконец упросила его: «Пойди, присмотри хотя бы за домом Лидумов, чтобы у них не растащили последнее». Там ему, бедняжке, и ногу оторвало, лошадку убило, — закончила она плаксивым голосом и вытерла углом платочка глаза.
— Значит, у вас нет чужих вещей? — строго спросила Мирдза.
— Нет, нет! — заголосила Ирма. — Хоть и бедные мы, да своим обходимся, на чужое не заримся.
— В таком случае, разрешите осмотреть ваш сарай, — нетерпеливо потребовала Мирдза.
— Ах, боже мой, что же вам в нашем сарае смотреть? — сразу вспыхнула Ирма. — Неужто такие времена настали, что каждый может распоряжаться в чужом доме? Я не проверяю ваших сараев, и вы не трогайте мой. Подумаешь, каким комиссаром заделалась! Давно ли в навозе Саркалиса копалась! — Ирма потеряла самообладание.
— Вы с Саркалиене забудьте те времена, когда другие в вашем навозе копались. — Мирдза тоже повысила голос. — Чтобы даром время не терять — вот вам документ от исполкома. Читайте!
Ирма взяла бумажку и стала ее разбирать, держа в вытянутой дрожащей руке.
— Подождите, пока хозяин вернется, — пыталась вывернуться Ирма и стала мять пальцами бумажку. — Усадьба не мне принадлежит, я тут не имею никакого права распоряжаться.
Салениек видел, как Мирдза густо покраснела, и, боясь, что у нее может вырваться что-нибудь необдуманное, заговорил:
— Соседка, чего вы противитесь? Мы ведь все свои люди. Вашего никто не возьмет.
— Как я могу пустить или не пустить вас, — продолжала упрямиться Ирма. — Ключ остался у самого в кармане.
— В таком случае мы взломаем двери, — заявила Мирдза.
— Насильники! — вдруг пронзительно закричала Ирма. — Грабители!
Эрик, все время смотревший в сторону, как бы очнулся, взял Мирдзу за руку.
— Оставь ее, оставь, — нерешительно говорил он, пытаясь отвести Мирдзу в сторону. — Обойдемся как-нибудь.
— Не выйдет. — Мирдза вырвала руку. — Эти машины, которые ты хочешь подарить ей, нужны не только тебе. Они нужны всей волости… Откроете вы по-хорошему или нет? — спросила она Ирму, подступая к ней. — Руганью вы нас не запугаете. Саркалис меня винтовкой стращал, и то не испугалась.
— Она, право, взбесилась, о господи, — бормотала Ирма, медленно ощупывая карманы и выжидая, не удержит ли кто Мирдзу, не отложат ли обыск до другого раза.
— Без полиции раньше этого не делали, — внезапно пришел ей в голову новый довод. — Должен быть кто-нибудь от власти. Откуда мне знать, кто вы такие?
— В документе все написано! — Мирдза начала терять терпение. — Что мы тут так долго возимся, — обратилась она к Эльзе и Салениеку. — Если действовать, так действовать. Вот клещи, — она выхватила их из кармана; рассчитывая на сопротивление Ирмы, она взяла из исполкома с собой клещи. — Эрик, выдерни скобу! Хватит слушать ругань этой… — она чуть не выговорила слово «бабы».
Убедившись, что Мирдза не уступит, Ирма вытащила из кармана ключ, бросила к ее ногам и запричитала:
— Берите, обирайте меня с маленькими детишками! Мужа у меня почти что нет, сможет ли он с одной ногой работать! С голоду придется помирать, а тут еще последнее отнимают…
Мирдза проворно отперла сарай и широко раскрыла двустворчатые двери. Увиденное в сарае поразило даже Мирдзу: половину обширного помещения занимали сельскохозяйственные машины, аккуратно расставленные в три ряда. Тут были три жнейки, четыре косилки, два картофелекопателя, две веялки, пять сепараторов, маслобойки, плуги, бороны, культиваторы, целая груда кос, лопат, вил, грабель. Во второй половине сарая вещи были сложены штабелями — более тяжелые внизу, а те, что полегче, наверху. Чего там только не было: кровати, диваны, столы и стулья, целая груда оконных рам, круги от кухонных плит, коляски, посуда, настольные лампы и даже деревянная игрушечная лошадка.
— Это уж ни на что не похоже! — удивленно воскликнул Эрик.
— Здесь целый склад! — подхватила Эльза.
— Еще несколько тракторов — и готовая МТС, — торжествующе сказала Мирдза.
— Разоряйте нас, разоряйте, — слезливо жаловалась Ирма. — День и ночь трудились, обзавелись всем, кто же мог подумать, что все отберут.
— Прекратите, наконец, эту комедию, — не вытерпел Салениек. — Как можно из-за жадности терять человеческий облик?
— Ага, вот где моя жнейка! — радостно воскликнул Эрик. — И косилка тоже! Может, найдется и сепаратор? Мы спрятали его в мочиле для льна, но кто-то его выудил.
— Вытащим все во двор, тогда разберем, что кому принадлежит, — предложила Эльза.
— Так-то уж нельзя, чтобы все выносить! — Ирма бросилась к сараю, как курица, защищающая своих цыплят. — Пусть Эрик возьмет, что его. Остальные вещи — наши.
— Ого! — усмехнулась Мирдза.
— Ну, докажите, что они не наши, докажите! — словно издеваясь, выкрикивала Ирма. — Может быть, это ваши? Или ваши, господин Салениек? Или, может, госпожи Янсон?
— Мы можем доказать, что они не ваши, — бросила ей Мирдза. — У нас есть свидетель.
— За деньги не трудно свидетеля найти, — не унималась Ирма.
— Найдем и без денег. Кто еще чаще вас самих ходил в этот сарай? — спросила Мирдза и ответила: — Ян Приеде. Он может засвидетельствовать. Как же нам теперь быть? — обратилась она к Эльзе и Салениеку. — Найти владельцев и известить их сегодня не удастся.
— У меня есть предложение, — посоветовал Салениек, — надо составить опись всех найденных вещей, а Думинь пусть подпишется как хранительница.
— Тогда я сейчас же поеду к Яну Приеде, — воскликнула Ирма, как бы хватаясь за последнюю возможность. — Он волостной старшина, пусть скажет, можно ли описывать чужие вещи.
— Как хотите, — бросила ей Мирдза. — А мы начнем опись.
Ирма запрягла лошадь и быстрой рысью поехала в местечко.
— Пусть едет, — улыбнулся Салениек, — сама же привезет нам свидетеля.
— Как бы она по дороге не уговорила Яна? — сказал Эрик с опасением. — Он ведь такой тихий.
— Тогда я сегодня же вечером на велосипеде махну в уезд жаловаться, — заволновалась Мирдза.
— Здравствуй, Эрик! — крикнула еще издали Мирдза и стремительно соскочила с велосипеда.
Ответив на приветствие, Эрик слегка покраснел.
— Чего ты копошишься, как цыпленок, — усмехнулась Мирдза. — А где твоя жнейка?
— Кто-то увез, пока нас не было.
— И неизвестно куда?
— Нет. Кому же было караулить? — махнул Эрик рукой. — На одного человека есть подозрения, но как тут докажешь?
— На Петера Думиня?
— Говорят, что он все таскал к себе, — медленно ответил Эрик. — Но я ведь сам-то не видел.
— Идем, проверим! — воскликнула Мирдза. — Отец тоже видел, как он шнырял по вашей усадьбе. Здесь же ему и ногу оторвало.
— Как-то неудобно, — отговаривался Эрик. — Ирма раскричится. Может, после сам отдаст.
— А тем временем у тебя весь хлеб осыплется, — вспылила Мирдза. — Чего тут неудобного? Ему не было стыдно у тебя красть, а тебе стыдно спросить у него, чтобы он вернул!
— Ну и пусть, — нерешительно проговорил Эрик. — Если не будет дождя, я помаленьку скошу.
— Машины будут нужны не только вам самим, — вмешалась Эльза. — Без машин не уберем бесхозные поля. Вопрос только в том, как законно произвести обыск и изъятие.
— Вот как, мы будем мудрствовать о законности и дадим хлебу осыпаться! — горячо возразила Мирдза и густо покраснела. — Петер Думинь плевал на законность, когда брал. А нам надо будет ждать постановления прокурора, найти милиционера в белых перчатках и тогда попросить Петера открыть свой сарай.
— Это не совсем так, — попыталась Эльза успокоить Мирдзу, — нам не нужно давать повода говорить, что большевики занимаются самоуправством.
— Но еще хуже будет, — возразила Мирдза, — если скажут, что большевики смотрят на воров сквозь пальцы. Кого настоящие крестьяне больше всего презирают? Воров и лентяев. Если вы не пойдете со мной, то я соберу смелых ребят, и тогда мы найдем закон.
— Мирдза, не так стремительно! — предупредила Эльза. — Обсудим спокойно. Может, поговорим с Ирмой Думинь, и она отдаст.
— А если не отдаст, то я взломаю сарай и вытащу машины. — Мирдзу нельзя было успокоить. — Очень весело получается — я должна отвечать, чтобы в поле не осталось ни одного колоса, но к машинам не допускают. Делайте, что хотите, пусть тогда убирают хлеб вороны да воробьи, а не я. Нет, — быстро спохватилась она, — не так я хотела сказать. Я буду работать: фронту нужен хлеб. Но я все же буду работать на машинах, иначе хлеб останется под снегом. И если вы не дадите мне взять их днем, то я это сделаю ночью.
Эльзе начинало нравиться упорство Мирдзы. Правда была на ее стороне, хотя, может быть, это и не соответствовало букве закона.
— Ладно, я согласна, Мирдза, — уступила она. — Только сделаем это так, чтобы нас самих не прогнали, как бандитов. Ты, Мирдза, поезжай в исполком и получи от председателя записку, что нам поручается взять в пользование машины, пока не будут найдены их владельцы.
— Хорошо, я еду! — и Мирдза повернула велосипед.
— Надо бы найти кого-нибудь, кто подписался бы в качестве свидетеля.
— Зайди к Салениеку, — показала Мирдза рукой в сторону усадьбы «Какты». — И к Пакалну.
Эльза встретила Пакалнов — сына и отца — в сарае, куда они сгружали привезенный хлеб. Поздоровавшись и поговорив с ними, она рассказала о цели своего прихода.
— Нет, нет, — отмахивался старый Пакалн. — За всю свою жизнь я не был в суде и в дела других вмешиваться не хочу. Впутаешься в такое дело, а потом таскайся по судам. Некогда. Работать надо.
— А если бы то же самое случилось с вами и никто бы не пошел в свидетели? — спросила Эльза, задетая безразличием Пакална.
— Зачем тут свидетели, — уклонился Пакалн от прямого ответа. — Если Петер что взял, верните кому принадлежит, и делу конец. Пусть жалуется. Его вещь вы ведь не возьмете. А на то, что краденое заберете, он жаловаться не станет. Не такой уж глупый.
Эльза больше не пыталась уговаривать его. Пакалн по-своему был прав, но все же ей хотелось обеспечить себя свидетелями, чтобы Думини не смогли пустить слух, будто у них отняли их собственное добро. Она простилась и пошла к Салениеку.
Салениек согласился сразу.
— Здесь можно будет сделать интересное психологическое наблюдение: что в Ирме сильнее — честь или корысть, — усмехнулся он.
Когда они вернулись к Эрику, Мирдза уже подъезжала на велосипеде и издали размахивала полученной бумажкой.
— Ну, знаете, этот Ян тоже чудак — боялся подписать, — возмущенно и торопливо рассказывала она. — «Да как же можно, ведь я у них так долго работал», — подражала Мирдза медленной манере Яна разговаривать. — Но я его заставила! — гордо закончила она.
Когда все четверо явились в «Думини», Ирма встретила их недоверчивым и беспокойным взглядом.
— У нас имеются сведения, — начала Мирдза без обиняков, — что Думинь увез к себе в сарай оставленные в поле машины Лидумов.
— Какие машины? — удивилась Ирма. — Нет, нет у нас никаких машин. Муж что-то говорил, будто солдаты забрали.
— Не могу себе представить, чтобы солдатам нужны были жнейки. Они косят немцев из пушек и пулеметов, — иронизировала Мирдза.
— Возможно, ваш муж собрал машины, чтобы они под дождем не заржавели, — пыталась Эльза подсказать Ирме выход из положения.
— Охотно сделали бы это, но некогда было, — смягчилась Ирма. — Я уже самому говорила, надо, мол, присмотреть за домами соседей, приедут люди, захотят жить. А он отвечает: «Хлеб убирать пора, некогда смотреть». Наконец упросила его: «Пойди, присмотри хотя бы за домом Лидумов, чтобы у них не растащили последнее». Там ему, бедняжке, и ногу оторвало, лошадку убило, — закончила она плаксивым голосом и вытерла углом платочка глаза.
— Значит, у вас нет чужих вещей? — строго спросила Мирдза.
— Нет, нет! — заголосила Ирма. — Хоть и бедные мы, да своим обходимся, на чужое не заримся.
— В таком случае, разрешите осмотреть ваш сарай, — нетерпеливо потребовала Мирдза.
— Ах, боже мой, что же вам в нашем сарае смотреть? — сразу вспыхнула Ирма. — Неужто такие времена настали, что каждый может распоряжаться в чужом доме? Я не проверяю ваших сараев, и вы не трогайте мой. Подумаешь, каким комиссаром заделалась! Давно ли в навозе Саркалиса копалась! — Ирма потеряла самообладание.
— Вы с Саркалиене забудьте те времена, когда другие в вашем навозе копались. — Мирдза тоже повысила голос. — Чтобы даром время не терять — вот вам документ от исполкома. Читайте!
Ирма взяла бумажку и стала ее разбирать, держа в вытянутой дрожащей руке.
— Подождите, пока хозяин вернется, — пыталась вывернуться Ирма и стала мять пальцами бумажку. — Усадьба не мне принадлежит, я тут не имею никакого права распоряжаться.
Салениек видел, как Мирдза густо покраснела, и, боясь, что у нее может вырваться что-нибудь необдуманное, заговорил:
— Соседка, чего вы противитесь? Мы ведь все свои люди. Вашего никто не возьмет.
— Как я могу пустить или не пустить вас, — продолжала упрямиться Ирма. — Ключ остался у самого в кармане.
— В таком случае мы взломаем двери, — заявила Мирдза.
— Насильники! — вдруг пронзительно закричала Ирма. — Грабители!
Эрик, все время смотревший в сторону, как бы очнулся, взял Мирдзу за руку.
— Оставь ее, оставь, — нерешительно говорил он, пытаясь отвести Мирдзу в сторону. — Обойдемся как-нибудь.
— Не выйдет. — Мирдза вырвала руку. — Эти машины, которые ты хочешь подарить ей, нужны не только тебе. Они нужны всей волости… Откроете вы по-хорошему или нет? — спросила она Ирму, подступая к ней. — Руганью вы нас не запугаете. Саркалис меня винтовкой стращал, и то не испугалась.
— Она, право, взбесилась, о господи, — бормотала Ирма, медленно ощупывая карманы и выжидая, не удержит ли кто Мирдзу, не отложат ли обыск до другого раза.
— Без полиции раньше этого не делали, — внезапно пришел ей в голову новый довод. — Должен быть кто-нибудь от власти. Откуда мне знать, кто вы такие?
— В документе все написано! — Мирдза начала терять терпение. — Что мы тут так долго возимся, — обратилась она к Эльзе и Салениеку. — Если действовать, так действовать. Вот клещи, — она выхватила их из кармана; рассчитывая на сопротивление Ирмы, она взяла из исполкома с собой клещи. — Эрик, выдерни скобу! Хватит слушать ругань этой… — она чуть не выговорила слово «бабы».
Убедившись, что Мирдза не уступит, Ирма вытащила из кармана ключ, бросила к ее ногам и запричитала:
— Берите, обирайте меня с маленькими детишками! Мужа у меня почти что нет, сможет ли он с одной ногой работать! С голоду придется помирать, а тут еще последнее отнимают…
Мирдза проворно отперла сарай и широко раскрыла двустворчатые двери. Увиденное в сарае поразило даже Мирдзу: половину обширного помещения занимали сельскохозяйственные машины, аккуратно расставленные в три ряда. Тут были три жнейки, четыре косилки, два картофелекопателя, две веялки, пять сепараторов, маслобойки, плуги, бороны, культиваторы, целая груда кос, лопат, вил, грабель. Во второй половине сарая вещи были сложены штабелями — более тяжелые внизу, а те, что полегче, наверху. Чего там только не было: кровати, диваны, столы и стулья, целая груда оконных рам, круги от кухонных плит, коляски, посуда, настольные лампы и даже деревянная игрушечная лошадка.
— Это уж ни на что не похоже! — удивленно воскликнул Эрик.
— Здесь целый склад! — подхватила Эльза.
— Еще несколько тракторов — и готовая МТС, — торжествующе сказала Мирдза.
— Разоряйте нас, разоряйте, — слезливо жаловалась Ирма. — День и ночь трудились, обзавелись всем, кто же мог подумать, что все отберут.
— Прекратите, наконец, эту комедию, — не вытерпел Салениек. — Как можно из-за жадности терять человеческий облик?
— Ага, вот где моя жнейка! — радостно воскликнул Эрик. — И косилка тоже! Может, найдется и сепаратор? Мы спрятали его в мочиле для льна, но кто-то его выудил.
— Вытащим все во двор, тогда разберем, что кому принадлежит, — предложила Эльза.
— Так-то уж нельзя, чтобы все выносить! — Ирма бросилась к сараю, как курица, защищающая своих цыплят. — Пусть Эрик возьмет, что его. Остальные вещи — наши.
— Ого! — усмехнулась Мирдза.
— Ну, докажите, что они не наши, докажите! — словно издеваясь, выкрикивала Ирма. — Может быть, это ваши? Или ваши, господин Салениек? Или, может, госпожи Янсон?
— Мы можем доказать, что они не ваши, — бросила ей Мирдза. — У нас есть свидетель.
— За деньги не трудно свидетеля найти, — не унималась Ирма.
— Найдем и без денег. Кто еще чаще вас самих ходил в этот сарай? — спросила Мирдза и ответила: — Ян Приеде. Он может засвидетельствовать. Как же нам теперь быть? — обратилась она к Эльзе и Салениеку. — Найти владельцев и известить их сегодня не удастся.
— У меня есть предложение, — посоветовал Салениек, — надо составить опись всех найденных вещей, а Думинь пусть подпишется как хранительница.
— Тогда я сейчас же поеду к Яну Приеде, — воскликнула Ирма, как бы хватаясь за последнюю возможность. — Он волостной старшина, пусть скажет, можно ли описывать чужие вещи.
— Как хотите, — бросила ей Мирдза. — А мы начнем опись.
Ирма запрягла лошадь и быстрой рысью поехала в местечко.
— Пусть едет, — улыбнулся Салениек, — сама же привезет нам свидетеля.
— Как бы она по дороге не уговорила Яна? — сказал Эрик с опасением. — Он ведь такой тихий.
— Тогда я сегодня же вечером на велосипеде махну в уезд жаловаться, — заволновалась Мирдза.
 Мирдзой вдруг овладело отчаяние, она почувствовала себя ужасно одинокой, обхватила стоявшую на обочине дороги березу, прижалась к ней головой и разразилась тяжелыми, безудержными рыданиями…
Осенний ветер со свистом раскачивал сосновые ветви, от моха поднимался сырой запах гнили, какая-то большая птица ударилась о ветви крыльями и с шумом улетела. «Осень и одиночество, как все это не ко времени, ведь теперь должна начаться новая трудовая, радостная жизнь. Куда идти? С кем говорить? Мать?.. Она — как живой труп. В конце концов, я ей безразлична. Мое возвращение ее не воскресило. — Мирдза еще плотнее прильнула к березе. — Моя дружба с Зентой осталась безответной. Эрик? Но что я знаю о его чувствах ко мне?» Она внезапно так встрепенулась от своего вопроса, что даже перестала плакать. Да, что она знает о чувствах Эрика? Он ведь ничего, совершенно ничего не сказал. Он хорошо относился к ней. Вообще — он хороший человек, но это еще не означает… «Да, чего же? Чего же ты хотела? — начала она у себя выпытывать. — Значит, ты надеялась, что он тебя… любит!» — Ей хотелось выкрикнуть это желание, настолько ей в эту минуту нужен был человек, близкий друг, который помог бы ей избавиться от охватившего одиночества, такого нелепого и совсем несвойственного ее характеру.
Если все же пойти к Эрику? Ну, ладно, она не скажет ничего, кроме этих двух слов: «Рига взята!» Скажет их так, как недавно сказала бы прежняя Мирдза, шумливая и веселая. Она увидит Эрика, и уже от этого весь вечер, а может быть, и завтрашний день, будет легким и светлым.
Твердой походкой она пошла вперед, но, когда стала приближаться к опушке березовой рощи, услышала шаги человека, шедшего ей навстречу, и испугалась. Бежать назад было уже поздно. Спрятаться за деревья — глупо. Да и зачем ей удирать. Кто может знать, куда она идет? Она ускорила шаги, будто она спешила по какому-то делу, и через мгновение чуть не столкнулась с Эриком.
— Мирдза! — воскликнул тот, пораженный.
— Она самая! — Мирдзу обдала волна радости, и к ней вернулось прежнее хорошее настроение.
— Ты куда идешь? — неуверенно спросил Эрик.
— Так просто, прогуливаюсь, — смутилась и Мирдза. — А ты?
— Я тоже — так просто.
Оба замолчали. Они слушали, как ветер, завывая, колышет рощу, как стая птиц, вспорхнула с качающихся ветвей и полетела искать более надежный ночлег, но этот ветер, казался порывистым вешним шквалом, который развеивает последнее оцепенение зимы, расковывает ручьи, растопляет снег и поднимает от земли влажный запах моха и тлеющих листьев.
Эрик бережно взял руку Мирдзы, и ей было приятно, что эта жесткая, мозолистая рука может быть такой нежной.
— У тебя есть немного времени? — спросил он.
— Да, — ответила Мирдза.
— Может, лучше погуляем, чем так стоять, — сказал Эрик и легко взял Мирдзу за локоть. — Ты, наверное, будешь смеяться надо мной, — начал он немного погодя, и Мирдза почувствовала, как трудно ему говорить.
— Нет, я никогда над тобой не смеюсь, — серьезно сказала Мирдза.
— Я уже третий вечер хожу по этой дороге, но ни разу у меня не хватило смелости дойти до твоего дома.
Мирдза молчала. Было бы неуместно спросить его: «Почему?»
— Я скоро уйду на фронт и поэтому хотел бы знать, будешь ли… будешь ли ты меня ждать? — большего он не осмелился спросить.
— Я буду ждать тебя, Эрик! Еще больше, я… — горячо начала Мирдза и не договорила.
Эрик остановился и, насколько это позволяла звездная осенняя ночь, пристально и долго смотрел девушке в глаза.
— Мирдза, у меня не хватает слов сказать, как я тебя люблю, — проговорил он наконец. — Я знаю, что с фронта могу и не вернуться. Или вернуться искалеченным.
— Эрик, молчи! — воскликнула Мирдза. — Ты не смеешь говорить о смерти. Я не могу этого слушать. Потому что слишком люблю. И каким бы ты ни пришел — без рук, без ног, — я навсегда останусь с тобой.
— Какое счастье, что я тебя встретил сегодня вечером, — тихо и радостно сказал Эрик.
— Ты не знаешь, почему это произошло? Я ведь хотела идти к тебе, — произнесла Мирдза.
— Ты? Ко мне?
— Но не дошла бы. На опушке леса у меня снова не хватило смелости, — засмеялась Мирдза. — Эрик, я становлюсь себе смешной. Я сегодня такая сентиментальная. Ни за что не узнала бы себя, если бы кто-нибудь изобразил меня в таком виде.
— Что же тогда мне сказать? — Эрик заразился ее веселостью. — Я уже третий день сентиментален.
— Да, но я ведь комсомолка, и мне, наверное, надо быть более уравновешенной, — сказала Мирдза серьезным тоном.
В ту ночь они долго гуляли по дороге, то в одну, то в другую сторону, и оба чувствовали, что хорошо и без слов, без обещаний. Блеклое небо часто прорезали падающие звезды, и Мирдза вспомнила давнишнее поверье: когда падает звезда, надо что-нибудь пожелать и это исполнится.
«Хочу, чтобы ты, любимый, вернулся целым и невредимым с поля боя! — пожелала она себе и посмеялась над собою: ведь это только суеверие. — Ну, ладно, пусть уж в эту ночь моя сентиментальность дополнится верой в приметы, — простила она себе. — Переболею сразу всеми болезнями и завтра буду совсем здоровой».
Сырость начала проникать сквозь одежду, и Эрик забеспокоился, как бы Мирдза не простудилась. Обняв за плечи, он проводил ее через рощу и тихо, но твердо сказал:
— А теперь тебе нужно идти домой.
Мирдза поняла, что твердость в голосе относилась больше к нему самому: разве ему легко будет одному возвращаться через рощу, по которой они только что шли вдвоем? Она легко обхватила его голову руками, погладила холодные щеки. Непроизвольно их губы соединились в первом поцелуе. После этого они больше не сказали друг другу ни слова. Каждый ушел в свою сторону, полный счастьем первой чистой любви.
— Я должен вернуться. Я вернусь, — говорил себе Эрик, медленно шагая через рощу.
— Что со мной случилось? — удивлялась Мирдза, приглаживая влажные волосы. — Завтра же я пойду к Зенте и стану прежней Мирдзой.
Хотя утро было сырое и облачное, Мирдза проснулась веселой и ликующей. Было еще рано, мать спала.
— Пусть поспит, бедняжка, — решила Мирдза и тихо выскользнула из комнаты. Сняв с изгороди подойник, она направилась в хлев доить корову. Пусть мать отдохнет — ей хотелось кого-нибудь пожалеть, быть доброй, сделать больше, чем в другие дни.
Когда Мирдза с полным подойником вернулась на кухню, мать уже встала и натягивала толстые шерстяные чулки.
— Что ты сегодня так рано поднялась? — спросила она. — Ведь вчера так поздно легла. Как ты можешь ходить так легко одетой. Прямо дрожь пробирает, когда на тебя смотришь. Такое пасмурное утро.
— Мамочка, ведь за тучами солнце. Когда это знаешь и не забываешь, то от этого может стать тепло, — ответила Мирдза, процеживая молоко.
— Хорошо, пока человек молод, — вздохнула мать. — Если и бывают заботы, то они быстрее проходят. Как грозовой дождь. То льет так, что кажется, весь мир затопит, то засверкает солнце еще ярче прежнего. А заботы в старости — как осень. Начнет моросить — день, два, неделю и месяц подряд.
— Мамочка, милая, — обняла Мирдза мать и помогла ей подняться. — Сердце надо сохранить молодым, тогда человек никогда не состарится.
— Я уже и так сердита на свое сердце, — болезненно улыбнулась мать. — Себе надоела, не говоря уже о других. Иногда я думаю: неужели все эти слезы, пролитые матерями за войну, когда-нибудь не отольются ее зачинщикам?
— Это так и будет, — ответила Мирдза. — Им гибели не избежать.
— Хотя погибших сыновей мы уже не вернем, — продолжала мать, — а все-таки как бы легче станет. Воздух станет чище.
— Мы сегодня будем картошку копать или отдохнем? — вдруг спросила Мирдза, вспомнив вчерашнее решение пойти к Зенте.
— Много ли там ее осталось, — ответила мать. — Последние борозды закончу завтра. Хотела сегодня, в воскресенье, связать отцу перчатки. Наступит зима, на руки нечего надеть.
— Тогда я, может, сбегаю к Зенте? Давно уж с нею не виделась. Я отлучусь ненадолго. — Мирдза и просила, и извинялась, чтобы мать не подумала, что дочь от нее бежит, оставляет одну.
— Иди, иди, дочка, к молодежи, — спокойно согласилась мать. — Я уж подомовничаю.
За усадьбой Саркалисов Мирдза встретила парикмахершу Лисман с корзинкой в руках. Как всегда, улыбающаяся, приветливая парикмахерша остановилась и принялась рассказывать, что почтовая барышня послала ее к Саркалиене за продуктами. Дала письмо, деньги и список, что ей нужно.
— Нынче на рынок никто ничего не возит, говорят, что все отбирают, как и при немцах, — говорила Лисман, — где же девушке на чужой стороне раздобыть? Говорит, видела в списках в исполкоме, что у Саркалисов коров больше, чем у других, может, продадут чего-нибудь.
— Возможно, — ответила Мирдза, желая поскорее избавиться от болтливой женщины.
Встреча с Зентой все же получилась не такая, как Мирдза надеялась. У Зенты была гостья. Она перед зеркалом укладывала Зенте косы то выше, то ниже, стараясь создать модную прическу. Зента поспешила познакомить Мирдзу с Майгой Расман, почтовой работницей, третьей комсомолкой в волости. С первого взгляда Мирдзе что-то не понравилось в новой приятельнице, она и в Майге как бы почувствовала неприязнь к себе. Мирдза украдкой наблюдала за Майгой и, перехватив ее взгляд, заметила, что Майга тоже следит за ней.
— Как вам нравится новая прическа Зенты? — спросила Майга Мирдзу. — По-моему, намного лучше, чем раньше, правда?
— Зента теперь выглядит более чужой, — откровенно ответила Мирдза.
Не только прическа, но и сама Зента казалась ей какой-то другой, словно Майга преобразила ее, не столь уж заметно, но все же преобразила. Зента поднялась, и стало видно, что у нее переделано и платье, притом тоже во вкусе Майги. Зенте это не шло. Юбочка едва достигала коленей и даже открыла их, когда Зента шагнула; плечи были высоко подняты, вокруг шеи и на груди — непомерно пышная отделка из розового шелка, словно Зента яркими пятнами пыталась привлечь к себе внимание.
— Мне кажется, что раньше платье было лучше, — сказала Мирдза, воздерживаясь от резкого замечания.
— В каком смысле лучше? — поинтересовалась Майга, благодаря настойчивым советам которой платье стало совсем другим. — Почему молодые девушки должны ходить, как деревенские мамаши — в длинных юбках, со сползающими плечами и с какими-то помятыми тряпками вокруг шеи? Мы, комсомолки, обязаны воспитывать у молодежи хороший вкус.
— Что идет одному, не идет другому, — пыталась возражать Мирдза. Она чувствовала, что Зента бессильна против навязчивого влияния приезжей, потеряла самостоятельность и во всем подражает ей. — И разве мы, деревенские девушки, совсем уж не имеем вкуса? Это не так, — добавила Мирдза. Глубоко вздохнув, она продолжала: — Кроме того, мне кажется, что у нас, комсомолок, — последние слова она особо подчеркнула, — сейчас есть другие, более важные задачи, чем обрезать у платьев подолы и взбивать прически.
Это было сказано довольно резко и недвусмысленно. «Пусть обижается, если ей угодно, — подумала Мирдза. — Пусть не думает, что сможет всех здесь обвести вокруг своего наманикюренного пальца».
— В свое свободное время мы можем поухаживать за собой, — совершенно спокойно ответила Майга, словно резкое замечание Мирдзы относилось не к ней. — В уставе комсомола ведь не сказано, что нам нужно ходить с трауром под ногтями.
Это было явной издевкой над Мирдзой, над ее мозолистыми руками. Еще вчера до сумерек она копала картофель, и как потом ни терла свои ладони, как ни чистила, они все же не стали белыми.
Зента заметила, что обе девушки, неизвестно почему, невзлюбили друг друга, хотя обе были ее подругами и комсомолками. Опасаясь, как бы скрытая неприязнь не перешла в открытую вражду, она попыталась переменить разговор, но не смогла быстро сообразить, с чего начать.
— Мирдза, ты знаешь, Рига взята! — вдруг сказала она, считая, что нашла удачный выход.
— Только что? — иронически переспросила Мирдза.
— Ах, ты уже знаешь? — протянула Зента.
— Да, узнала не от тебя, ты, наверное, забыла мне сказать! — Мирдзе, как прежде, хотелось поддразнить Зенту, но она чувствовала, что ее шутки теперь не получаются такими теплыми, дружескими и невинными, как раньше.
— Вот что, Мирдза, — вспомнила Зента, — вообще-то я уже опоздала, надо выделить уполномоченных десятидворок или бригадиров. Ты не возьмешься быть одним из таких уполномоченных?
— От работы я никогда не отказываюсь, — ответила Мирдза, — но мне кажется, что серьезные разговоры сегодня неуместны, вы ведь заняты уходом за собой. Приду в исполком в рабочие часы. — Ей хотелось поскорее уйти с глаз Майги, которые, затаив вражду и иронию, наблюдали и оценивали каждое ее движение. С Зентой надо поговорить наедине, предупредить ее, пусть не слишком доверяется советам горожанки. Люди еще начнут смеяться. Мирдза простилась и ушла, подумав, что раньше Зента никогда так легко не отпускала ее, находила десятки разных причин, чтобы задержать.
— Интересная девушка, — сказала Майга, когда Мирдза ушла. — Довольно бойкая. Хотя по твоим рассказам я себе представляла ее более интеллигентной.
На следующий день, когда Мирдза пришла в исполком, Зента, правда, поговорила с ней, на кого можно было бы возложить обязанности уполномоченного или бригадира, какие дворы отнести к тому или иному десятку; и это было все. Мирдза ждала, чтобы Зента первой разоткровенничалась, высказалась бы о вчерашнем столкновении с Расман, и тогда, наконец, могла бы и она открыто излить все, что накопилось на сердце и от чего так хотелось освободиться. Но Зента даже не вспоминала о вчерашнем дне, закрыв для Мирдзы путь к откровенности и искренности. Когда деловые разговоры кончились, настало неловкое молчание. Зента улыбалась, но это не была прежняя дружеская улыбка, когда они понимали друг друга без слов, по усмешке, по взмаху ресниц. Эта улыбка сердила Мирдзу, она ей казалась вуалью, которую Зента накинула, чтобы нельзя было заглянуть в ее лицо.
— Да, опять звонила Эльза, говорила, что надо укрепить ряды комсомола, — воскликнула Зента, довольная, что снова нашла потерянную нить разговора. — Пока что ко мне обратился только Рудис Лайвинь. Как ты думаешь, принять его? Парень он ничего, но стоит ему попасть в компанию пьяниц, как теряет чувство меры. Майга, правда, говорит, что его надо принять. Именно тогда он, может быть, станет серьезнее.
«Чего она вечно с этой Майгой! — вспыхнула Мирдза. — Что у нее своей головы нет!»
— Зачем же ты меня спрашиваешь, раз Майга так говорит? — насмешливо сказала она, стараясь быть спокойной. — Я даже не знаю, кто у нас в волости комсорг. Может быть, Майга?
— Ты не знаешь? — Зента укоризненно посмотрела на Мирдзу.
— Никто мне этого не говорил, — упрямо ответила Мирдза, выдерживая ее взгляд.
— Ну, хорошо, тогда я скажу: я комсорг, — голос Зентыпрозвучал необычайно твердо.
— Рада познакомиться! — Мирдза попыталась улыбнуться и сама почувствовала, что улыбка получилась деланная. Ей так хотелось броситься Зенте на шею, потормошить подругу и искренне воскликнуть: «Ну, что мы, Зента, дурачимся, как глупенькие?» Потом бы они обе, конечно, всплакнули, и все было бы по-старому. Но прилив упрямства как бы сковал Мирдзе руки, они остались неподвижными, отказываясь от объятий. На лице застыла деланная улыбка, и губы не хотели произнести нужных слов. А в глазах так и не растаял ледок, не давший прорваться теплому взгляду.
— Сегодня я, наверное, тебе больше не нужна? — спросила Мирдза, стараясь избавиться от мучительной напряженности. — Могу пойти копать картошку?
— Да, я все сказала, — ответила Зента и начала читать какую-то бумажку.
Мирдза ушла, даже не подав руки. Но, дойдя до кладбища, она стала замедлять шаг. Упрямство ослабло, его вытеснил стыд, заставивший Мирдзу покраснеть. «Как глупо, как некрасиво такое столкновение между комсомольцами… — думала она. — Разве так надо начинать работу? Что со мной случилось — или я ревную Зенту к Майге? Но Майга ведь тоже комсомолка, почему Зента должна ее отталкивать? Так нельзя начинать работу, так работа не пойдет!» Вспомнилось, как они с Зентой были окрылены в первые дни, когда приехала Эльза и предложила организовать бригады жнецов. Почему так не могло быть и теперь? Уж не представляет ли она себе комсомольскую организацию двусторонним союзом с Зентой или же узким кружком друзей, в который они принимали бы лишь избранных? Например, ей хотелось, чтобы Эрик был комсомольцем (он им станет в армии, в этом нет сомнений!), но если бы он даже остался дома или война скоро кончилась, это бы не была молодежная организация. Нет, ей немедленно надо вернуться, пока ссора не пустила корни, пока ее можно пресечь несколькими откровенными словами да еще слезами в придачу.
Словно человек, который наконец решился и знает, как дальше поступать, она повернула назад и пошла в исполком. «На этот раз я не уступлю наплыву чувств», — твердо говорила себе Мирдза, повторяя это до самого исполкома. Но когда она открыла дверь комнаты, где сидела Зента, эта решимость рассыпалась, как зажатая в ладони горсть сухого песка, когда раскрывают пальцы. У Зенты сидела Майга. Обе они так безудержно хохотали, что Мирдза почувствовала себя задетой до глубины души. «Наверное, Зента рассказывала обо мне, и у них было над чем посмеяться…» — мгновенно решила Мирдза. Ей показалось, что она отгадала причину их веселости. Это как бы подтвердилось еще тем, что Майга, первая заметившая появление Мирдзы, подмигнула Зенте. Та сразу замолчала и, как почудилось Мирдзе, была неприятно поражена ее возвращением.
— Я… я… — растерялась Мирдза, не будучи в состоянии сразу придумать что-либо путное, чтобы оправдать свое возвращение, — я… забыла спросить, каковы будут обязанности уполномоченного десятидворки, — вдруг придумав, быстро выпалила она.
— Я могу дать тебе инструкцию, — Зента смущенно начала рыться в какой-то папке. — Может, спишешь и дашь остальным.
— Кому, например?
— Например, старому Пакалну и Гаужену, которые также будут уполномоченными, — ответила Зента, преодолев растерянность.
Взяв инструкцию, Мирдза задержалась и не уходила. В последний раз она хотела заставить себя сделать то, на что решилась. Она старалась поймать взгляд Зенты, но та смотрела в сторону, и глаза Мирдзы встретились с карими глазами Майги, в которых сквозила насмешка победительницы и наглый вопрос: «Чего тебе еще надо, почему не уходишь?» Не сказав ни слова, Мирдза повернулась и пошла.
«Нет, я больше не стану унижаться, не буду искать ее, — она снова загорелась упрямством, на этот раз более осознанным и не так легко одолимым. — Я буду делать свою работу, пусть Зента справляется со своей».
Мирдзой вдруг овладело отчаяние, она почувствовала себя ужасно одинокой, обхватила стоявшую на обочине дороги березу, прижалась к ней головой и разразилась тяжелыми, безудержными рыданиями…
Осенний ветер со свистом раскачивал сосновые ветви, от моха поднимался сырой запах гнили, какая-то большая птица ударилась о ветви крыльями и с шумом улетела. «Осень и одиночество, как все это не ко времени, ведь теперь должна начаться новая трудовая, радостная жизнь. Куда идти? С кем говорить? Мать?.. Она — как живой труп. В конце концов, я ей безразлична. Мое возвращение ее не воскресило. — Мирдза еще плотнее прильнула к березе. — Моя дружба с Зентой осталась безответной. Эрик? Но что я знаю о его чувствах ко мне?» Она внезапно так встрепенулась от своего вопроса, что даже перестала плакать. Да, что она знает о чувствах Эрика? Он ведь ничего, совершенно ничего не сказал. Он хорошо относился к ней. Вообще — он хороший человек, но это еще не означает… «Да, чего же? Чего же ты хотела? — начала она у себя выпытывать. — Значит, ты надеялась, что он тебя… любит!» — Ей хотелось выкрикнуть это желание, настолько ей в эту минуту нужен был человек, близкий друг, который помог бы ей избавиться от охватившего одиночества, такого нелепого и совсем несвойственного ее характеру.
Если все же пойти к Эрику? Ну, ладно, она не скажет ничего, кроме этих двух слов: «Рига взята!» Скажет их так, как недавно сказала бы прежняя Мирдза, шумливая и веселая. Она увидит Эрика, и уже от этого весь вечер, а может быть, и завтрашний день, будет легким и светлым.
Твердой походкой она пошла вперед, но, когда стала приближаться к опушке березовой рощи, услышала шаги человека, шедшего ей навстречу, и испугалась. Бежать назад было уже поздно. Спрятаться за деревья — глупо. Да и зачем ей удирать. Кто может знать, куда она идет? Она ускорила шаги, будто она спешила по какому-то делу, и через мгновение чуть не столкнулась с Эриком.
— Мирдза! — воскликнул тот, пораженный.
— Она самая! — Мирдзу обдала волна радости, и к ней вернулось прежнее хорошее настроение.
— Ты куда идешь? — неуверенно спросил Эрик.
— Так просто, прогуливаюсь, — смутилась и Мирдза. — А ты?
— Я тоже — так просто.
Оба замолчали. Они слушали, как ветер, завывая, колышет рощу, как стая птиц, вспорхнула с качающихся ветвей и полетела искать более надежный ночлег, но этот ветер, казался порывистым вешним шквалом, который развеивает последнее оцепенение зимы, расковывает ручьи, растопляет снег и поднимает от земли влажный запах моха и тлеющих листьев.
Эрик бережно взял руку Мирдзы, и ей было приятно, что эта жесткая, мозолистая рука может быть такой нежной.
— У тебя есть немного времени? — спросил он.
— Да, — ответила Мирдза.
— Может, лучше погуляем, чем так стоять, — сказал Эрик и легко взял Мирдзу за локоть. — Ты, наверное, будешь смеяться надо мной, — начал он немного погодя, и Мирдза почувствовала, как трудно ему говорить.
— Нет, я никогда над тобой не смеюсь, — серьезно сказала Мирдза.
— Я уже третий вечер хожу по этой дороге, но ни разу у меня не хватило смелости дойти до твоего дома.
Мирдза молчала. Было бы неуместно спросить его: «Почему?»
— Я скоро уйду на фронт и поэтому хотел бы знать, будешь ли… будешь ли ты меня ждать? — большего он не осмелился спросить.
— Я буду ждать тебя, Эрик! Еще больше, я… — горячо начала Мирдза и не договорила.
Эрик остановился и, насколько это позволяла звездная осенняя ночь, пристально и долго смотрел девушке в глаза.
— Мирдза, у меня не хватает слов сказать, как я тебя люблю, — проговорил он наконец. — Я знаю, что с фронта могу и не вернуться. Или вернуться искалеченным.
— Эрик, молчи! — воскликнула Мирдза. — Ты не смеешь говорить о смерти. Я не могу этого слушать. Потому что слишком люблю. И каким бы ты ни пришел — без рук, без ног, — я навсегда останусь с тобой.
— Какое счастье, что я тебя встретил сегодня вечером, — тихо и радостно сказал Эрик.
— Ты не знаешь, почему это произошло? Я ведь хотела идти к тебе, — произнесла Мирдза.
— Ты? Ко мне?
— Но не дошла бы. На опушке леса у меня снова не хватило смелости, — засмеялась Мирдза. — Эрик, я становлюсь себе смешной. Я сегодня такая сентиментальная. Ни за что не узнала бы себя, если бы кто-нибудь изобразил меня в таком виде.
— Что же тогда мне сказать? — Эрик заразился ее веселостью. — Я уже третий день сентиментален.
— Да, но я ведь комсомолка, и мне, наверное, надо быть более уравновешенной, — сказала Мирдза серьезным тоном.
В ту ночь они долго гуляли по дороге, то в одну, то в другую сторону, и оба чувствовали, что хорошо и без слов, без обещаний. Блеклое небо часто прорезали падающие звезды, и Мирдза вспомнила давнишнее поверье: когда падает звезда, надо что-нибудь пожелать и это исполнится.
«Хочу, чтобы ты, любимый, вернулся целым и невредимым с поля боя! — пожелала она себе и посмеялась над собою: ведь это только суеверие. — Ну, ладно, пусть уж в эту ночь моя сентиментальность дополнится верой в приметы, — простила она себе. — Переболею сразу всеми болезнями и завтра буду совсем здоровой».
Сырость начала проникать сквозь одежду, и Эрик забеспокоился, как бы Мирдза не простудилась. Обняв за плечи, он проводил ее через рощу и тихо, но твердо сказал:
— А теперь тебе нужно идти домой.
Мирдза поняла, что твердость в голосе относилась больше к нему самому: разве ему легко будет одному возвращаться через рощу, по которой они только что шли вдвоем? Она легко обхватила его голову руками, погладила холодные щеки. Непроизвольно их губы соединились в первом поцелуе. После этого они больше не сказали друг другу ни слова. Каждый ушел в свою сторону, полный счастьем первой чистой любви.
— Я должен вернуться. Я вернусь, — говорил себе Эрик, медленно шагая через рощу.
— Что со мной случилось? — удивлялась Мирдза, приглаживая влажные волосы. — Завтра же я пойду к Зенте и стану прежней Мирдзой.
Хотя утро было сырое и облачное, Мирдза проснулась веселой и ликующей. Было еще рано, мать спала.
— Пусть поспит, бедняжка, — решила Мирдза и тихо выскользнула из комнаты. Сняв с изгороди подойник, она направилась в хлев доить корову. Пусть мать отдохнет — ей хотелось кого-нибудь пожалеть, быть доброй, сделать больше, чем в другие дни.
Когда Мирдза с полным подойником вернулась на кухню, мать уже встала и натягивала толстые шерстяные чулки.
— Что ты сегодня так рано поднялась? — спросила она. — Ведь вчера так поздно легла. Как ты можешь ходить так легко одетой. Прямо дрожь пробирает, когда на тебя смотришь. Такое пасмурное утро.
— Мамочка, ведь за тучами солнце. Когда это знаешь и не забываешь, то от этого может стать тепло, — ответила Мирдза, процеживая молоко.
— Хорошо, пока человек молод, — вздохнула мать. — Если и бывают заботы, то они быстрее проходят. Как грозовой дождь. То льет так, что кажется, весь мир затопит, то засверкает солнце еще ярче прежнего. А заботы в старости — как осень. Начнет моросить — день, два, неделю и месяц подряд.
— Мамочка, милая, — обняла Мирдза мать и помогла ей подняться. — Сердце надо сохранить молодым, тогда человек никогда не состарится.
— Я уже и так сердита на свое сердце, — болезненно улыбнулась мать. — Себе надоела, не говоря уже о других. Иногда я думаю: неужели все эти слезы, пролитые матерями за войну, когда-нибудь не отольются ее зачинщикам?
— Это так и будет, — ответила Мирдза. — Им гибели не избежать.
— Хотя погибших сыновей мы уже не вернем, — продолжала мать, — а все-таки как бы легче станет. Воздух станет чище.
— Мы сегодня будем картошку копать или отдохнем? — вдруг спросила Мирдза, вспомнив вчерашнее решение пойти к Зенте.
— Много ли там ее осталось, — ответила мать. — Последние борозды закончу завтра. Хотела сегодня, в воскресенье, связать отцу перчатки. Наступит зима, на руки нечего надеть.
— Тогда я, может, сбегаю к Зенте? Давно уж с нею не виделась. Я отлучусь ненадолго. — Мирдза и просила, и извинялась, чтобы мать не подумала, что дочь от нее бежит, оставляет одну.
— Иди, иди, дочка, к молодежи, — спокойно согласилась мать. — Я уж подомовничаю.
За усадьбой Саркалисов Мирдза встретила парикмахершу Лисман с корзинкой в руках. Как всегда, улыбающаяся, приветливая парикмахерша остановилась и принялась рассказывать, что почтовая барышня послала ее к Саркалиене за продуктами. Дала письмо, деньги и список, что ей нужно.
— Нынче на рынок никто ничего не возит, говорят, что все отбирают, как и при немцах, — говорила Лисман, — где же девушке на чужой стороне раздобыть? Говорит, видела в списках в исполкоме, что у Саркалисов коров больше, чем у других, может, продадут чего-нибудь.
— Возможно, — ответила Мирдза, желая поскорее избавиться от болтливой женщины.
Встреча с Зентой все же получилась не такая, как Мирдза надеялась. У Зенты была гостья. Она перед зеркалом укладывала Зенте косы то выше, то ниже, стараясь создать модную прическу. Зента поспешила познакомить Мирдзу с Майгой Расман, почтовой работницей, третьей комсомолкой в волости. С первого взгляда Мирдзе что-то не понравилось в новой приятельнице, она и в Майге как бы почувствовала неприязнь к себе. Мирдза украдкой наблюдала за Майгой и, перехватив ее взгляд, заметила, что Майга тоже следит за ней.
— Как вам нравится новая прическа Зенты? — спросила Майга Мирдзу. — По-моему, намного лучше, чем раньше, правда?
— Зента теперь выглядит более чужой, — откровенно ответила Мирдза.
Не только прическа, но и сама Зента казалась ей какой-то другой, словно Майга преобразила ее, не столь уж заметно, но все же преобразила. Зента поднялась, и стало видно, что у нее переделано и платье, притом тоже во вкусе Майги. Зенте это не шло. Юбочка едва достигала коленей и даже открыла их, когда Зента шагнула; плечи были высоко подняты, вокруг шеи и на груди — непомерно пышная отделка из розового шелка, словно Зента яркими пятнами пыталась привлечь к себе внимание.
— Мне кажется, что раньше платье было лучше, — сказала Мирдза, воздерживаясь от резкого замечания.
— В каком смысле лучше? — поинтересовалась Майга, благодаря настойчивым советам которой платье стало совсем другим. — Почему молодые девушки должны ходить, как деревенские мамаши — в длинных юбках, со сползающими плечами и с какими-то помятыми тряпками вокруг шеи? Мы, комсомолки, обязаны воспитывать у молодежи хороший вкус.
— Что идет одному, не идет другому, — пыталась возражать Мирдза. Она чувствовала, что Зента бессильна против навязчивого влияния приезжей, потеряла самостоятельность и во всем подражает ей. — И разве мы, деревенские девушки, совсем уж не имеем вкуса? Это не так, — добавила Мирдза. Глубоко вздохнув, она продолжала: — Кроме того, мне кажется, что у нас, комсомолок, — последние слова она особо подчеркнула, — сейчас есть другие, более важные задачи, чем обрезать у платьев подолы и взбивать прически.
Это было сказано довольно резко и недвусмысленно. «Пусть обижается, если ей угодно, — подумала Мирдза. — Пусть не думает, что сможет всех здесь обвести вокруг своего наманикюренного пальца».
— В свое свободное время мы можем поухаживать за собой, — совершенно спокойно ответила Майга, словно резкое замечание Мирдзы относилось не к ней. — В уставе комсомола ведь не сказано, что нам нужно ходить с трауром под ногтями.
Это было явной издевкой над Мирдзой, над ее мозолистыми руками. Еще вчера до сумерек она копала картофель, и как потом ни терла свои ладони, как ни чистила, они все же не стали белыми.
Зента заметила, что обе девушки, неизвестно почему, невзлюбили друг друга, хотя обе были ее подругами и комсомолками. Опасаясь, как бы скрытая неприязнь не перешла в открытую вражду, она попыталась переменить разговор, но не смогла быстро сообразить, с чего начать.
— Мирдза, ты знаешь, Рига взята! — вдруг сказала она, считая, что нашла удачный выход.
— Только что? — иронически переспросила Мирдза.
— Ах, ты уже знаешь? — протянула Зента.
— Да, узнала не от тебя, ты, наверное, забыла мне сказать! — Мирдзе, как прежде, хотелось поддразнить Зенту, но она чувствовала, что ее шутки теперь не получаются такими теплыми, дружескими и невинными, как раньше.
— Вот что, Мирдза, — вспомнила Зента, — вообще-то я уже опоздала, надо выделить уполномоченных десятидворок или бригадиров. Ты не возьмешься быть одним из таких уполномоченных?
— От работы я никогда не отказываюсь, — ответила Мирдза, — но мне кажется, что серьезные разговоры сегодня неуместны, вы ведь заняты уходом за собой. Приду в исполком в рабочие часы. — Ей хотелось поскорее уйти с глаз Майги, которые, затаив вражду и иронию, наблюдали и оценивали каждое ее движение. С Зентой надо поговорить наедине, предупредить ее, пусть не слишком доверяется советам горожанки. Люди еще начнут смеяться. Мирдза простилась и ушла, подумав, что раньше Зента никогда так легко не отпускала ее, находила десятки разных причин, чтобы задержать.
— Интересная девушка, — сказала Майга, когда Мирдза ушла. — Довольно бойкая. Хотя по твоим рассказам я себе представляла ее более интеллигентной.
На следующий день, когда Мирдза пришла в исполком, Зента, правда, поговорила с ней, на кого можно было бы возложить обязанности уполномоченного или бригадира, какие дворы отнести к тому или иному десятку; и это было все. Мирдза ждала, чтобы Зента первой разоткровенничалась, высказалась бы о вчерашнем столкновении с Расман, и тогда, наконец, могла бы и она открыто излить все, что накопилось на сердце и от чего так хотелось освободиться. Но Зента даже не вспоминала о вчерашнем дне, закрыв для Мирдзы путь к откровенности и искренности. Когда деловые разговоры кончились, настало неловкое молчание. Зента улыбалась, но это не была прежняя дружеская улыбка, когда они понимали друг друга без слов, по усмешке, по взмаху ресниц. Эта улыбка сердила Мирдзу, она ей казалась вуалью, которую Зента накинула, чтобы нельзя было заглянуть в ее лицо.
— Да, опять звонила Эльза, говорила, что надо укрепить ряды комсомола, — воскликнула Зента, довольная, что снова нашла потерянную нить разговора. — Пока что ко мне обратился только Рудис Лайвинь. Как ты думаешь, принять его? Парень он ничего, но стоит ему попасть в компанию пьяниц, как теряет чувство меры. Майга, правда, говорит, что его надо принять. Именно тогда он, может быть, станет серьезнее.
«Чего она вечно с этой Майгой! — вспыхнула Мирдза. — Что у нее своей головы нет!»
— Зачем же ты меня спрашиваешь, раз Майга так говорит? — насмешливо сказала она, стараясь быть спокойной. — Я даже не знаю, кто у нас в волости комсорг. Может быть, Майга?
— Ты не знаешь? — Зента укоризненно посмотрела на Мирдзу.
— Никто мне этого не говорил, — упрямо ответила Мирдза, выдерживая ее взгляд.
— Ну, хорошо, тогда я скажу: я комсорг, — голос Зентыпрозвучал необычайно твердо.
— Рада познакомиться! — Мирдза попыталась улыбнуться и сама почувствовала, что улыбка получилась деланная. Ей так хотелось броситься Зенте на шею, потормошить подругу и искренне воскликнуть: «Ну, что мы, Зента, дурачимся, как глупенькие?» Потом бы они обе, конечно, всплакнули, и все было бы по-старому. Но прилив упрямства как бы сковал Мирдзе руки, они остались неподвижными, отказываясь от объятий. На лице застыла деланная улыбка, и губы не хотели произнести нужных слов. А в глазах так и не растаял ледок, не давший прорваться теплому взгляду.
— Сегодня я, наверное, тебе больше не нужна? — спросила Мирдза, стараясь избавиться от мучительной напряженности. — Могу пойти копать картошку?
— Да, я все сказала, — ответила Зента и начала читать какую-то бумажку.
Мирдза ушла, даже не подав руки. Но, дойдя до кладбища, она стала замедлять шаг. Упрямство ослабло, его вытеснил стыд, заставивший Мирдзу покраснеть. «Как глупо, как некрасиво такое столкновение между комсомольцами… — думала она. — Разве так надо начинать работу? Что со мной случилось — или я ревную Зенту к Майге? Но Майга ведь тоже комсомолка, почему Зента должна ее отталкивать? Так нельзя начинать работу, так работа не пойдет!» Вспомнилось, как они с Зентой были окрылены в первые дни, когда приехала Эльза и предложила организовать бригады жнецов. Почему так не могло быть и теперь? Уж не представляет ли она себе комсомольскую организацию двусторонним союзом с Зентой или же узким кружком друзей, в который они принимали бы лишь избранных? Например, ей хотелось, чтобы Эрик был комсомольцем (он им станет в армии, в этом нет сомнений!), но если бы он даже остался дома или война скоро кончилась, это бы не была молодежная организация. Нет, ей немедленно надо вернуться, пока ссора не пустила корни, пока ее можно пресечь несколькими откровенными словами да еще слезами в придачу.
Словно человек, который наконец решился и знает, как дальше поступать, она повернула назад и пошла в исполком. «На этот раз я не уступлю наплыву чувств», — твердо говорила себе Мирдза, повторяя это до самого исполкома. Но когда она открыла дверь комнаты, где сидела Зента, эта решимость рассыпалась, как зажатая в ладони горсть сухого песка, когда раскрывают пальцы. У Зенты сидела Майга. Обе они так безудержно хохотали, что Мирдза почувствовала себя задетой до глубины души. «Наверное, Зента рассказывала обо мне, и у них было над чем посмеяться…» — мгновенно решила Мирдза. Ей показалось, что она отгадала причину их веселости. Это как бы подтвердилось еще тем, что Майга, первая заметившая появление Мирдзы, подмигнула Зенте. Та сразу замолчала и, как почудилось Мирдзе, была неприятно поражена ее возвращением.
— Я… я… — растерялась Мирдза, не будучи в состоянии сразу придумать что-либо путное, чтобы оправдать свое возвращение, — я… забыла спросить, каковы будут обязанности уполномоченного десятидворки, — вдруг придумав, быстро выпалила она.
— Я могу дать тебе инструкцию, — Зента смущенно начала рыться в какой-то папке. — Может, спишешь и дашь остальным.
— Кому, например?
— Например, старому Пакалну и Гаужену, которые также будут уполномоченными, — ответила Зента, преодолев растерянность.
Взяв инструкцию, Мирдза задержалась и не уходила. В последний раз она хотела заставить себя сделать то, на что решилась. Она старалась поймать взгляд Зенты, но та смотрела в сторону, и глаза Мирдзы встретились с карими глазами Майги, в которых сквозила насмешка победительницы и наглый вопрос: «Чего тебе еще надо, почему не уходишь?» Не сказав ни слова, Мирдза повернулась и пошла.
«Нет, я больше не стану унижаться, не буду искать ее, — она снова загорелась упрямством, на этот раз более осознанным и не так легко одолимым. — Я буду делать свою работу, пусть Зента справляется со своей».
 После третьего «взяли» машина сдвинулась и, важно пыхтя, покатилась по высохшей лесной дороге. Дружное «ура» прорезало лесную тишину и прозвучало над верхушками деревьев. Люди окружили машину, как победители; впереди нее, показывая Гаужену дорогу, шел Лауск. На полпути они встретили подводу с Паулем и матерью, которая отдала им фонарь и усадила в телегу выбившегося из сил Валдиса. Предложили поехать и Мирдзе, но та отказалась, заставив сесть Саулита.
Ночью, в лесу, при свете фонаря, этот поезд казался фантастическим. Телега громыхала, подскакивая на корнях, машина постукивала. И все же это казалось таким веселым приключением, что мальчики и Мирдза, забыв ноющую боль в мышцах, затянули веселую песню. У Мирдзы кольнуло в сердце. «Жаль, что Эрика здесь нет… И Карлена… Вот было бы для него событие!»
В полночь молотилка въехала в усадьбу «Стендеры». Молотьбу решили начинать там, так как в большой сарай было свезено много хлеба, назначенного для сдачи государству.
Назавтра Лауск с Гауженом зашли к Августу Мигле.
— Хотим посмотреть, что за беда приключилась с твоей молотилкой, — начал Гаужен разговор. — Самое время приступать к молотьбе.
— Да, да! — живо поддержал Август. — Обязательно надо молотить, больше невтерпеж. Муки ни горсточки, в клети ни крупинки.
— Так что же на самом деле с молотилкой? Может, сумеем пустить ее? — продолжал Гаужен.
— Да разве я не пустил бы, если бы можно было?! — воскликнул Август. — Как в прежние годы, для половины волости обмолотил бы.
— Покажи, может быть, починим.
— Где ее починить? — почти застонал Август, — Что погибло, то погибло. Как человек, если помрет, то хоть плачь, хоть песни пой, все равно до страшного суда не воскресить.
— Но, может, она не померла, а только больна, больных можно лечить, — не уступал Гаужен.
— Милый Гаужен, — Август положил руку на сердце и преданно посмотрел ему в глаза. — Ты уж мне, право, можешь поверить. Я за эти годы тоже научился кое-что понимать в машинах. Я ведь за учение это большие деньги уплатил, а обратно их не выручу. Говорю тебе, она умерла, погибла.
— Вы бы нам показали этого покойника, — вмешался Лауск.
— Я вам скажу… — начал Август, и голос у него сорвался, — я не могу на нее смотреть. Нехорошо привязываться к земным вещам, да простит господь мне, грешнику, но молотилку я полюбил. Я думал: вот смогу людям помочь тем, чем бог меня благословил, но так нехорошо получилось… — на круглых глазах Августа выступили слезы.
— Не плачьте, господин Мигла, — успокаивал Лауск. — Мы без вас посмотрим.
— Если уж вы мне, честному человеку, не верите, — в голосе Августа послышалось раздражение, — то идемте, идемте, посмотрим.
Он повел обоих в сарай, где стояла хорошо знакомая Гаужену молотилка. Снаружи на ней не видно было никаких повреждений. Август стал торопливо рассказывать.
— Леший разберет, зачем они немцу понадобились, — утащили все решета. Может, немцы и не виноваты, свои ведь тоже тащили к себе все, что могли. Что будешь делать без решет?
Гаужен и Лауск немного помолчали. Странно было то, что не хватало именно решет. Но неужели служитель церкви станет обманывать.
— Так ты говоришь, что этой осенью на ней молотить нельзя будет и она уже никуда не годится? — невинно спросил Лауск.
— Никуда не годится! — живо подхватил Август. — На лом — и только. Я говорю — такие деньги тогда вложил, думал — будет волости польза… Где же ты нынче такие решета возьмешь? Заграничная фирма!
— Тогда ты ничего не будешь иметь против, если исполком возьмет машину себе? — как бы между прочим: бросил Лауск.
— Разве у волости не хватает развалин и лома? — пытался шутить Август, но его дряблые щеки все же слегка задрожали.
— Пусть лома хватает, но мы готовы взять и этот, — сказал Лауск уже серьезно. — Соберем из нескольких машин одну и пустим.
— Чего шутить, Лауск! — Август хлопнул его по плечу. — У каждой марки машины свое устройство.
— Я — серьезно, — настаивал Лауск, — мы эту машину возьмем и залатаем.
— Отдать-то я ее, положим, не отдам, — ответил Август в таком же тоне. — Это моя вещь, вот и Гаужен может подтвердить.
— Вещь вещью, — нехотя проворчал Гаужен. — Но мы ответственны за молотьбу.
— И мы можем мобилизовать любую молотилку, — добавил Лауск.
— Что ты, Лауск, да разве калек мобилизуют, — пытался Август снова перейти на шутливый тон. — На войну ведь тоже не берут, если у кого нет ноги или руки.
— На нашей войне пригодится, — спокойно ответил Лауск. — Я думаю, Гаужен, нам здесь нечего больше задерживаться. Сегодня опечатаем и приедем за нею.
— Нет, господа, я с этим не согласен, — запротестовал Август.
— У нас есть документ, — Лауск достал из кармана удостоверение от исполнительного комитета и протянул его Августу.
— Я без очков не вижу, — ответил тот, отводя руку Лауска. — Решительно ничего не вижу.
— Мигла, я тебе скажу совсем серьезно и в последний раз, — теперь и Гаужен не уступал. — Или ты найдешь решета и пустишь машину, или же мы ее национализируем.
Последнее слово испугало Августа не на шутку. Рыжеватые усы его опустились вниз, а бородка задрожала.
— Ну, что вы — с угрозами, свои же люди, — бормотал он. — Я попытаюсь разыскать. Может быть, немцы здесь же куда-нибудь забросили. С собой такое барахло ведь не повезли.
— Значит, завтра, — Гаужен пристально посмотрел Мигле в глаза. — Завтра найди, — повторил он еще раз.
Когда они отошли от усадьбы Миглы, Лауск с сомнением спросил:
— А если он машину не приведет в порядок?
— Приведет, — уверенно ответил Гаужен. — Я Августа знаю. Хитер, как лиса, и труслив, как заяц.
После третьего «взяли» машина сдвинулась и, важно пыхтя, покатилась по высохшей лесной дороге. Дружное «ура» прорезало лесную тишину и прозвучало над верхушками деревьев. Люди окружили машину, как победители; впереди нее, показывая Гаужену дорогу, шел Лауск. На полпути они встретили подводу с Паулем и матерью, которая отдала им фонарь и усадила в телегу выбившегося из сил Валдиса. Предложили поехать и Мирдзе, но та отказалась, заставив сесть Саулита.
Ночью, в лесу, при свете фонаря, этот поезд казался фантастическим. Телега громыхала, подскакивая на корнях, машина постукивала. И все же это казалось таким веселым приключением, что мальчики и Мирдза, забыв ноющую боль в мышцах, затянули веселую песню. У Мирдзы кольнуло в сердце. «Жаль, что Эрика здесь нет… И Карлена… Вот было бы для него событие!»
В полночь молотилка въехала в усадьбу «Стендеры». Молотьбу решили начинать там, так как в большой сарай было свезено много хлеба, назначенного для сдачи государству.
Назавтра Лауск с Гауженом зашли к Августу Мигле.
— Хотим посмотреть, что за беда приключилась с твоей молотилкой, — начал Гаужен разговор. — Самое время приступать к молотьбе.
— Да, да! — живо поддержал Август. — Обязательно надо молотить, больше невтерпеж. Муки ни горсточки, в клети ни крупинки.
— Так что же на самом деле с молотилкой? Может, сумеем пустить ее? — продолжал Гаужен.
— Да разве я не пустил бы, если бы можно было?! — воскликнул Август. — Как в прежние годы, для половины волости обмолотил бы.
— Покажи, может быть, починим.
— Где ее починить? — почти застонал Август, — Что погибло, то погибло. Как человек, если помрет, то хоть плачь, хоть песни пой, все равно до страшного суда не воскресить.
— Но, может, она не померла, а только больна, больных можно лечить, — не уступал Гаужен.
— Милый Гаужен, — Август положил руку на сердце и преданно посмотрел ему в глаза. — Ты уж мне, право, можешь поверить. Я за эти годы тоже научился кое-что понимать в машинах. Я ведь за учение это большие деньги уплатил, а обратно их не выручу. Говорю тебе, она умерла, погибла.
— Вы бы нам показали этого покойника, — вмешался Лауск.
— Я вам скажу… — начал Август, и голос у него сорвался, — я не могу на нее смотреть. Нехорошо привязываться к земным вещам, да простит господь мне, грешнику, но молотилку я полюбил. Я думал: вот смогу людям помочь тем, чем бог меня благословил, но так нехорошо получилось… — на круглых глазах Августа выступили слезы.
— Не плачьте, господин Мигла, — успокаивал Лауск. — Мы без вас посмотрим.
— Если уж вы мне, честному человеку, не верите, — в голосе Августа послышалось раздражение, — то идемте, идемте, посмотрим.
Он повел обоих в сарай, где стояла хорошо знакомая Гаужену молотилка. Снаружи на ней не видно было никаких повреждений. Август стал торопливо рассказывать.
— Леший разберет, зачем они немцу понадобились, — утащили все решета. Может, немцы и не виноваты, свои ведь тоже тащили к себе все, что могли. Что будешь делать без решет?
Гаужен и Лауск немного помолчали. Странно было то, что не хватало именно решет. Но неужели служитель церкви станет обманывать.
— Так ты говоришь, что этой осенью на ней молотить нельзя будет и она уже никуда не годится? — невинно спросил Лауск.
— Никуда не годится! — живо подхватил Август. — На лом — и только. Я говорю — такие деньги тогда вложил, думал — будет волости польза… Где же ты нынче такие решета возьмешь? Заграничная фирма!
— Тогда ты ничего не будешь иметь против, если исполком возьмет машину себе? — как бы между прочим: бросил Лауск.
— Разве у волости не хватает развалин и лома? — пытался шутить Август, но его дряблые щеки все же слегка задрожали.
— Пусть лома хватает, но мы готовы взять и этот, — сказал Лауск уже серьезно. — Соберем из нескольких машин одну и пустим.
— Чего шутить, Лауск! — Август хлопнул его по плечу. — У каждой марки машины свое устройство.
— Я — серьезно, — настаивал Лауск, — мы эту машину возьмем и залатаем.
— Отдать-то я ее, положим, не отдам, — ответил Август в таком же тоне. — Это моя вещь, вот и Гаужен может подтвердить.
— Вещь вещью, — нехотя проворчал Гаужен. — Но мы ответственны за молотьбу.
— И мы можем мобилизовать любую молотилку, — добавил Лауск.
— Что ты, Лауск, да разве калек мобилизуют, — пытался Август снова перейти на шутливый тон. — На войну ведь тоже не берут, если у кого нет ноги или руки.
— На нашей войне пригодится, — спокойно ответил Лауск. — Я думаю, Гаужен, нам здесь нечего больше задерживаться. Сегодня опечатаем и приедем за нею.
— Нет, господа, я с этим не согласен, — запротестовал Август.
— У нас есть документ, — Лауск достал из кармана удостоверение от исполнительного комитета и протянул его Августу.
— Я без очков не вижу, — ответил тот, отводя руку Лауска. — Решительно ничего не вижу.
— Мигла, я тебе скажу совсем серьезно и в последний раз, — теперь и Гаужен не уступал. — Или ты найдешь решета и пустишь машину, или же мы ее национализируем.
Последнее слово испугало Августа не на шутку. Рыжеватые усы его опустились вниз, а бородка задрожала.
— Ну, что вы — с угрозами, свои же люди, — бормотал он. — Я попытаюсь разыскать. Может быть, немцы здесь же куда-нибудь забросили. С собой такое барахло ведь не повезли.
— Значит, завтра, — Гаужен пристально посмотрел Мигле в глаза. — Завтра найди, — повторил он еще раз.
Когда они отошли от усадьбы Миглы, Лауск с сомнением спросил:
— А если он машину не приведет в порядок?
— Приведет, — уверенно ответил Гаужен. — Я Августа знаю. Хитер, как лиса, и труслив, как заяц.
 Попытаться отговориться общими фразами, — дескать, должно быть учреждения руководствуются своими важными соображениями, раз работы так распределены, — нет, кому угодно, но старому Пакалну так сказать нельзя. Просто не поверит. Слишком много у него житейской крестьянской мудрости, чтобы он не понял, как бессмысленно зря гонять людей — ведь это создаст много неудобств и вызовет недовольство.
— Дедушка, я тебе этого не могу сказать, — призналась она.
— Что-то многое у нас делается наоборот, — высказал Пакалн наболевшую мысль. — Нет настоящего порядка. Вот и с этими поставками. Мы сдали — хорошо, спасибо, но до тех, кто не сдал, словно и дела нет. Я понимаю, нечего сдавать тем, у кого поля вытоптаны и изрыты, как вот у приречных жителей. Что с них возьмешь? Но Саркалиене-то намолотила полную клеть! А сколько она сдала? Что кот наплакал. То же самое Думини и Миглы. Составили акт о военных разрушениях, а что у них разрушено?
Мирдза поняла обиду Пакална. Он честно сдал из своего урожая, что причиталось, и даже отказался от своей доли за работу на бесхозных полях. «Пусть пойдет сыну на фронт», — скромно сказал он тогда.
— И кто у нас теперь заправляет?.. — продолжал Пакалн. — Такие Калинки, которые никогда в своей жизни не работали. Правда, и Ян Приеде в правленческих делах ничего не понимает, но у него хотя руки в мозолях, он знает, что такое работа. Дали бы ему посильное дело, подучили бы, тогда из него вышел бы толк. А этот Калинка — последний лодырь, ну зачем такого ставить на должность? Кто не знает, что он за человек? Свои лошади у него с голоду подыхали, каждую весну шкуру продавал. И такому дают в руки волостной коннопрокатный пункт. Тьфу! — сплюнул он.
— Дедушка, может, и в лесничество втерлись такие же Калинки, потому нас и посылают в Гарупский бор, — пришло Мирдзе на ум объяснение, которое ждал от нее Пакалн.
— Но почему таких пускают на должности? — рассердился он.
— Потому, что вот такие Пакалны ни на какие должности не идут, — напомнила ему Мирдза, задорно сверкнув глазами.
Пакалн улыбнулся, и от уголков его глаз веером разбежались морщинки. Он погрозил Мирдзе пальцем.
— Что ты, дочка, надо мной, стариком, подшучиваешь. Разве у нас в волости более молодых не хватает? Я едва со своими десятью дворами справляюсь.
— А на работе всегда первый, — похвалила его Мирдза.
— Работа — это моя должность, — сказал Пакалн с гордостью, и складки на его лбу стали глубже. — Ну, пошутили — и хватит, а теперь скажи, как мы доставим наших людей в Гарупский лес? Сколько в каждом доме осталось работников — по одному, много — по два. Им ведь и за скотиной ходить надо. Было бы тут же в своем лесу, так и горя мало было бы — утром и вечером, когда темно, занимались бы по дому, а днем — в лесу. Как же это тем, кто распоряжается, в голову не пришло?
— Если бы все же поговорить в исполкоме? — неуверенно предложила Мирдза.
— Поговори, дочка. — живо откликнулся Пакалн. — Тебя они больше будут слушать.
С тяжелым сердцем Мирдза пошла в местечко. Никакой надежды, что Ян Приеде или Зента смогут уладить это дело, у нее не было.
Все же надо сказать, пусть знают, что люди думают и говорят об их работе.
У почтового ящика она остановилась. Еще есть время обдумать — опустить в ящик письмо Эрику или оставить в кармане и потом разорвать? Но она не успела решить. Из исполкома вышел сам начальник почтового отделения Зелмен, лицо у него было усталое. При виде Мирдзы в его блеклых глазах мелькнуло нечто вроде улыбки. Мирдза, спохватившись, быстро подняла крышку почтового ящика и опустила письмо.
— Вот это хорошо, похвально, — затараторил Зелмен. — Письма женихам надо писать. Иначе мы, почтовики, без работы останемся. А он-то пишет?
— Это вам лучше знать, пишет или не пишет, — пошутила Мирдза.
— У меня этим больше Майга занимается, сортирует и рассылает письма, — добродушно усмехнулся Зелмен. — Красота и прилежание украшают женщину. Я всегда говорил, счастлив будет тот парень, кто женится на Майге. Захочет побриться, даже бороду самому не придется мылить — она это сделает.
Мирдза вошла в исполком. Зента удивленно посмотрела на нее. Лицо бывшей подруги было каким-то угрюмым и решительным.
Мирдза была довольна, что в канцелярии сидел также и Ян Приеде — не придется оставаться с Зентой наедине. Это удержит обеих от ненужных колкостей.
— Я хотела с вами поговорить, — обратилась она к ним. — Неужели никак нельзя обменять лесосеку?
— Мы уже пытались, — ответила Зента. — Я звонила в лесничество, но они говорят, что планы и списки уже утверждены в уезде и ничего нельзя сделать. Надо было раньше возражать.
— А почему вы не возражали раньше? — настойчиво допытывалась Мирдза.
— Я ведь тебе писала, — Зента нетерпеливо начала мять клочок бумаги, — мы получили извещение с опозданием. Залежалось где-то на почте.
— Но разве ты не звонила в уезд? — не уступала Мирдза.
— Я хотела звонить, — оправдывалась Зента, — но Майга говорит, что не следует их там беспокоить из-за каждого пустяка. Кроме того, лесные работы это то же, что мобилизация. Куда пошлют, туда надо идти.
Мирдза осеклась. Об этом она не подумала, но, если разобраться, то на фронте ведь тоже не перебрасывают солдат без всякого смысла, а распределяют умно и целесообразно. Старого Пакална и остальных крестьян, которые должны будут работать в лесу, такими доводами не убедишь. Каждый сам видит, что в этом нет ничего целесообразного.
— Все же надо было позвонить, хотя бы рассказать, как с нами поступают.
— Мирдза, если бы ты знала, как мне не хочется звонить, — почти умоляла Зента. — Мне однажды кто-то оттуда ответил, что мы, наверное, думаем, будто у них больше нечего делать, как только учить нас. Нам, мол, посылают инструкции, да и у самих должны быть головы на плечах.
— Кто же с тобой разговаривал, кто-нибудь из руководящих работников? — поинтересовалась Мирдза.
— Нет, кто-то из секретарей.
— Почему ты разговариваешь с секретарями — поговори с главными, — посоветовала Мирдза.
— Попробуй с ними связаться, — усмехнулась Зента. — Секретарь прежде всего спросит, по какому делу, и пообещает сам уладить или же выругает, что по таким пустякам тревожат его начальство.
— Подумаешь, какие церберы, — рассердилась Мирдза. — Я все-таки на этом бы не успокоилась. Пусть позовут к телефону начальника, и все.
— Попробуй, может, тебе посчастливится, — Зента взяла телефонную трубку. — С кем ты хочешь говорить?
Мирдза испугалась. Именно сегодня ей хотелось с кем-нибудь поговорить, и вот эта возможность так неожиданно представилась. Но кто ее будет слушать там, на другом конце провода? Она никого не знает, кроме своего отца и Эльзы, а теперь, возможно, придется говорить не с ними.
— Быть может, поговорить с товарищем Бауской, заместителем председателя, — предложила Зента. — Его легче всего добиться, если он только не на заседании.
Мирдза согласилась. Муж Эльзы все-таки вроде знакомый.
Зента заказала разговор.
— Мирдза хочет искать правды, — сказала она, шутя, телефонистке Майге. — Что? Линия занята? Она подождет, пока освободится.
Время тянулось очень медленно. Казалось, что уже прошел целый час. Мирдза посмотрела на ручные часики — прошло лишь пятнадцать минут. Разговор больше не клеился. Зента погрузилась в составление какого-то отчета. Ее потревожил Рудис Лайвинь, зашедший спросить, будет ли он нужен вечером. Майга просит его раздобыть у кого-нибудь молока и меда. У нее заболело горло, хочет полечиться. Зента охотно отпустила его.
«Не посылает ли его Майга опять к Саркалиене?» — подумала Мирдза, но промолчала. Какое ей дело.
Немного погодя зашел крестьянин с другого конца волости. Он жаловался, что нигде не может размолоть хлеб.
— Я понимаю, что одной мельнице трудно всех обслужить, раньше у нас вертелись три, — сказал он. — Говорят, кто первый приедет, тот скорее смелет. А у нас — кто жирнее смажет, тот и мелет. У кого нечего дать, тот может десять раз ездить — все равно ничего не добьется, скажут, очередь еще не подошла. Богатые крестьяне, у которых масло и шпик шипят на сковородке, те каждый день пекут пироги да белый хлеб. А у меня ничего другого нет, кроме мешка зерна, заработанного осенью на общественной уборке. Коровку Советская власть дала, да ведь — четверо детей и самих двое, все поедаем. Разве нельзя указать мельнику, чтобы покончил с порядками немецкого времени? Теперь ведь власть трудящихся, но старый хозяин все еще сидит за столом, а мы жмемся у стены и ждем крошек.
— Нам трудно вмешаться, — ответила Зента. — Мельница принадлежит тресту. Волостная мельница еще не исправлена.
— А этот трест заграничный, что ли? — с горечью спросил новохозяин. — Я думаю, раз мельник, или, как его нынче называют, директор, поставлен государством, то для него все должны быть равны.
— Но мельница не подчиняется исполкому, — объяснила Зента, — нам трудно вмешаться. Там не наш работник.
— Разве трест пустил мельницу для богатых хозяев? — в голосе крестьянина послышалось беспокойство. — Саркалиене возами возит на мельницу и обратно, а у меня нет краюшки, чтобы детям дать с собой в школу.
— Напишите жалобу правлению треста, — посоветовала Зента.
Крестьянин безнадежно махнул рукой.
— Кое-кто уже писал, но это то же самое, что покойнику на кладбище писать.
— Все же, если жалобы будут повторяться, они обязаны прислать ревизора, — успокаивала Зента.
— Я думал, что те, кто сидит в исполкоме, должны видеть, что происходит в волости, — крестьянин натянул рукавицы и ушел, мрачный и удрученный.
— Мне кажется, исполкому со своей стороны тоже надо написать жалобу, — сказала Мирдза, когда крестьянин вышел.
— Мы уже написали, — ответила Зента, берясь за свой отчет. — Но это в самом деле то же, что покойнику на кладбище писать. Не отвечают и ревизии не шлют.
Примерно через час дверь снова отворилась и вошла худощавая, закутанная в платок, женщина. Поздоровавшись, она скромно остановилась у дверей и, виновато улыбаясь, смотрела на Зенту.
— Что вам? — спросила Зента, поднимая глаза от бумаги.
— Я хотела узнать, как с ботиночками?
— С какими ботиночками? — не поняла Зента.
— Ну, с этими. Осенью вы обещались выписать из города, — пояснила женщина. — Ну, совсем не во что Витолдиню обуться. Сам сделал из двух пар отцовских постол одну, начал было в школу ходить, но постолы те были старые, развалились, ничего от них не осталось. Теперь сидит дома и плачет. Очень хочет учиться. Аннине-то господин учитель сам дал старые туфельки своей дочки, и она ходит в школу. А Витолдинь сидит у окна и грустно так смотрит на дорогу. Было бы поближе, так хотя бы тряпками ноги обмотал, а то ведь — пять верст. Очень хочет учиться. И в немецкое время не учился из-за той же обуви. Нам тогда не давали, говорили, вы ждете большевиков — вам, мол, в сороковом году землю дали. Из-за этого же моего Симана в Германию угнали. Жив ли он? Говорят, есть там совсем не дают, а на работу гоняют. Хочется, чтобы Витолдинь попал в школу. И учителя говорят, что голова у него хорошая, понятливый паренек, да вот обуви нет.
Зента нашла какую-то папку и долго перелистывала бумаги. Мирдза видела, что ей неловко. Она покраснела и перелистывала, не поднимая глаз, Лицо женщины все еще светилось надеждой: вот секретарша найдет бумагу и тогда у Витолдиня будут ботинки.
— Нет еще ответа, — немного погодя медленно сказала Зента.
Лицо женщины помрачнело. Словно стараясь спрятаться от холода, она начала кутаться в платок и поправлять на голове косынку.
— Значит, нет еще, — сказала она, не собираясь уходить. — Не знаю, что сказать Витолдиню, как его обмануть? Он так надеялся. Во сне видел, как в новых ботиночках идет в школу. Я, правда, сказала, хорошо если бы хоть постолы дали. Так и тех нет. Что теперь делать?
У Мирдзы защемило сердце, когда она представила себе мальчика, с грустными глазами сидящего у окна и мечтающего о школе. Так она в немецкое время мечтала о гимназии. Сколько раз она ночами плакала, проклинала войну и немцев, разбивших всю жизнь. Но теперь нельзя допустить, чтобы способный мальчик не ходил в школу. Что за равнодушные люди сидят в учреждениях, решающих такие вопросы? И почему Зента так покраснела — не забыла ли она попросту переслать запрос Витолдиня?
— Не знаю, уж стоит ли мне зайти еще раз? — спросила женщина с сомнением. — Боюсь, как бы не надоесть. Ведь у вас и другой работы много.
Мирдза внезапно вспомнила, что у них дома, в ящике, лежат ботинки Карлена, которые стали ему малы.
— Сколько лет вашему Витолдиню? — спросила она.
— Весной, в Юрьев день, минет тринадцать. Летом нанимался в пастухи, но все работы за взрослого делал, — охотно рассказывала мать. — Теперь тоже говорит, наймется к хозяину и заработает на ботинки. Тот, у кого работал летом, обещался справить ему обувь, но уехал неизвестно куда. Жалованья не уплатил. Многие хозяева хотели Витолдиня нанять. Он парнишка здоровый, за все берется. Только я не пустила, надеялась, что вы выхлопочете ботинки. Теперь нам самим опять землицы дали. Правда, на болоте выпал надел, да что ж поделаешь, всем хороших участков не хватило.
— Знаете что, мамаша, — Мирдза поднялась и взяла ее за обе руки, — у меня дома есть ботинки брата. Они, правда, поношены, но некоторое время еще послужат. Завтра приходите за ними в домик Озолов, налево от Рубенского лесочка.
— Так ты дочь Озола! — женщина радостно сжала руку Мирдзы. — Твоего отца я знаю еще с тех времен, когда он был здесь председателем. Тогда нам хорошую землю дали. Спасибо, спасибо, дочка, за ботиночки! Ну и обрадую же я Витолдиня. Завтра с самого утра схожу. Ты ведь меня не знаешь. Я — Мария Перкон, где тебе знать. Мы все время батрачили в дальнем конце волости. Спасибо, спасибо!
Мария Перкон вышла, ступая прямо и легко. В дверях она оглянулась и посмотрела с улыбкой.
Мирдза повернулась к Зенте и пристально посмотрела ей в глаза. Та не выдержала этого взгляда, снова покраснела и потупила взор.
— Значит, ты ее заявление никуда не посылала? — спросила Мирдза с упреком.
— Я, право, не могу понять, как это произошло, — призналась Зента. — Теперь вспоминаю, как в тот вечер мы с Майгой готовили к отправке разные бумаги. Думала, что вложила и эту.
— И почему Марии Перкон надо было дать участок на болоте? — обратилась Мирдза к Яну Приеде. — Разве хорошей земли мало?
— Да я не знаю, как там Калинка подсчитывал, — оправдывался Ян. — По-всякому мудрил. Говорит, иначе нельзя участок в одном куске подобрать. Теперь ведь по пятнадцать гектаров дают, так все пришлось делить заново.
За окном стлались глубокие сумерки, а соединения по телефону все еще не было. Мирдза начала сомневаться, удастся ли так поздно к кому-нибудь дозвониться. Зента зашла к Майге переговорить, нельзя ли скорее связаться. Но линия по-прежнему была занята.
— Ты подожди, — посоветовала Зента Мирдзе. — Они там работают поздно. Вечером их легче поймать, чем днем.
Мирдза ждала. Темнота на дворе все сгущалась. Ничего, это не помешает ей добраться домой. Удалось бы только созвониться и уладить дело, иначе как же показаться на глаза Пакалну и крестьянам своей десятидворки.
Ян Приеде зевнул. Посетителей больше не будет. Он мог бы подняться к себе, наверх, но обе девушки еще сидят здесь, как-то неловко уходить первым. Да и хочется узнать, что получится у Мирдзы с лесными работами. Смешно было бы гонять людей из одной волости в другую. С мельницей тоже плохо. Хорошо бы восстановить свою, но для этого нужно несколько мешков цемента. Гаужен, правда, говорит, что можно обойтись известью, но ее тоже негде взять. Приводной ремень утащили. Поди знай, где искать. Возможно, его уже изрезали на подметки. Со всем столько возни, что не знаешь, с какого конца начинать. Для школы все нет оконных стекол, Салениек каждый день ходит. В класс войти нельзя, через забитые досками окна ветер все тепло выдувает.
Мирдза посмотрела на часы.
— Половина десятого! — воскликнула она. — Не знаю, ждать ли еще?
Зента позвонила Майге.
— Попытайся связаться поскорее, — поторопила она. — Мирдза больше не может ждать.
Через полчаса раздался звонок. Несмотря на долгое ожидание, Мирдза вздрогнула и подумала, лучше бы этот звонок сегодня вечером не раздался вовсе. Может, все, что она собиралась сказать, надо было записать на бумажке, а то в волнении можно наговорить невпопад.
— У аппарата Бауска! — услышала она спокойный, звучный голос. — Кто говорит?
— Вы меня не знаете, — начала Мирдза, растерявшись. — Я Озол.
— А, Мирдза Озол! — радостно воскликнул Бауска. — Знаю, как же не знать! Такая — с голубыми глазами, светловолосая и боевая. Ротой могла бы командовать! Как у вас там дела в волости?
— В нашей волости нет порядка! — воскликнула Мирдза, второпях не сумев придумать другого.
— Что вы, что вы? — удивился Бауска. — А мы думали, что у вас больше порядка, чем у нас. Никто ни на что не жаловался.
— Вот я сейчас пожалуюсь, — крикнула Мирдза. И совершенно свободно, без запинки, как старому знакомому, рассказала о несуразице с лесоразработками. — Неужели ничего нельзя изменить? — закончила она.
— Мы заставим их немного пошевелить мозгами, этих буквоедов! — возмущенно воскликнул Бауска. — Сегодня вечером я позвоню в Ригу, а оттуда им такую баню зададут, что сами побегут лес рубить! Завтра они сообщат вам о новых делянках там же, в вашей волости… А как в остальном?
— И в остальном тоже нет порядка, — ответила Мирдза и хотела рассказать про мельницу. Но в телефоне что-то затрещало, до нее только долетели восклицания Бауски: «Алло, алло! Что там за шум?» — и она замолчала.
Вскоре треск в телефоне прекратился.
— Почему вы не приедете к нам, тогда бы мы могли по душам поговорить. По телефону трудно, — снова послышался голос Вилиса Бауски. Мирдза пообещала приехать.
Мирдза с сожалением положила трубку. Она так мало успела сказать. Но хорошо хоть, что вообще удалось поговорить. Зента жалуется, что к ним трудно дозвониться. Ну, если Бауска обещал уладить вопрос с лесными делянками, он сдержит свое слово. Его голос внушает доверие.
Она посмотрела на Зенту победоносно сверкающими глазами.
— Ты, действительно, счастливая, — сказала Зента, но в ее словах не было той радости, какая кипела в сердце Мирдзы и переливалась через край.
— Ой, как темно, — взглянув в окно, сочувственно заметила Зента, — как ты попадешь домой?
— На велосипеде есть фонарь, поеду, как днем, — беспечно усмехнулась Мирдза. Что ей ночь и темнота, если в душе так много света и бодрости? Это ничего, что Зента не предложила ей переночевать у нее, она понесется — только ветер засвистит в ушах. Простившись, она вывела велосипед и помчалась через местечко.
Небо было облачно, в окнах редко где мерцал свет. Если бы исправили мельницу, то опять было бы электричество. Когда Мирдза будет в городе, то поговорит и о мельнице, обо всем расскажет, что здесь происходит с помолом зерна, с дележкой земли. И о Марии Перкон. Кажется, она запугана, боится требовать того, что ей положено. Калинка загоняет женщину с детьми на болото, а она сама, да и никто другой, не протестует. Кричать надо о такой несправедливости, о взяточничестве на мельнице и о том, что у школьников нет обуви…
Да, но в том, что Витолд Перкон не может идти в школу, виновата прежде всего Зента. Витолдинь, бедный, наверное, по ночам, когда мать не видит, плачет, пока не устанет и не заснет. Так же плакала и она, когда не могла попасть в среднюю школу… Потом с этим примирилась, ждала прихода Красной Армии. Твердо решила продолжать учебу. Но как же это получилось, что этой осенью забыла о своем намерении? Было много работы, все представлялось таким важным, и ей казалось, что она должна быть здесь. А потом все ее мысли заняло молчание Эрика… Все же нельзя так опускаться. Ей уже девятнадцать лет, и стыдно требовать, чтобы мать и отец содержали ее, но, может быть, надо было бы найти работу в городе и поступить в вечернюю школу. Она это непременно сделает. В эту зиму уже поздно, но следующей осенью — обязательно. «Я не буду Мирдзой, если не окончу средней школы!» — поклялась она.
Пожалуй, лучше выбраться отсюда. Воспоминания об Эрике, казавшиеся столь приятными после его ухода, теперь стали горькими и мучительными. И когда вернется Эрик, то и тогда они будут чужими, нет, уж лучше не видеть его, не оставаться здесь. Она не хочет быть несчастной влюбленной, которая, как пишут в романах, ходит бледной и замкнутой. Ей надо работать, ощущать увлекающий вперед поток, быть полезной.
Словно убегая от воспоминаний, словно мчась навстречу новой жизни, Мирдза стремительно нажимала на педали велосипеда. Вот уже Рубенский бор, где ей знакомы не только каждое дерево и куст, но и каждая выбоинка на дороге. Когда-то они с Карленом здесь соревновались в беге, он был меньше ее, не мог обогнать и чуть не плакал от досады, что ему всегда приходится проигрывать. Наконец, ей стало жаль братишку и однажды она дала себя победить. Хорошо, что поступила так. Если с ним что-нибудь приключилось бы, то ей было бы больно из-за каждой причиненной ему обиды.
Вдруг переднее колесо за что-то зацепилось, и велосипед опрокинулся, Мирдза полетела в канаву. Она еще не успела опомниться, как из-за деревьев выскочили двое мужчин. Мирдза успела заметить, что они были в красноармейской форме. Один из них направил ей в лицо ослепительный свет карманного фонаря, другой крикнул по-русски: «Стой, руки вверх!» Мирдза, сидя в канаве, медленно подняла руки. «Давай деньги и все, что есть»! — приказал тот, у которого в руке был фонарь. Мирдза сидела как окаменелая. «Неужели нелепые слухи — правда?» — думала она и ощутила холодную дрожь. Второй грабитель, стоявший до сих пор в темноте, подскочил к ней и сорвал с руки часики. «Деньги у тебя есть?» — спросил он, но когда Мирдза покачала головой, принялся обшаривать ее карманы. Луч света упал на лицо грабителя, и Мирдза заметила, что его темные усы выглядят, как накрашенные. «Помни, если не будешь молчать и сообщишь полиц… милиции, то в следующий раз тебя живой не оставим!» — пригрозил первый. Они подняли велосипед и, волоча его, ушли.
Мирдза выбралась из канавы и, совсем ошеломленная, поплелась в сторону местечка, потом сообразила, что надо идти домой. Вернувшись на место происшествия, она снова споткнулась, нога зацепилась за проволоку, которая была протянута поперек дороги. Она сильно замерзла, и лес казался ей совершенно черным и полным опасностей. Свои же шаги отдавались в ушах болезненно громко. «Какая чушь!» — в голове гудели только два этих слова…
Но как странно они говорили. Совсем иначе, чем красноармейцы, скоторыми ей приходилось встречаться. Один даже оговорился: хотел сказать «милиция» и чуть не обмолвился — «полиция». Так у нас многие по старой привычке милиционера называют полицейским. И какие странные усы были у одного из них, точно углем намазанные. Очевидно, хотел замаскироваться. В волости снова заволнуются. Было бы лучше, если бы никто не узнал. Может, пока не говорить, смолчать, а рассказать только в городе, когда поедет туда? Во всяком случае, завтра она еще никому не скажет, обдумает, что и как говорить. Даже матери не расскажет. Как она всполошится, когда узнает о событии этой ночи! Ни на минуту не выпустит из дому, а если она куда выйдет, то будет бояться и трепетать. Действительно, уж лучше матери не говорить. Все равно тут ничего не поделаешь, зачем ее тревожить. И так ее нервы напряжены до крайности, по ночам иногда вскрикивает во сне и плачет.
В окне еще мерцал слабый свет. Ну, конечно, мать ждала ее. Мирдза тихонько постучала, и мать сразу же открыла, словно она уже издалека услышала ее шаги и ждала у дверей.
— Где велосипед? — удивленно спросила она.
— Случилась поломка… по пути туда. Оставила у Зенты, — солгала Мирдза.
— Боже, это ведь чужой велосипед, можно ли будет починить? — забеспокоилась мать.
— Починят, мамочка, починят, — успокаивала Мирдза. — Дай мне поесть, нет ли чего-нибудь горячего, — она торопливо перевела разговор на другое, чтобы больше не упоминать о велосипеде.
Мирдза ела и сбивчиво рассказывала о пережитом за день — о разговоре с городом, о Марии Перкон, которой обещала отдать ботинки Карлена, о лесных работах. Только об ограблении она не сказала ни слова. Веселостью она пыталась подавить свое недавнее волнение и временами бросала взгляд в зеркало, не остались ли на лице следы пережитого испуга. Но свет был слишком слаб, чтобы мать могла что-нибудь заметить.
Мирдза легла, но долго не могла уснуть. Как только закрывала глаза, она сразу же видела темный лес и все, что с нею произошло. Вот пауки — протягивают поперек дороги проволоку, а сами сидят в кустах и караулят жертву. Но как им могло взбрести на ум, что так поздно еще кто-нибудь поедет? Может, они кого-нибудь поджидали? Неужели меня? Откуда они узнали, что я в эту ночь поеду через Рубенский лес? Нет, это, наверное, случайность. Нехорошо все это, очень нехорошо. Так часто случаются грабежи, и даже произошло одно убийство. Может быть, неправильно — молчать? Пусть милиционер один ничего не найдет, но хоть люди будут знать, какими приемами пользуются грабители, будут по ночам осторожнее. Если сообщить милиционеру, то завтра она даже не сможет носа высунуть из дома. Ее станут расспрашивать, будут покачивать головами и ужасаться, что «нынче такие времена», а кое-кто даже поиздевается — ждала, мол, большевиков, а ее же обобрали. Все-таки лучше молчать, а уж если рассказать, то только там, где это будет иметь смысл. Плохо только, что велосипед чужой. Эрик дал ей в пользование, а если он… больше не тот Эрик… Э, лучше об этом не думать. Надо повидать отца, он поможет советом.
Утром Мирдза встала невыспавшейся и недовольной. То, что ее мучило, не было какой-то определенной мыслью, но вызывало сильное отвращение, раздражало каждую клетку нервов. Как все усложняется и запутывается, все иначе, чем она мечтала в мрачные годы немецкого господства. Казалось, что стоит только прогнать немцев и их прислужников — шуцманов, и сразу лицо всей страны изменится — люди станут самоотверженными, будут помогать друг другу в восстановлении разрушенного, и общие интересы станут преобладать над личными.
Но это не так, совсем не так, хотелось кричать. Даже на мельнице не мелят тому, кто не дает взяток. Как противно — точно при немцах, когда без куска масла и бутылки водки нельзя было зайти даже к сапожнику или портному. А в учреждениях, которые должны это видеть, — равнодушие. Даже не отвечают на жалобы. Словно это пустяк какой. Возможно, они заняты более важными делами, но какую горечь и недовольство вызывают в людях непорядки, и все это обращается против Советской власти. И вот она, Мирдза, не в состоянии больше так смело смотреть каждому в глаза, не может с гордостью сказать: видите, мы сразу же сделали жизнь лучше, извели взяточничество, справедливо распределили землю, желающих учиться послали в школу, в учреждениях у нас работают честные, отзывчивые люди. Разве теперь можно это с уверенностью сказать? Даже Зента — неплохая девушка, комсомолка — забывает дать ход просьбе Марии Перкон. Ой, как надо сразу же поехать к Бауске и все рассказать! Ей казалось, что этот человек сумел бы принять меры и быстро навести здесь порядок. Надо также попросить, чтобы в волость направили хотя бы одного энергичного, умного человека. А тут еще лесные работы, медлить с которыми никак нельзя. Надо скорее покончить с ними, и тогда она поедет. Поедет? Ну, что ж, пойдет пешком, если велосипеда больше нет. Она пойдет по снегу и сугробам, но пойдет.
Мария Перкон пришла за ботинками. Мирдзе даже неловко было выслушивать ее благодарности.
— Не за что благодарить, — ответила она, — это ведь старые ботинки, все равно валяются, никому не нужны.
— Но нынче никто никому даром ничего не дает, — возразила Мария. — Богатые хозяева заставили бы меня за ботинки целый месяц работать. Еще совсем хорошие ботиночки. Витолдинь года два их носить будет и вас благодарить. А тем временем достанем новые.
В местечко Мирдза шла вместе с Марией Перкон. В Рубенском лесу она внимательно осмотрела место ночного происшествия, но никаких следов не обнаружила. Проволока была убрана. Неизвестно, сделали ли это сами бандиты или какой-нибудь прохожий.
В исполкоме Зента встретила Мирдзу пытливым взглядом.
— Ты пешком? — был ее первый вопрос. — Значит, все же правда?
— Что правда? — ответила Мирдза вопросом и покраснела.
— Ну, что у тебя вчера ночью отняли велосипед и часы, — пояснила Зента.
— Кто это наговорил тебе такие глупости? — возмутилась Мирдза.
— Так в местечке говорят.
— Но кто именно? — настаивала Мирдза.
— Рудис Лайвинь.
— Откуда он это взял? Давай его сюда. Я хочу выяснить.
— Он вышел. Действительно, это выдумка? — удивилась Зента.
— Конечно, выдумка!
— Но почему ты пришла пешком? — недоверчиво спросила Зента. — И часиков на руке нет.
— Я вчера в темноте слетела в канаву, — сказала Мирдза. — Погнула у велосипеда спицы. Часы от сотрясения остановились.
— Чего только люди не выдумают, — негодовала Зента. — Рассказывали, что на тебя сразу же за местечком напали красноармейцы. Все забрали, в одном платьице домой прибежала. Мать заплакала, когда увидела. Ее чуть было удар не хватил.
— Я все же хотела бы знать, кто это наговорил Рудису Лайвиню, — не унималась Мирдза. — Ты его не спрашивала?
— Кажется, швея Тауринь, — вспомнила Зента. — А ей Балдиниете передала или кто-то другой из соседей, видевший твою мать.
— Сплошная ложь! Кто-кто, а уж моя мать не может выдумать таких побасенок. Их, должно быть, тут же в местечке сочинили, — сердилась Мирдза.
— Ну и хорошо, что это только сказки, — обрадовалась Зента. — Нечего об этом больше говорить. Только что звонил товарищ Бауска. Все в порядке. Делянки обменяли, будем рубить в своих лесах. Завтра лесник укажет. Жаль, что не пришла раньше, могла бы сама с Вилисом поговорить. Сегодня было хорошо слышно.
По дороге домой Мирдза зашла к Тауринь. Ей хотелось установить первоисточник слухов. Если никто ночью не видел, как ее ограбили, значит здесь что-то неладно. В таком случае, слухи шли от самих грабителей.
Тауринь сказалась ничего не знающей. Сегодня к ней приходила парикмахерша примерять платье и рассказывала, что идут такие слухи. Швея даже не спросила, кто их пустил.
— А сразу же передали Рудису, чтобы разнес по волости, — насмешливо сказала Мирдза.
— Разве я отвечаю за то, что другие говорят, — обиделась Тауринь. — Я передавала, что слышала. Разве уж теперь и говорить нельзя. Ну и времена настали.
— Не сердитесь, — улыбнулась Мирдза, пытаясь успокоить возмущенную швею. — Я только хотела сказать, что вам наболтали глупостей.
— Теперь я и сама вижу, — подобрела швея. — Говорили, что с вас пальто сняли, а сами вы вся в синяках.
Мирдза пошла к Лисман. Чем больше она будет показываться на людях, тем скорее затихнут разговоры. Парикмахерша тоже не могла точно сказать, откуда взялись такие слухи. Ей рассказывала почтовая барышня. Сегодня утром она вышла погулять и будто бы слышала, как об этом говорили две крестьянки. Одна сказала, что мать Мирдзы со слезами на глазах поделилась с ней.
Не задерживаясь, Мирдза пошла домой. Спрашивать у Майги она не станет. Все равно от нее не узнаешь больше, чем от других. Странная, очень странная вся эта история! Мать и не подозревает о вчерашних ужасах. Что-то неладно. Если никто не видел, то у кого-то есть связи с раскрашенными грабителями.
Грабителей она вдруг мысленно связала с осенними воззваниями «латышских патриотов». Кто они, где они обитают и у кого с ними связь? Эти три вопроса, как холодные гадюки, обвивали ее сердце, вселяя в него тревогу.
Попытаться отговориться общими фразами, — дескать, должно быть учреждения руководствуются своими важными соображениями, раз работы так распределены, — нет, кому угодно, но старому Пакалну так сказать нельзя. Просто не поверит. Слишком много у него житейской крестьянской мудрости, чтобы он не понял, как бессмысленно зря гонять людей — ведь это создаст много неудобств и вызовет недовольство.
— Дедушка, я тебе этого не могу сказать, — призналась она.
— Что-то многое у нас делается наоборот, — высказал Пакалн наболевшую мысль. — Нет настоящего порядка. Вот и с этими поставками. Мы сдали — хорошо, спасибо, но до тех, кто не сдал, словно и дела нет. Я понимаю, нечего сдавать тем, у кого поля вытоптаны и изрыты, как вот у приречных жителей. Что с них возьмешь? Но Саркалиене-то намолотила полную клеть! А сколько она сдала? Что кот наплакал. То же самое Думини и Миглы. Составили акт о военных разрушениях, а что у них разрушено?
Мирдза поняла обиду Пакална. Он честно сдал из своего урожая, что причиталось, и даже отказался от своей доли за работу на бесхозных полях. «Пусть пойдет сыну на фронт», — скромно сказал он тогда.
— И кто у нас теперь заправляет?.. — продолжал Пакалн. — Такие Калинки, которые никогда в своей жизни не работали. Правда, и Ян Приеде в правленческих делах ничего не понимает, но у него хотя руки в мозолях, он знает, что такое работа. Дали бы ему посильное дело, подучили бы, тогда из него вышел бы толк. А этот Калинка — последний лодырь, ну зачем такого ставить на должность? Кто не знает, что он за человек? Свои лошади у него с голоду подыхали, каждую весну шкуру продавал. И такому дают в руки волостной коннопрокатный пункт. Тьфу! — сплюнул он.
— Дедушка, может, и в лесничество втерлись такие же Калинки, потому нас и посылают в Гарупский бор, — пришло Мирдзе на ум объяснение, которое ждал от нее Пакалн.
— Но почему таких пускают на должности? — рассердился он.
— Потому, что вот такие Пакалны ни на какие должности не идут, — напомнила ему Мирдза, задорно сверкнув глазами.
Пакалн улыбнулся, и от уголков его глаз веером разбежались морщинки. Он погрозил Мирдзе пальцем.
— Что ты, дочка, надо мной, стариком, подшучиваешь. Разве у нас в волости более молодых не хватает? Я едва со своими десятью дворами справляюсь.
— А на работе всегда первый, — похвалила его Мирдза.
— Работа — это моя должность, — сказал Пакалн с гордостью, и складки на его лбу стали глубже. — Ну, пошутили — и хватит, а теперь скажи, как мы доставим наших людей в Гарупский лес? Сколько в каждом доме осталось работников — по одному, много — по два. Им ведь и за скотиной ходить надо. Было бы тут же в своем лесу, так и горя мало было бы — утром и вечером, когда темно, занимались бы по дому, а днем — в лесу. Как же это тем, кто распоряжается, в голову не пришло?
— Если бы все же поговорить в исполкоме? — неуверенно предложила Мирдза.
— Поговори, дочка. — живо откликнулся Пакалн. — Тебя они больше будут слушать.
С тяжелым сердцем Мирдза пошла в местечко. Никакой надежды, что Ян Приеде или Зента смогут уладить это дело, у нее не было.
Все же надо сказать, пусть знают, что люди думают и говорят об их работе.
У почтового ящика она остановилась. Еще есть время обдумать — опустить в ящик письмо Эрику или оставить в кармане и потом разорвать? Но она не успела решить. Из исполкома вышел сам начальник почтового отделения Зелмен, лицо у него было усталое. При виде Мирдзы в его блеклых глазах мелькнуло нечто вроде улыбки. Мирдза, спохватившись, быстро подняла крышку почтового ящика и опустила письмо.
— Вот это хорошо, похвально, — затараторил Зелмен. — Письма женихам надо писать. Иначе мы, почтовики, без работы останемся. А он-то пишет?
— Это вам лучше знать, пишет или не пишет, — пошутила Мирдза.
— У меня этим больше Майга занимается, сортирует и рассылает письма, — добродушно усмехнулся Зелмен. — Красота и прилежание украшают женщину. Я всегда говорил, счастлив будет тот парень, кто женится на Майге. Захочет побриться, даже бороду самому не придется мылить — она это сделает.
Мирдза вошла в исполком. Зента удивленно посмотрела на нее. Лицо бывшей подруги было каким-то угрюмым и решительным.
Мирдза была довольна, что в канцелярии сидел также и Ян Приеде — не придется оставаться с Зентой наедине. Это удержит обеих от ненужных колкостей.
— Я хотела с вами поговорить, — обратилась она к ним. — Неужели никак нельзя обменять лесосеку?
— Мы уже пытались, — ответила Зента. — Я звонила в лесничество, но они говорят, что планы и списки уже утверждены в уезде и ничего нельзя сделать. Надо было раньше возражать.
— А почему вы не возражали раньше? — настойчиво допытывалась Мирдза.
— Я ведь тебе писала, — Зента нетерпеливо начала мять клочок бумаги, — мы получили извещение с опозданием. Залежалось где-то на почте.
— Но разве ты не звонила в уезд? — не уступала Мирдза.
— Я хотела звонить, — оправдывалась Зента, — но Майга говорит, что не следует их там беспокоить из-за каждого пустяка. Кроме того, лесные работы это то же, что мобилизация. Куда пошлют, туда надо идти.
Мирдза осеклась. Об этом она не подумала, но, если разобраться, то на фронте ведь тоже не перебрасывают солдат без всякого смысла, а распределяют умно и целесообразно. Старого Пакална и остальных крестьян, которые должны будут работать в лесу, такими доводами не убедишь. Каждый сам видит, что в этом нет ничего целесообразного.
— Все же надо было позвонить, хотя бы рассказать, как с нами поступают.
— Мирдза, если бы ты знала, как мне не хочется звонить, — почти умоляла Зента. — Мне однажды кто-то оттуда ответил, что мы, наверное, думаем, будто у них больше нечего делать, как только учить нас. Нам, мол, посылают инструкции, да и у самих должны быть головы на плечах.
— Кто же с тобой разговаривал, кто-нибудь из руководящих работников? — поинтересовалась Мирдза.
— Нет, кто-то из секретарей.
— Почему ты разговариваешь с секретарями — поговори с главными, — посоветовала Мирдза.
— Попробуй с ними связаться, — усмехнулась Зента. — Секретарь прежде всего спросит, по какому делу, и пообещает сам уладить или же выругает, что по таким пустякам тревожат его начальство.
— Подумаешь, какие церберы, — рассердилась Мирдза. — Я все-таки на этом бы не успокоилась. Пусть позовут к телефону начальника, и все.
— Попробуй, может, тебе посчастливится, — Зента взяла телефонную трубку. — С кем ты хочешь говорить?
Мирдза испугалась. Именно сегодня ей хотелось с кем-нибудь поговорить, и вот эта возможность так неожиданно представилась. Но кто ее будет слушать там, на другом конце провода? Она никого не знает, кроме своего отца и Эльзы, а теперь, возможно, придется говорить не с ними.
— Быть может, поговорить с товарищем Бауской, заместителем председателя, — предложила Зента. — Его легче всего добиться, если он только не на заседании.
Мирдза согласилась. Муж Эльзы все-таки вроде знакомый.
Зента заказала разговор.
— Мирдза хочет искать правды, — сказала она, шутя, телефонистке Майге. — Что? Линия занята? Она подождет, пока освободится.
Время тянулось очень медленно. Казалось, что уже прошел целый час. Мирдза посмотрела на ручные часики — прошло лишь пятнадцать минут. Разговор больше не клеился. Зента погрузилась в составление какого-то отчета. Ее потревожил Рудис Лайвинь, зашедший спросить, будет ли он нужен вечером. Майга просит его раздобыть у кого-нибудь молока и меда. У нее заболело горло, хочет полечиться. Зента охотно отпустила его.
«Не посылает ли его Майга опять к Саркалиене?» — подумала Мирдза, но промолчала. Какое ей дело.
Немного погодя зашел крестьянин с другого конца волости. Он жаловался, что нигде не может размолоть хлеб.
— Я понимаю, что одной мельнице трудно всех обслужить, раньше у нас вертелись три, — сказал он. — Говорят, кто первый приедет, тот скорее смелет. А у нас — кто жирнее смажет, тот и мелет. У кого нечего дать, тот может десять раз ездить — все равно ничего не добьется, скажут, очередь еще не подошла. Богатые крестьяне, у которых масло и шпик шипят на сковородке, те каждый день пекут пироги да белый хлеб. А у меня ничего другого нет, кроме мешка зерна, заработанного осенью на общественной уборке. Коровку Советская власть дала, да ведь — четверо детей и самих двое, все поедаем. Разве нельзя указать мельнику, чтобы покончил с порядками немецкого времени? Теперь ведь власть трудящихся, но старый хозяин все еще сидит за столом, а мы жмемся у стены и ждем крошек.
— Нам трудно вмешаться, — ответила Зента. — Мельница принадлежит тресту. Волостная мельница еще не исправлена.
— А этот трест заграничный, что ли? — с горечью спросил новохозяин. — Я думаю, раз мельник, или, как его нынче называют, директор, поставлен государством, то для него все должны быть равны.
— Но мельница не подчиняется исполкому, — объяснила Зента, — нам трудно вмешаться. Там не наш работник.
— Разве трест пустил мельницу для богатых хозяев? — в голосе крестьянина послышалось беспокойство. — Саркалиене возами возит на мельницу и обратно, а у меня нет краюшки, чтобы детям дать с собой в школу.
— Напишите жалобу правлению треста, — посоветовала Зента.
Крестьянин безнадежно махнул рукой.
— Кое-кто уже писал, но это то же самое, что покойнику на кладбище писать.
— Все же, если жалобы будут повторяться, они обязаны прислать ревизора, — успокаивала Зента.
— Я думал, что те, кто сидит в исполкоме, должны видеть, что происходит в волости, — крестьянин натянул рукавицы и ушел, мрачный и удрученный.
— Мне кажется, исполкому со своей стороны тоже надо написать жалобу, — сказала Мирдза, когда крестьянин вышел.
— Мы уже написали, — ответила Зента, берясь за свой отчет. — Но это в самом деле то же, что покойнику на кладбище писать. Не отвечают и ревизии не шлют.
Примерно через час дверь снова отворилась и вошла худощавая, закутанная в платок, женщина. Поздоровавшись, она скромно остановилась у дверей и, виновато улыбаясь, смотрела на Зенту.
— Что вам? — спросила Зента, поднимая глаза от бумаги.
— Я хотела узнать, как с ботиночками?
— С какими ботиночками? — не поняла Зента.
— Ну, с этими. Осенью вы обещались выписать из города, — пояснила женщина. — Ну, совсем не во что Витолдиню обуться. Сам сделал из двух пар отцовских постол одну, начал было в школу ходить, но постолы те были старые, развалились, ничего от них не осталось. Теперь сидит дома и плачет. Очень хочет учиться. Аннине-то господин учитель сам дал старые туфельки своей дочки, и она ходит в школу. А Витолдинь сидит у окна и грустно так смотрит на дорогу. Было бы поближе, так хотя бы тряпками ноги обмотал, а то ведь — пять верст. Очень хочет учиться. И в немецкое время не учился из-за той же обуви. Нам тогда не давали, говорили, вы ждете большевиков — вам, мол, в сороковом году землю дали. Из-за этого же моего Симана в Германию угнали. Жив ли он? Говорят, есть там совсем не дают, а на работу гоняют. Хочется, чтобы Витолдинь попал в школу. И учителя говорят, что голова у него хорошая, понятливый паренек, да вот обуви нет.
Зента нашла какую-то папку и долго перелистывала бумаги. Мирдза видела, что ей неловко. Она покраснела и перелистывала, не поднимая глаз, Лицо женщины все еще светилось надеждой: вот секретарша найдет бумагу и тогда у Витолдиня будут ботинки.
— Нет еще ответа, — немного погодя медленно сказала Зента.
Лицо женщины помрачнело. Словно стараясь спрятаться от холода, она начала кутаться в платок и поправлять на голове косынку.
— Значит, нет еще, — сказала она, не собираясь уходить. — Не знаю, что сказать Витолдиню, как его обмануть? Он так надеялся. Во сне видел, как в новых ботиночках идет в школу. Я, правда, сказала, хорошо если бы хоть постолы дали. Так и тех нет. Что теперь делать?
У Мирдзы защемило сердце, когда она представила себе мальчика, с грустными глазами сидящего у окна и мечтающего о школе. Так она в немецкое время мечтала о гимназии. Сколько раз она ночами плакала, проклинала войну и немцев, разбивших всю жизнь. Но теперь нельзя допустить, чтобы способный мальчик не ходил в школу. Что за равнодушные люди сидят в учреждениях, решающих такие вопросы? И почему Зента так покраснела — не забыла ли она попросту переслать запрос Витолдиня?
— Не знаю, уж стоит ли мне зайти еще раз? — спросила женщина с сомнением. — Боюсь, как бы не надоесть. Ведь у вас и другой работы много.
Мирдза внезапно вспомнила, что у них дома, в ящике, лежат ботинки Карлена, которые стали ему малы.
— Сколько лет вашему Витолдиню? — спросила она.
— Весной, в Юрьев день, минет тринадцать. Летом нанимался в пастухи, но все работы за взрослого делал, — охотно рассказывала мать. — Теперь тоже говорит, наймется к хозяину и заработает на ботинки. Тот, у кого работал летом, обещался справить ему обувь, но уехал неизвестно куда. Жалованья не уплатил. Многие хозяева хотели Витолдиня нанять. Он парнишка здоровый, за все берется. Только я не пустила, надеялась, что вы выхлопочете ботинки. Теперь нам самим опять землицы дали. Правда, на болоте выпал надел, да что ж поделаешь, всем хороших участков не хватило.
— Знаете что, мамаша, — Мирдза поднялась и взяла ее за обе руки, — у меня дома есть ботинки брата. Они, правда, поношены, но некоторое время еще послужат. Завтра приходите за ними в домик Озолов, налево от Рубенского лесочка.
— Так ты дочь Озола! — женщина радостно сжала руку Мирдзы. — Твоего отца я знаю еще с тех времен, когда он был здесь председателем. Тогда нам хорошую землю дали. Спасибо, спасибо, дочка, за ботиночки! Ну и обрадую же я Витолдиня. Завтра с самого утра схожу. Ты ведь меня не знаешь. Я — Мария Перкон, где тебе знать. Мы все время батрачили в дальнем конце волости. Спасибо, спасибо!
Мария Перкон вышла, ступая прямо и легко. В дверях она оглянулась и посмотрела с улыбкой.
Мирдза повернулась к Зенте и пристально посмотрела ей в глаза. Та не выдержала этого взгляда, снова покраснела и потупила взор.
— Значит, ты ее заявление никуда не посылала? — спросила Мирдза с упреком.
— Я, право, не могу понять, как это произошло, — призналась Зента. — Теперь вспоминаю, как в тот вечер мы с Майгой готовили к отправке разные бумаги. Думала, что вложила и эту.
— И почему Марии Перкон надо было дать участок на болоте? — обратилась Мирдза к Яну Приеде. — Разве хорошей земли мало?
— Да я не знаю, как там Калинка подсчитывал, — оправдывался Ян. — По-всякому мудрил. Говорит, иначе нельзя участок в одном куске подобрать. Теперь ведь по пятнадцать гектаров дают, так все пришлось делить заново.
За окном стлались глубокие сумерки, а соединения по телефону все еще не было. Мирдза начала сомневаться, удастся ли так поздно к кому-нибудь дозвониться. Зента зашла к Майге переговорить, нельзя ли скорее связаться. Но линия по-прежнему была занята.
— Ты подожди, — посоветовала Зента Мирдзе. — Они там работают поздно. Вечером их легче поймать, чем днем.
Мирдза ждала. Темнота на дворе все сгущалась. Ничего, это не помешает ей добраться домой. Удалось бы только созвониться и уладить дело, иначе как же показаться на глаза Пакалну и крестьянам своей десятидворки.
Ян Приеде зевнул. Посетителей больше не будет. Он мог бы подняться к себе, наверх, но обе девушки еще сидят здесь, как-то неловко уходить первым. Да и хочется узнать, что получится у Мирдзы с лесными работами. Смешно было бы гонять людей из одной волости в другую. С мельницей тоже плохо. Хорошо бы восстановить свою, но для этого нужно несколько мешков цемента. Гаужен, правда, говорит, что можно обойтись известью, но ее тоже негде взять. Приводной ремень утащили. Поди знай, где искать. Возможно, его уже изрезали на подметки. Со всем столько возни, что не знаешь, с какого конца начинать. Для школы все нет оконных стекол, Салениек каждый день ходит. В класс войти нельзя, через забитые досками окна ветер все тепло выдувает.
Мирдза посмотрела на часы.
— Половина десятого! — воскликнула она. — Не знаю, ждать ли еще?
Зента позвонила Майге.
— Попытайся связаться поскорее, — поторопила она. — Мирдза больше не может ждать.
Через полчаса раздался звонок. Несмотря на долгое ожидание, Мирдза вздрогнула и подумала, лучше бы этот звонок сегодня вечером не раздался вовсе. Может, все, что она собиралась сказать, надо было записать на бумажке, а то в волнении можно наговорить невпопад.
— У аппарата Бауска! — услышала она спокойный, звучный голос. — Кто говорит?
— Вы меня не знаете, — начала Мирдза, растерявшись. — Я Озол.
— А, Мирдза Озол! — радостно воскликнул Бауска. — Знаю, как же не знать! Такая — с голубыми глазами, светловолосая и боевая. Ротой могла бы командовать! Как у вас там дела в волости?
— В нашей волости нет порядка! — воскликнула Мирдза, второпях не сумев придумать другого.
— Что вы, что вы? — удивился Бауска. — А мы думали, что у вас больше порядка, чем у нас. Никто ни на что не жаловался.
— Вот я сейчас пожалуюсь, — крикнула Мирдза. И совершенно свободно, без запинки, как старому знакомому, рассказала о несуразице с лесоразработками. — Неужели ничего нельзя изменить? — закончила она.
— Мы заставим их немного пошевелить мозгами, этих буквоедов! — возмущенно воскликнул Бауска. — Сегодня вечером я позвоню в Ригу, а оттуда им такую баню зададут, что сами побегут лес рубить! Завтра они сообщат вам о новых делянках там же, в вашей волости… А как в остальном?
— И в остальном тоже нет порядка, — ответила Мирдза и хотела рассказать про мельницу. Но в телефоне что-то затрещало, до нее только долетели восклицания Бауски: «Алло, алло! Что там за шум?» — и она замолчала.
Вскоре треск в телефоне прекратился.
— Почему вы не приедете к нам, тогда бы мы могли по душам поговорить. По телефону трудно, — снова послышался голос Вилиса Бауски. Мирдза пообещала приехать.
Мирдза с сожалением положила трубку. Она так мало успела сказать. Но хорошо хоть, что вообще удалось поговорить. Зента жалуется, что к ним трудно дозвониться. Ну, если Бауска обещал уладить вопрос с лесными делянками, он сдержит свое слово. Его голос внушает доверие.
Она посмотрела на Зенту победоносно сверкающими глазами.
— Ты, действительно, счастливая, — сказала Зента, но в ее словах не было той радости, какая кипела в сердце Мирдзы и переливалась через край.
— Ой, как темно, — взглянув в окно, сочувственно заметила Зента, — как ты попадешь домой?
— На велосипеде есть фонарь, поеду, как днем, — беспечно усмехнулась Мирдза. Что ей ночь и темнота, если в душе так много света и бодрости? Это ничего, что Зента не предложила ей переночевать у нее, она понесется — только ветер засвистит в ушах. Простившись, она вывела велосипед и помчалась через местечко.
Небо было облачно, в окнах редко где мерцал свет. Если бы исправили мельницу, то опять было бы электричество. Когда Мирдза будет в городе, то поговорит и о мельнице, обо всем расскажет, что здесь происходит с помолом зерна, с дележкой земли. И о Марии Перкон. Кажется, она запугана, боится требовать того, что ей положено. Калинка загоняет женщину с детьми на болото, а она сама, да и никто другой, не протестует. Кричать надо о такой несправедливости, о взяточничестве на мельнице и о том, что у школьников нет обуви…
Да, но в том, что Витолд Перкон не может идти в школу, виновата прежде всего Зента. Витолдинь, бедный, наверное, по ночам, когда мать не видит, плачет, пока не устанет и не заснет. Так же плакала и она, когда не могла попасть в среднюю школу… Потом с этим примирилась, ждала прихода Красной Армии. Твердо решила продолжать учебу. Но как же это получилось, что этой осенью забыла о своем намерении? Было много работы, все представлялось таким важным, и ей казалось, что она должна быть здесь. А потом все ее мысли заняло молчание Эрика… Все же нельзя так опускаться. Ей уже девятнадцать лет, и стыдно требовать, чтобы мать и отец содержали ее, но, может быть, надо было бы найти работу в городе и поступить в вечернюю школу. Она это непременно сделает. В эту зиму уже поздно, но следующей осенью — обязательно. «Я не буду Мирдзой, если не окончу средней школы!» — поклялась она.
Пожалуй, лучше выбраться отсюда. Воспоминания об Эрике, казавшиеся столь приятными после его ухода, теперь стали горькими и мучительными. И когда вернется Эрик, то и тогда они будут чужими, нет, уж лучше не видеть его, не оставаться здесь. Она не хочет быть несчастной влюбленной, которая, как пишут в романах, ходит бледной и замкнутой. Ей надо работать, ощущать увлекающий вперед поток, быть полезной.
Словно убегая от воспоминаний, словно мчась навстречу новой жизни, Мирдза стремительно нажимала на педали велосипеда. Вот уже Рубенский бор, где ей знакомы не только каждое дерево и куст, но и каждая выбоинка на дороге. Когда-то они с Карленом здесь соревновались в беге, он был меньше ее, не мог обогнать и чуть не плакал от досады, что ему всегда приходится проигрывать. Наконец, ей стало жаль братишку и однажды она дала себя победить. Хорошо, что поступила так. Если с ним что-нибудь приключилось бы, то ей было бы больно из-за каждой причиненной ему обиды.
Вдруг переднее колесо за что-то зацепилось, и велосипед опрокинулся, Мирдза полетела в канаву. Она еще не успела опомниться, как из-за деревьев выскочили двое мужчин. Мирдза успела заметить, что они были в красноармейской форме. Один из них направил ей в лицо ослепительный свет карманного фонаря, другой крикнул по-русски: «Стой, руки вверх!» Мирдза, сидя в канаве, медленно подняла руки. «Давай деньги и все, что есть»! — приказал тот, у которого в руке был фонарь. Мирдза сидела как окаменелая. «Неужели нелепые слухи — правда?» — думала она и ощутила холодную дрожь. Второй грабитель, стоявший до сих пор в темноте, подскочил к ней и сорвал с руки часики. «Деньги у тебя есть?» — спросил он, но когда Мирдза покачала головой, принялся обшаривать ее карманы. Луч света упал на лицо грабителя, и Мирдза заметила, что его темные усы выглядят, как накрашенные. «Помни, если не будешь молчать и сообщишь полиц… милиции, то в следующий раз тебя живой не оставим!» — пригрозил первый. Они подняли велосипед и, волоча его, ушли.
Мирдза выбралась из канавы и, совсем ошеломленная, поплелась в сторону местечка, потом сообразила, что надо идти домой. Вернувшись на место происшествия, она снова споткнулась, нога зацепилась за проволоку, которая была протянута поперек дороги. Она сильно замерзла, и лес казался ей совершенно черным и полным опасностей. Свои же шаги отдавались в ушах болезненно громко. «Какая чушь!» — в голове гудели только два этих слова…
Но как странно они говорили. Совсем иначе, чем красноармейцы, скоторыми ей приходилось встречаться. Один даже оговорился: хотел сказать «милиция» и чуть не обмолвился — «полиция». Так у нас многие по старой привычке милиционера называют полицейским. И какие странные усы были у одного из них, точно углем намазанные. Очевидно, хотел замаскироваться. В волости снова заволнуются. Было бы лучше, если бы никто не узнал. Может, пока не говорить, смолчать, а рассказать только в городе, когда поедет туда? Во всяком случае, завтра она еще никому не скажет, обдумает, что и как говорить. Даже матери не расскажет. Как она всполошится, когда узнает о событии этой ночи! Ни на минуту не выпустит из дому, а если она куда выйдет, то будет бояться и трепетать. Действительно, уж лучше матери не говорить. Все равно тут ничего не поделаешь, зачем ее тревожить. И так ее нервы напряжены до крайности, по ночам иногда вскрикивает во сне и плачет.
В окне еще мерцал слабый свет. Ну, конечно, мать ждала ее. Мирдза тихонько постучала, и мать сразу же открыла, словно она уже издалека услышала ее шаги и ждала у дверей.
— Где велосипед? — удивленно спросила она.
— Случилась поломка… по пути туда. Оставила у Зенты, — солгала Мирдза.
— Боже, это ведь чужой велосипед, можно ли будет починить? — забеспокоилась мать.
— Починят, мамочка, починят, — успокаивала Мирдза. — Дай мне поесть, нет ли чего-нибудь горячего, — она торопливо перевела разговор на другое, чтобы больше не упоминать о велосипеде.
Мирдза ела и сбивчиво рассказывала о пережитом за день — о разговоре с городом, о Марии Перкон, которой обещала отдать ботинки Карлена, о лесных работах. Только об ограблении она не сказала ни слова. Веселостью она пыталась подавить свое недавнее волнение и временами бросала взгляд в зеркало, не остались ли на лице следы пережитого испуга. Но свет был слишком слаб, чтобы мать могла что-нибудь заметить.
Мирдза легла, но долго не могла уснуть. Как только закрывала глаза, она сразу же видела темный лес и все, что с нею произошло. Вот пауки — протягивают поперек дороги проволоку, а сами сидят в кустах и караулят жертву. Но как им могло взбрести на ум, что так поздно еще кто-нибудь поедет? Может, они кого-нибудь поджидали? Неужели меня? Откуда они узнали, что я в эту ночь поеду через Рубенский лес? Нет, это, наверное, случайность. Нехорошо все это, очень нехорошо. Так часто случаются грабежи, и даже произошло одно убийство. Может быть, неправильно — молчать? Пусть милиционер один ничего не найдет, но хоть люди будут знать, какими приемами пользуются грабители, будут по ночам осторожнее. Если сообщить милиционеру, то завтра она даже не сможет носа высунуть из дома. Ее станут расспрашивать, будут покачивать головами и ужасаться, что «нынче такие времена», а кое-кто даже поиздевается — ждала, мол, большевиков, а ее же обобрали. Все-таки лучше молчать, а уж если рассказать, то только там, где это будет иметь смысл. Плохо только, что велосипед чужой. Эрик дал ей в пользование, а если он… больше не тот Эрик… Э, лучше об этом не думать. Надо повидать отца, он поможет советом.
Утром Мирдза встала невыспавшейся и недовольной. То, что ее мучило, не было какой-то определенной мыслью, но вызывало сильное отвращение, раздражало каждую клетку нервов. Как все усложняется и запутывается, все иначе, чем она мечтала в мрачные годы немецкого господства. Казалось, что стоит только прогнать немцев и их прислужников — шуцманов, и сразу лицо всей страны изменится — люди станут самоотверженными, будут помогать друг другу в восстановлении разрушенного, и общие интересы станут преобладать над личными.
Но это не так, совсем не так, хотелось кричать. Даже на мельнице не мелят тому, кто не дает взяток. Как противно — точно при немцах, когда без куска масла и бутылки водки нельзя было зайти даже к сапожнику или портному. А в учреждениях, которые должны это видеть, — равнодушие. Даже не отвечают на жалобы. Словно это пустяк какой. Возможно, они заняты более важными делами, но какую горечь и недовольство вызывают в людях непорядки, и все это обращается против Советской власти. И вот она, Мирдза, не в состоянии больше так смело смотреть каждому в глаза, не может с гордостью сказать: видите, мы сразу же сделали жизнь лучше, извели взяточничество, справедливо распределили землю, желающих учиться послали в школу, в учреждениях у нас работают честные, отзывчивые люди. Разве теперь можно это с уверенностью сказать? Даже Зента — неплохая девушка, комсомолка — забывает дать ход просьбе Марии Перкон. Ой, как надо сразу же поехать к Бауске и все рассказать! Ей казалось, что этот человек сумел бы принять меры и быстро навести здесь порядок. Надо также попросить, чтобы в волость направили хотя бы одного энергичного, умного человека. А тут еще лесные работы, медлить с которыми никак нельзя. Надо скорее покончить с ними, и тогда она поедет. Поедет? Ну, что ж, пойдет пешком, если велосипеда больше нет. Она пойдет по снегу и сугробам, но пойдет.
Мария Перкон пришла за ботинками. Мирдзе даже неловко было выслушивать ее благодарности.
— Не за что благодарить, — ответила она, — это ведь старые ботинки, все равно валяются, никому не нужны.
— Но нынче никто никому даром ничего не дает, — возразила Мария. — Богатые хозяева заставили бы меня за ботинки целый месяц работать. Еще совсем хорошие ботиночки. Витолдинь года два их носить будет и вас благодарить. А тем временем достанем новые.
В местечко Мирдза шла вместе с Марией Перкон. В Рубенском лесу она внимательно осмотрела место ночного происшествия, но никаких следов не обнаружила. Проволока была убрана. Неизвестно, сделали ли это сами бандиты или какой-нибудь прохожий.
В исполкоме Зента встретила Мирдзу пытливым взглядом.
— Ты пешком? — был ее первый вопрос. — Значит, все же правда?
— Что правда? — ответила Мирдза вопросом и покраснела.
— Ну, что у тебя вчера ночью отняли велосипед и часы, — пояснила Зента.
— Кто это наговорил тебе такие глупости? — возмутилась Мирдза.
— Так в местечке говорят.
— Но кто именно? — настаивала Мирдза.
— Рудис Лайвинь.
— Откуда он это взял? Давай его сюда. Я хочу выяснить.
— Он вышел. Действительно, это выдумка? — удивилась Зента.
— Конечно, выдумка!
— Но почему ты пришла пешком? — недоверчиво спросила Зента. — И часиков на руке нет.
— Я вчера в темноте слетела в канаву, — сказала Мирдза. — Погнула у велосипеда спицы. Часы от сотрясения остановились.
— Чего только люди не выдумают, — негодовала Зента. — Рассказывали, что на тебя сразу же за местечком напали красноармейцы. Все забрали, в одном платьице домой прибежала. Мать заплакала, когда увидела. Ее чуть было удар не хватил.
— Я все же хотела бы знать, кто это наговорил Рудису Лайвиню, — не унималась Мирдза. — Ты его не спрашивала?
— Кажется, швея Тауринь, — вспомнила Зента. — А ей Балдиниете передала или кто-то другой из соседей, видевший твою мать.
— Сплошная ложь! Кто-кто, а уж моя мать не может выдумать таких побасенок. Их, должно быть, тут же в местечке сочинили, — сердилась Мирдза.
— Ну и хорошо, что это только сказки, — обрадовалась Зента. — Нечего об этом больше говорить. Только что звонил товарищ Бауска. Все в порядке. Делянки обменяли, будем рубить в своих лесах. Завтра лесник укажет. Жаль, что не пришла раньше, могла бы сама с Вилисом поговорить. Сегодня было хорошо слышно.
По дороге домой Мирдза зашла к Тауринь. Ей хотелось установить первоисточник слухов. Если никто ночью не видел, как ее ограбили, значит здесь что-то неладно. В таком случае, слухи шли от самих грабителей.
Тауринь сказалась ничего не знающей. Сегодня к ней приходила парикмахерша примерять платье и рассказывала, что идут такие слухи. Швея даже не спросила, кто их пустил.
— А сразу же передали Рудису, чтобы разнес по волости, — насмешливо сказала Мирдза.
— Разве я отвечаю за то, что другие говорят, — обиделась Тауринь. — Я передавала, что слышала. Разве уж теперь и говорить нельзя. Ну и времена настали.
— Не сердитесь, — улыбнулась Мирдза, пытаясь успокоить возмущенную швею. — Я только хотела сказать, что вам наболтали глупостей.
— Теперь я и сама вижу, — подобрела швея. — Говорили, что с вас пальто сняли, а сами вы вся в синяках.
Мирдза пошла к Лисман. Чем больше она будет показываться на людях, тем скорее затихнут разговоры. Парикмахерша тоже не могла точно сказать, откуда взялись такие слухи. Ей рассказывала почтовая барышня. Сегодня утром она вышла погулять и будто бы слышала, как об этом говорили две крестьянки. Одна сказала, что мать Мирдзы со слезами на глазах поделилась с ней.
Не задерживаясь, Мирдза пошла домой. Спрашивать у Майги она не станет. Все равно от нее не узнаешь больше, чем от других. Странная, очень странная вся эта история! Мать и не подозревает о вчерашних ужасах. Что-то неладно. Если никто не видел, то у кого-то есть связи с раскрашенными грабителями.
Грабителей она вдруг мысленно связала с осенними воззваниями «латышских патриотов». Кто они, где они обитают и у кого с ними связь? Эти три вопроса, как холодные гадюки, обвивали ее сердце, вселяя в него тревогу.
 — Что поделаешь — барин остается барином, — насмешливо протянул Лауск во время обеда у костра, обводя взглядом лесорубов. — Они только усмехаются — пусть, мол, работают дураки да старые лошади. Слишком уж нежно с ними обращаются. При немцах Вилюм Саркалис с ружьем подступал, если кто вовремя в лес не выходил.
— Грозные господа долго не властвуют, — вставила Балдиниете. — Вот тот же Вилюм, его и след простыл.
— Откуда знать, может, теперь в Германии большим человеком заделался, — рассуждал Лауск.
— Ну, там у них своих дрессированных собак достаточно, — усмехнулся Гаужен. — Хотя латышей туда нагнали целые легионы, может, нужен, который бы и на своем языке лаял.
— Пусть лает, лишь бы не кусался, — добавила Балдиниете. — Много зла он натворил в эти годы. Мне кажется, что этот человек по ночам не может спокойно спать.
— Думаешь, его совесть мучает? — спросил Гаужен. — Навряд ли есть у такого человека то, что называется совестью.
— Пусть у него и нет совести, но страх не дает покоя, — продолжала Балдиниете. — Я видела, как Грислис, тот, что внучку Лизы Цируль застрелил, однажды на свадьбе выскочил из-за стола, когда в кустах что-то зашуршало.
Мирдза положила в корзинку оставшийся хлеб и отошла от костра. Ей опять не давали покоя мысли о том, что Эрик не торопится с ответом на ее письмо. Его мать послала письмо несколькими днями позже и уже вчера получила ответ. И опять ни слова о ней! Значит, ответа не будет. А она, как дура, еще писала ему: «Милый, милый», возможно, чтобы посмеялся с другими парнями над этими словами. Ну, что ж, надо перенести. Надо перенести! «И перенесу!» — стиснула она зубы. Схватила топор и начала колоть сосновые дрова. Скорее бы закончить лесные работы и поехать в город. Ей казалось, что нужно переменить обстановку и тогда она заживет по-иному. Этого состояния она не могла дальше терпеть, просто задыхалась.
Остальные тоже, неторопливо сложив остатки обеда, взялись за работу.
— Если мы, дочка, и эту неделю будем так работать, как до сих пор, то в субботу кончим, — сказал Пакалн, оценивая взглядом сделанное. — Да и мне дольше некогда: на следующей неделе нужно ехать за акушеркой. Новый жилец просится на свет. Доктора у нас теперь нет. Альвина говорит, чтобы я привез из города ее двоюродную сестру.
Мирдза приободрилась. Если на этой неделе удастся кончить с дровами, то она сможет поехать вместе с Пакалном в город. Задержится там, пока Пакалн привезет акушерку обратно. Она дергала пилу так быстро и сильно, что Пакалн через некоторое время отпустил ручку и, вытирая пот, засмеялся.
— Я вижу, мы больше не пара. Ты моей мудрости уже научилась, а я у тебя молодости занять не могу. — После этого Мирдза время от времени давала старику отдохнуть, а сама колола дрова. К вечеру она устала, и мысли об Эрике уже не донимали с прежней навязчивостью.
Она еще не успела войти во двор, как распахнулась дверь дома и навстречу выбежала мать. Радостная и взволнованная, она размахивала синим конвертом.
— Письмо! Письмо! — кричала она. «От Эрика!» — вспыхнула у Мирдзы радостная мысль. — Можешь себе представить от кого? — торжествующе спросила мать. Мирдза чуть не сказала: «От Эрика», но покраснела и не могла произнести этого слова.
— Не могу, — сказала она тихо и покраснела еще гуще.
— От Карлена! Карлен написал! Карлен!
На миг радость Мирдзы погасла, но сразу же ей стало стыдно, что вести от брата она обрадовалась меньше, чем радовалась бы, если бы написал Эрик. Ведь это писал Карлен, которого мать оплакивала, как погибшего, и вдруг — он жив, здоров, на этой стороне! Она вырвала из рук матери письмо и прочла адрес отправителя: «Полевая почта №… Значит, в Красной Армии. Удрал от немцев!» Вбежав в комнату, она торопливо начала читать:
— Что поделаешь — барин остается барином, — насмешливо протянул Лауск во время обеда у костра, обводя взглядом лесорубов. — Они только усмехаются — пусть, мол, работают дураки да старые лошади. Слишком уж нежно с ними обращаются. При немцах Вилюм Саркалис с ружьем подступал, если кто вовремя в лес не выходил.
— Грозные господа долго не властвуют, — вставила Балдиниете. — Вот тот же Вилюм, его и след простыл.
— Откуда знать, может, теперь в Германии большим человеком заделался, — рассуждал Лауск.
— Ну, там у них своих дрессированных собак достаточно, — усмехнулся Гаужен. — Хотя латышей туда нагнали целые легионы, может, нужен, который бы и на своем языке лаял.
— Пусть лает, лишь бы не кусался, — добавила Балдиниете. — Много зла он натворил в эти годы. Мне кажется, что этот человек по ночам не может спокойно спать.
— Думаешь, его совесть мучает? — спросил Гаужен. — Навряд ли есть у такого человека то, что называется совестью.
— Пусть у него и нет совести, но страх не дает покоя, — продолжала Балдиниете. — Я видела, как Грислис, тот, что внучку Лизы Цируль застрелил, однажды на свадьбе выскочил из-за стола, когда в кустах что-то зашуршало.
Мирдза положила в корзинку оставшийся хлеб и отошла от костра. Ей опять не давали покоя мысли о том, что Эрик не торопится с ответом на ее письмо. Его мать послала письмо несколькими днями позже и уже вчера получила ответ. И опять ни слова о ней! Значит, ответа не будет. А она, как дура, еще писала ему: «Милый, милый», возможно, чтобы посмеялся с другими парнями над этими словами. Ну, что ж, надо перенести. Надо перенести! «И перенесу!» — стиснула она зубы. Схватила топор и начала колоть сосновые дрова. Скорее бы закончить лесные работы и поехать в город. Ей казалось, что нужно переменить обстановку и тогда она заживет по-иному. Этого состояния она не могла дальше терпеть, просто задыхалась.
Остальные тоже, неторопливо сложив остатки обеда, взялись за работу.
— Если мы, дочка, и эту неделю будем так работать, как до сих пор, то в субботу кончим, — сказал Пакалн, оценивая взглядом сделанное. — Да и мне дольше некогда: на следующей неделе нужно ехать за акушеркой. Новый жилец просится на свет. Доктора у нас теперь нет. Альвина говорит, чтобы я привез из города ее двоюродную сестру.
Мирдза приободрилась. Если на этой неделе удастся кончить с дровами, то она сможет поехать вместе с Пакалном в город. Задержится там, пока Пакалн привезет акушерку обратно. Она дергала пилу так быстро и сильно, что Пакалн через некоторое время отпустил ручку и, вытирая пот, засмеялся.
— Я вижу, мы больше не пара. Ты моей мудрости уже научилась, а я у тебя молодости занять не могу. — После этого Мирдза время от времени давала старику отдохнуть, а сама колола дрова. К вечеру она устала, и мысли об Эрике уже не донимали с прежней навязчивостью.
Она еще не успела войти во двор, как распахнулась дверь дома и навстречу выбежала мать. Радостная и взволнованная, она размахивала синим конвертом.
— Письмо! Письмо! — кричала она. «От Эрика!» — вспыхнула у Мирдзы радостная мысль. — Можешь себе представить от кого? — торжествующе спросила мать. Мирдза чуть не сказала: «От Эрика», но покраснела и не могла произнести этого слова.
— Не могу, — сказала она тихо и покраснела еще гуще.
— От Карлена! Карлен написал! Карлен!
На миг радость Мирдзы погасла, но сразу же ей стало стыдно, что вести от брата она обрадовалась меньше, чем радовалась бы, если бы написал Эрик. Ведь это писал Карлен, которого мать оплакивала, как погибшего, и вдруг — он жив, здоров, на этой стороне! Она вырвала из рук матери письмо и прочла адрес отправителя: «Полевая почта №… Значит, в Красной Армии. Удрал от немцев!» Вбежав в комнату, она торопливо начала читать:
 Всю дорогу до усадьбы Миглы — два километра — Петер не проронил ни слова. Озол видел, как у Ванага высоко и неравномерно вздымалась грудь, словно он задыхался или не мог шагать тем быстрым шагом, который сам взял и все ускорял. Он захватил с собой автомат, своего верного друга в партизанских делах, и время от времени крепко прижимал его к боку.
Когда собака Миглы, прыгая на цепи, пронзительно залаяла, дверь дома распахнулась и во двор вышел сам Август Мигла. Узнав пришедших, он растерялся и невнятно забормотал, но затем что-то сообразил, поднял воротник пиджака, поддерживая его рукой у подбородка. Рыжеватая бородка вздрагивала, прыгала на пухлой, мягкой руке. Было похоже, что он торопится прожевать твердый кусок.
— Господи Иисусе, — выдавил, наконец, Август членораздельные звуки, — пути твоих сынов неисповедимы! Петер! Разве я думал, что еще увижу тебя?
— Ах, не надеялся? — горько усмехнулся Петер. — Потому, наверное, и поторопился надеть мою рубаху.
Мигла убрал с ворота пиджака свою пухлую руку, которой закрывал от глаз Ванага его праздничную рубаху. Челюсти опять застучали одна о другую, и бородка запрыгала, словно он жевал. Она перестала дрожать только после того, как Август нашелся, что сказать:
— Вот тут и не верь в чудеса, — он состроил улыбку, спрятав узкие глаза между жирными мешочками. — Рубаху эту мне твоя мать дала. Вот, говорит, Петер уже больше не вернется, возьми, Август, на память о нем. Все время в комоде лежала — разве у меня нечего надеть? Но сегодня утром не знаю, как это случилось, словно в ушах кто-то жужжал все о Петере да о Петере. Прямо гонит к комоду посмотреть на эту память. И я подумал, видишь, мол, как ты не уважаешь эту память, словно брезгаешь. Думаю, дай надену. Разве это не чудеса — это ведь к твоему приходу было!
— Нет тут никаких чудес, — прервал Петер поток его слов. — Моя смелость и вот это, — он указал на автомат, — спасли меня.
— Петер, друг, и ты, идя ко мне, берешь с собой оружие! — заговорил Август с такой нежной укоризной в голосе, словно упрекал невесту, которая ему не хотела верить.
— Ни одному кулаку я не верю, — отрезал Ванаг. — Волк в лесу, и тот менее опасен.
— Петер, Петер, за что ты меня так? — продолжал Август в прежнем тоне. — Разве я кулак? Всю свою жизнь проповедовал христианскую любовь. — Его голос задрожал на тех же регистрах, на которых обычно дребезжал в доме братской общины.
— В конце концов, я пришел к тебе не в гости, не проповеди слушать, — перебил его Ванаг, поморщившись, — я хочу зайти в каморку моей матери. Ключ у тебя?
— Сейчас, сейчас, — захлопотал Август и засеменил своими короткими ножками к дверям, но затем остановился.
— Войдите же, пожалуйста, Петер, господин товарищ Озол! Так ведь можно замерзнуть. Выпьем по стопочке. За встречу! — тараторил он.
— Пить не будем, — ответил Озол.
— Ах так. Правда, водка вредна, если злоупотреблять. Но — по капельке, изредка, этого никто не запрещает. Сам спаситель в Кане на свадьбе…
— Давай ключ! — нетерпеливо напомнил Ванаг.
— Сейчас, сейчас, — услужливо бормоча, Август вошел в комнату. Он пробыл там дольше, чем требовалось, чтобы взять ключ. Когда, наконец, Август вернулся, в дверь высунула голову его жена и, не глядя на гостей, поздоровалась. Сунув под фартук большой нож и тарелку, она проворно побежала к клети.
— Итак, пойдем, сходим в твой домик, — начал Мигла о торжественным лицом, словно готовясь к отпеванию покойника. — Одно я тебе могу, Петер, сказать — похоронили твою мамочку как следует. Я сам отпевал и дома, и на кладбище. Поминки справили как следует.
— Бедная мать, — тяжело вздохнул Петер. — Некому было уберечь ее после смерти от ханжеского лицемерия.
— Ты с нами не иди, — крикнул он Августу, только теперь сообразив, что тот собирается первым войти в комнату, в которой жила и умерла его мать.
— Ну, если не хочешь, — как бы разочарованно протянул Август. — Хотел тебе только сказать, что часть вещей мы перенесли к себе. Нынче такие времена, что через трубу воруют. Так мы оставшуюся одежду к себе взяли. И кое-какую посуду. Я пойду, покажу тебе.
— Отстань, наконец, сатана! — крикнул Ванаг, сжимая приклад автомата. — Не вещи смотреть я пришел.
— Ах так. Ну, тогда я тебе позже покажу. Все отдам, — твердил Август, пятясь назад.
Ванаг открыл дверь и с Озолом переступил порог. Они вошли в кухню, в бедную закоптелую батрацкую кухню с истоптанным глиняным полом и облупившейся кирпичной плитой, на которой все еще лежали стертая деревянная ложка и надтреснутая глиняная миска. У окна, опираясь на три ножки, стоял некрашеный деревянный стол, ветхий, но чисто вымытый; рядом с ним — такая же табуретка, в углу — несколько помятых ведер, метла, хлебная лопата. На гвозде висели домотканый фартук матери и старая рабочая блуза, которую мать, ожидая сына, аккуратно залатала.
Петер учащенно дышал. Видно было, что его душат рыдания.
— Петер, может, тебе не входить туда… в комнату? — неуверенно заговорил Озол.
Но Петер только махнул рукой. Решительным движением он распахнул дверь. Их глазам представилось зрелище, которое взволновало обоих закаленных солдат, столько раз видевших картины, описание которых могло бы показаться натуралистическим. Посреди комнаты, на добела выскобленном полу виднелась лужица запекшейся крови, которую с одного края кто-то пытался смыть, но затем, очевидно, решил, что не имеет смысла, так как в пористые и трухлявые от времени доски кровь впиталась очень глубоко. С другого края кто-то ступил ногой, а затем у шкафа вытер ее о пол, оставив бурые полосы. Это было все. Но это была кровь матери Петера; в нее ступили ногой, потом подошли к шкафу, чтобы забрать скудные пожитки, и размазали кровь по полу.
Словно сговорившись, оба они одновременно сняли шапки и долго стояли со склоненными головами. Озолу казалось, что Петер в эту минуту дает клятву во что бы то ни стало найти убийц матери и предать их заслуженной суровой каре. Дает клятву до конца своей жизни смело и неколебимо идти по советскому пути и беспощадно бороться с темными силами, которые хотят остановить колесо истории и готовы проливать кровь детей и стариков.
Он не мешал Петеру, не торопил его оставить мрачную комнату, где когда-то Ванаг в бедности, но в согласии жил с матерью, комнату, которая теперь говорила только о том, что жизнь матери трагически оборвалась.
Наконец Петер провел рукой по глазам и повернулся к Озолу. Лицо его было бледным, без единой кровинки. Сухие глаза горели, в них была ненависть, боль воспоминаний о тех днях, когда мать, еще бодрая и жизнерадостная женщина, без устали хлопотала в комнате и всегда с улыбкой встречала сына, возвращавшегося с работы на хозяйском поле.
Что тут можно было сказать, как утешить? Нет таких слов, которые могли бы вернуть умерших или в одно мгновение рассеяли бы боль, причиненную потерей. Молча Озол пожал Петеру руку и по ответному пожатию почувствовал, что Ванаг справился с собой.
Надев шапки, они вышли. Петер замкнул наружные, двери и спрятал в карман ключи. Неподалеку, переминаясь на снегу, их ждал Мигла.
— Пожалуйста, пожалуйста, заходите, — приглашал он обоих в дом, с улыбкой, казавшейся в эту минуту глупой и оскорбительной. — Я уже говорил, лучшие вещички перенес к себе. Нынче ведь такие времена…
— Так верни их, — спокойно и холодно перебил его Петер. — Не хочу, чтобы вещи моей матери попирали ногами, так же как и ее кровь.
— Ах, ты все же заметил? — удивился Август. — Я ведь не нарочно. Не доглядел. Так темно там в батр… в твоем доме.
Они вошли в дом Миглы, где в глаза бросился накрытый стол, с тарелками, бутылками водки, кувшином пива, хлебом и солеными огурцами. Из кухни пахло жареным мясом, и слышно было, как возились с кастрюлями, сковородками и мисками. Отворилась дверь, и хозяйка внесла жаркое. В три ряда были разложены свиные отбивные котлеты. За хозяйкой следовала батрачка с миской вареного картофеля и соусником с подливкой из сметаны.
— Прощу, прошу, господин товарищ Озол. Петер, садись к столу, — приглашал Август, пододвигая стулья. — Нечего стесняться, закусим, чем бог послал.
Озол утром второпях съел лишь кусок хлеба и выпил стакан молока, и при виде вкусных блюд у него разыгрался аппетит. А Петер, наверное, проглотил только кусок хлеба. Но они оба одновременно, даже не переглянувшись, отказались.
— Спасибо, мы не будем есть.
Август начал настаивать, разлил в рюмки водку, подцепил на вилку кусок мяса и повертел им, словно хотел разжечь голод, но гости остались равнодушными, твердо решив не поддаваться в этом доме ни на какие проявления любезности.
— Я жду, когда ты мне отдашь мои вещи, — напомнил Петер, обжигая лицо Августа презрительным взглядом.
— Ах, да! — смутился Август. — Эй, женщины! — крикнул он на кухню, — соберите вещички Ванадзиен… матери Ванага. Петеру некогда.
Важная и обиженная, вошла жена Миглы и стала рыться за печкой. Она вытаскивала поношенную, помятую одежду и складывала ее перед Петером. Затем подошла к шкафу и достала несколько суровых полотняных простыней. Шагнула было к двери в смежную комнату, но потом передумала и сказала:
— Вот это все. Больше у нас ничего нет.
— Как все? — спросил Петер. — А где отрез ткани, что я матери подарил? Где моя праздничная пара? Где одеяла?
— Посуду разыщи, — приглушенным голосом напомнил Мигла жене.
— Что же ты думаешь, — жена сердито сверкнула глазами на Петера, — грабители зря, что ли, убивали? Что было лучшего, то унесли. Ну и возни же с такими старухами.
— Ида, принеси посуду матери Ванага, — крикнул Август батрачке, открыв дверь на кухню.
— Но, хозяин, в ее котле как раз варится болтушка для поросят, — послышался ответ Иды.
— В котле — еда для поросят, из миски, наверное, как раз ест собака, из тарелки — кошка. — Ванаг с усмешкой и словно топором рубил каждое слово. — Я вижу, Мигла, что тебе эти вещички очень нужны. Из христианского человеколюбия мне придется отказаться от материнского наследства, чтобы не обидеть твою скотинку.
— Сейчас, сейчас вычистим, — пытался Август задобрить его. — Что же в этом такого, разве для поросенка варят худшую еду, чем для человека? Ида, живей, живей!
— Хозяин, котел пригорел, пока мы обед готовили, — оправдывалась Ида.
— Ну и пусть остается, пока поросята подрастут, — иронически, но без улыбки ответил Ванаг.
Тем временем хозяйка собрала кое-какую посуду и внесла ее в комнату. Одна миска еще была измазана чем-то мучным, видимо, из нее кормили собаку.
Не сказав ни слова, Ванаг взял миску из рук Миглиене и, размахнувшись, швырнул на пол. Так же спокойно он расколотил у ног хозяйки остальную посуду.
— Так, — сказал он, — теперь вы больше не будете осквернять память моей матери. — А теперь, гадина, — внезапно крикнул он Августу, — снимай мою рубашку! Я тебе никакой памяти не оставлю.
Послушно, как мальчик, Август снял пиджак, стянул с плеч подтяжки, скинул рубаху и остался во всем великолепии своего полуголого тучного тела.
— Папочка, папочка, ты простынешь, — всполошилась Миглиене, — надень бумазейную рубаху.
Она начала рыться в шкафу, открыв только небольшую щель. Кусок белого полотна скатился на пол, она проворно, как паук, схватила его и впихнула обратно.
Ванаг встряхнул возвращенную рубашку. Хотя Август, подстрекаемый неведомым небесным духом, только сегодня утром ее надел, воротничок и манжеты были так заношены, словно две недели терлись о грязное тело.
— Уйдем скорее отсюда, — торопил Ванаг, охваченный непреодолимым отвращением. Быстро завернув одежду в узелок, он вместе с Озолом пошел к дверям.
— Петер! — воскликнул Мигла в отчаянии. — Ты меня отвергаешь, как евангельский Петр отверг Иисуса! — Полуголый, он выбежал за ними в сени и схватил их за руки. — Петер! Господин товарищ Озол! Пожалуйста, не побрезгайте! Здесь хозяйка приготовила для вас сверточек.
Он схватил со столика два довольно тяжелых и объемистых свертка и пытался сунуть каждому.
— Если господь меня благословил, то надо давать и другим. Такова мораль братской общины, — бормотал он.
— Папочка, папочка, ты простынешь, — кричала в отчаянии жена из комнаты. — Надень бумазейную рубаху!
Озол и Ванаг уже были за дверями.
— Не взяли… — беспомощно шептал Август. — Ты видела? Не взяли! Господи Иисусе, вот так человек… — покачал он головой, войдя в комнату. — Не люди, а кремни. Мать, я тебе говорю, господь хочет испытать нас.
Его глаза заволокла пелена страха, но затем они загорелись злобным блеском, и Мигла посмотрел в сторону леса.
— И эта разиня не могла нас во время предупредить из местечка! — сердилась жена, отбрасывая ногой осколки разбитой посуды. — Смотри, какой шум подняли в доме… Ида, прибери!
Кто-то постучал в дверь. Мигла поспешил засунуть рубаху в брюки. То был Рудис Лайвинь, который, отворив дверь, крикнул:
— Хозяин, вам телеграмма!
— Да, телеграмма, телеграмма! — передразнила Миглиене. — Мы уже знаем без твоей телеграммы.
Всю дорогу до усадьбы Миглы — два километра — Петер не проронил ни слова. Озол видел, как у Ванага высоко и неравномерно вздымалась грудь, словно он задыхался или не мог шагать тем быстрым шагом, который сам взял и все ускорял. Он захватил с собой автомат, своего верного друга в партизанских делах, и время от времени крепко прижимал его к боку.
Когда собака Миглы, прыгая на цепи, пронзительно залаяла, дверь дома распахнулась и во двор вышел сам Август Мигла. Узнав пришедших, он растерялся и невнятно забормотал, но затем что-то сообразил, поднял воротник пиджака, поддерживая его рукой у подбородка. Рыжеватая бородка вздрагивала, прыгала на пухлой, мягкой руке. Было похоже, что он торопится прожевать твердый кусок.
— Господи Иисусе, — выдавил, наконец, Август членораздельные звуки, — пути твоих сынов неисповедимы! Петер! Разве я думал, что еще увижу тебя?
— Ах, не надеялся? — горько усмехнулся Петер. — Потому, наверное, и поторопился надеть мою рубаху.
Мигла убрал с ворота пиджака свою пухлую руку, которой закрывал от глаз Ванага его праздничную рубаху. Челюсти опять застучали одна о другую, и бородка запрыгала, словно он жевал. Она перестала дрожать только после того, как Август нашелся, что сказать:
— Вот тут и не верь в чудеса, — он состроил улыбку, спрятав узкие глаза между жирными мешочками. — Рубаху эту мне твоя мать дала. Вот, говорит, Петер уже больше не вернется, возьми, Август, на память о нем. Все время в комоде лежала — разве у меня нечего надеть? Но сегодня утром не знаю, как это случилось, словно в ушах кто-то жужжал все о Петере да о Петере. Прямо гонит к комоду посмотреть на эту память. И я подумал, видишь, мол, как ты не уважаешь эту память, словно брезгаешь. Думаю, дай надену. Разве это не чудеса — это ведь к твоему приходу было!
— Нет тут никаких чудес, — прервал Петер поток его слов. — Моя смелость и вот это, — он указал на автомат, — спасли меня.
— Петер, друг, и ты, идя ко мне, берешь с собой оружие! — заговорил Август с такой нежной укоризной в голосе, словно упрекал невесту, которая ему не хотела верить.
— Ни одному кулаку я не верю, — отрезал Ванаг. — Волк в лесу, и тот менее опасен.
— Петер, Петер, за что ты меня так? — продолжал Август в прежнем тоне. — Разве я кулак? Всю свою жизнь проповедовал христианскую любовь. — Его голос задрожал на тех же регистрах, на которых обычно дребезжал в доме братской общины.
— В конце концов, я пришел к тебе не в гости, не проповеди слушать, — перебил его Ванаг, поморщившись, — я хочу зайти в каморку моей матери. Ключ у тебя?
— Сейчас, сейчас, — захлопотал Август и засеменил своими короткими ножками к дверям, но затем остановился.
— Войдите же, пожалуйста, Петер, господин товарищ Озол! Так ведь можно замерзнуть. Выпьем по стопочке. За встречу! — тараторил он.
— Пить не будем, — ответил Озол.
— Ах так. Правда, водка вредна, если злоупотреблять. Но — по капельке, изредка, этого никто не запрещает. Сам спаситель в Кане на свадьбе…
— Давай ключ! — нетерпеливо напомнил Ванаг.
— Сейчас, сейчас, — услужливо бормоча, Август вошел в комнату. Он пробыл там дольше, чем требовалось, чтобы взять ключ. Когда, наконец, Август вернулся, в дверь высунула голову его жена и, не глядя на гостей, поздоровалась. Сунув под фартук большой нож и тарелку, она проворно побежала к клети.
— Итак, пойдем, сходим в твой домик, — начал Мигла о торжественным лицом, словно готовясь к отпеванию покойника. — Одно я тебе могу, Петер, сказать — похоронили твою мамочку как следует. Я сам отпевал и дома, и на кладбище. Поминки справили как следует.
— Бедная мать, — тяжело вздохнул Петер. — Некому было уберечь ее после смерти от ханжеского лицемерия.
— Ты с нами не иди, — крикнул он Августу, только теперь сообразив, что тот собирается первым войти в комнату, в которой жила и умерла его мать.
— Ну, если не хочешь, — как бы разочарованно протянул Август. — Хотел тебе только сказать, что часть вещей мы перенесли к себе. Нынче такие времена, что через трубу воруют. Так мы оставшуюся одежду к себе взяли. И кое-какую посуду. Я пойду, покажу тебе.
— Отстань, наконец, сатана! — крикнул Ванаг, сжимая приклад автомата. — Не вещи смотреть я пришел.
— Ах так. Ну, тогда я тебе позже покажу. Все отдам, — твердил Август, пятясь назад.
Ванаг открыл дверь и с Озолом переступил порог. Они вошли в кухню, в бедную закоптелую батрацкую кухню с истоптанным глиняным полом и облупившейся кирпичной плитой, на которой все еще лежали стертая деревянная ложка и надтреснутая глиняная миска. У окна, опираясь на три ножки, стоял некрашеный деревянный стол, ветхий, но чисто вымытый; рядом с ним — такая же табуретка, в углу — несколько помятых ведер, метла, хлебная лопата. На гвозде висели домотканый фартук матери и старая рабочая блуза, которую мать, ожидая сына, аккуратно залатала.
Петер учащенно дышал. Видно было, что его душат рыдания.
— Петер, может, тебе не входить туда… в комнату? — неуверенно заговорил Озол.
Но Петер только махнул рукой. Решительным движением он распахнул дверь. Их глазам представилось зрелище, которое взволновало обоих закаленных солдат, столько раз видевших картины, описание которых могло бы показаться натуралистическим. Посреди комнаты, на добела выскобленном полу виднелась лужица запекшейся крови, которую с одного края кто-то пытался смыть, но затем, очевидно, решил, что не имеет смысла, так как в пористые и трухлявые от времени доски кровь впиталась очень глубоко. С другого края кто-то ступил ногой, а затем у шкафа вытер ее о пол, оставив бурые полосы. Это было все. Но это была кровь матери Петера; в нее ступили ногой, потом подошли к шкафу, чтобы забрать скудные пожитки, и размазали кровь по полу.
Словно сговорившись, оба они одновременно сняли шапки и долго стояли со склоненными головами. Озолу казалось, что Петер в эту минуту дает клятву во что бы то ни стало найти убийц матери и предать их заслуженной суровой каре. Дает клятву до конца своей жизни смело и неколебимо идти по советскому пути и беспощадно бороться с темными силами, которые хотят остановить колесо истории и готовы проливать кровь детей и стариков.
Он не мешал Петеру, не торопил его оставить мрачную комнату, где когда-то Ванаг в бедности, но в согласии жил с матерью, комнату, которая теперь говорила только о том, что жизнь матери трагически оборвалась.
Наконец Петер провел рукой по глазам и повернулся к Озолу. Лицо его было бледным, без единой кровинки. Сухие глаза горели, в них была ненависть, боль воспоминаний о тех днях, когда мать, еще бодрая и жизнерадостная женщина, без устали хлопотала в комнате и всегда с улыбкой встречала сына, возвращавшегося с работы на хозяйском поле.
Что тут можно было сказать, как утешить? Нет таких слов, которые могли бы вернуть умерших или в одно мгновение рассеяли бы боль, причиненную потерей. Молча Озол пожал Петеру руку и по ответному пожатию почувствовал, что Ванаг справился с собой.
Надев шапки, они вышли. Петер замкнул наружные, двери и спрятал в карман ключи. Неподалеку, переминаясь на снегу, их ждал Мигла.
— Пожалуйста, пожалуйста, заходите, — приглашал он обоих в дом, с улыбкой, казавшейся в эту минуту глупой и оскорбительной. — Я уже говорил, лучшие вещички перенес к себе. Нынче ведь такие времена…
— Так верни их, — спокойно и холодно перебил его Петер. — Не хочу, чтобы вещи моей матери попирали ногами, так же как и ее кровь.
— Ах, ты все же заметил? — удивился Август. — Я ведь не нарочно. Не доглядел. Так темно там в батр… в твоем доме.
Они вошли в дом Миглы, где в глаза бросился накрытый стол, с тарелками, бутылками водки, кувшином пива, хлебом и солеными огурцами. Из кухни пахло жареным мясом, и слышно было, как возились с кастрюлями, сковородками и мисками. Отворилась дверь, и хозяйка внесла жаркое. В три ряда были разложены свиные отбивные котлеты. За хозяйкой следовала батрачка с миской вареного картофеля и соусником с подливкой из сметаны.
— Прощу, прошу, господин товарищ Озол. Петер, садись к столу, — приглашал Август, пододвигая стулья. — Нечего стесняться, закусим, чем бог послал.
Озол утром второпях съел лишь кусок хлеба и выпил стакан молока, и при виде вкусных блюд у него разыгрался аппетит. А Петер, наверное, проглотил только кусок хлеба. Но они оба одновременно, даже не переглянувшись, отказались.
— Спасибо, мы не будем есть.
Август начал настаивать, разлил в рюмки водку, подцепил на вилку кусок мяса и повертел им, словно хотел разжечь голод, но гости остались равнодушными, твердо решив не поддаваться в этом доме ни на какие проявления любезности.
— Я жду, когда ты мне отдашь мои вещи, — напомнил Петер, обжигая лицо Августа презрительным взглядом.
— Ах, да! — смутился Август. — Эй, женщины! — крикнул он на кухню, — соберите вещички Ванадзиен… матери Ванага. Петеру некогда.
Важная и обиженная, вошла жена Миглы и стала рыться за печкой. Она вытаскивала поношенную, помятую одежду и складывала ее перед Петером. Затем подошла к шкафу и достала несколько суровых полотняных простыней. Шагнула было к двери в смежную комнату, но потом передумала и сказала:
— Вот это все. Больше у нас ничего нет.
— Как все? — спросил Петер. — А где отрез ткани, что я матери подарил? Где моя праздничная пара? Где одеяла?
— Посуду разыщи, — приглушенным голосом напомнил Мигла жене.
— Что же ты думаешь, — жена сердито сверкнула глазами на Петера, — грабители зря, что ли, убивали? Что было лучшего, то унесли. Ну и возни же с такими старухами.
— Ида, принеси посуду матери Ванага, — крикнул Август батрачке, открыв дверь на кухню.
— Но, хозяин, в ее котле как раз варится болтушка для поросят, — послышался ответ Иды.
— В котле — еда для поросят, из миски, наверное, как раз ест собака, из тарелки — кошка. — Ванаг с усмешкой и словно топором рубил каждое слово. — Я вижу, Мигла, что тебе эти вещички очень нужны. Из христианского человеколюбия мне придется отказаться от материнского наследства, чтобы не обидеть твою скотинку.
— Сейчас, сейчас вычистим, — пытался Август задобрить его. — Что же в этом такого, разве для поросенка варят худшую еду, чем для человека? Ида, живей, живей!
— Хозяин, котел пригорел, пока мы обед готовили, — оправдывалась Ида.
— Ну и пусть остается, пока поросята подрастут, — иронически, но без улыбки ответил Ванаг.
Тем временем хозяйка собрала кое-какую посуду и внесла ее в комнату. Одна миска еще была измазана чем-то мучным, видимо, из нее кормили собаку.
Не сказав ни слова, Ванаг взял миску из рук Миглиене и, размахнувшись, швырнул на пол. Так же спокойно он расколотил у ног хозяйки остальную посуду.
— Так, — сказал он, — теперь вы больше не будете осквернять память моей матери. — А теперь, гадина, — внезапно крикнул он Августу, — снимай мою рубашку! Я тебе никакой памяти не оставлю.
Послушно, как мальчик, Август снял пиджак, стянул с плеч подтяжки, скинул рубаху и остался во всем великолепии своего полуголого тучного тела.
— Папочка, папочка, ты простынешь, — всполошилась Миглиене, — надень бумазейную рубаху.
Она начала рыться в шкафу, открыв только небольшую щель. Кусок белого полотна скатился на пол, она проворно, как паук, схватила его и впихнула обратно.
Ванаг встряхнул возвращенную рубашку. Хотя Август, подстрекаемый неведомым небесным духом, только сегодня утром ее надел, воротничок и манжеты были так заношены, словно две недели терлись о грязное тело.
— Уйдем скорее отсюда, — торопил Ванаг, охваченный непреодолимым отвращением. Быстро завернув одежду в узелок, он вместе с Озолом пошел к дверям.
— Петер! — воскликнул Мигла в отчаянии. — Ты меня отвергаешь, как евангельский Петр отверг Иисуса! — Полуголый, он выбежал за ними в сени и схватил их за руки. — Петер! Господин товарищ Озол! Пожалуйста, не побрезгайте! Здесь хозяйка приготовила для вас сверточек.
Он схватил со столика два довольно тяжелых и объемистых свертка и пытался сунуть каждому.
— Если господь меня благословил, то надо давать и другим. Такова мораль братской общины, — бормотал он.
— Папочка, папочка, ты простынешь, — кричала в отчаянии жена из комнаты. — Надень бумазейную рубаху!
Озол и Ванаг уже были за дверями.
— Не взяли… — беспомощно шептал Август. — Ты видела? Не взяли! Господи Иисусе, вот так человек… — покачал он головой, войдя в комнату. — Не люди, а кремни. Мать, я тебе говорю, господь хочет испытать нас.
Его глаза заволокла пелена страха, но затем они загорелись злобным блеском, и Мигла посмотрел в сторону леса.
— И эта разиня не могла нас во время предупредить из местечка! — сердилась жена, отбрасывая ногой осколки разбитой посуды. — Смотри, какой шум подняли в доме… Ида, прибери!
Кто-то постучал в дверь. Мигла поспешил засунуть рубаху в брюки. То был Рудис Лайвинь, который, отворив дверь, крикнул:
— Хозяин, вам телеграмма!
— Да, телеграмма, телеграмма! — передразнила Миглиене. — Мы уже знаем без твоей телеграммы.
 Разговаривая, они направились в исполком и вошли вместе с другими в большую до сих пор пустовавшую комнату. Сегодня она была натоплена и разукрашена по-праздничному. На столе, покрытом красной материей, были расставлены кувшины с зелеными еловыми ветками. Люди толпились в дверях, тихо перешептываясь, но никто не осмеливался войти первым, словно не решаясь нарушить строгую торжественность, царившую в помещении.
Но вот открылась дверь канцелярии, и из нее вышли представитель уезда Вилис Бауска, которого здесь видели впервые, председатель волостного исполкома Ванаг и секретарь Зента Плауде.
— Смелее, смелее, — подбадривал Бауска, — заходите и занимайте места! Вы ведь новые хозяева волости, — добавил он, улыбаясь, когда люди расступились, чтобы дать им дорогу. — Сегодня ваш день. Мы здесь только так, между прочим.
Когда новые хозяева уселись на расставленные в ряды стулья и земельная комиссия заняла места за столом, Ванаг взял слово, чтобы разъяснить собравшимся, почему в волости произошла задержка с вручением актов на пользование землей.
— Кулаку удалось втереться в среду наших работников, он начал было делить землю по-своему. Пока мы исправили сотворенные им подлости, пока измерили землю, чтобы каждый знал свои межи, почти подоспела весна. Мы сделали все, чтобы, как только высохнет земля, вы могли проложить первые борозды на своих полях. Слово имеет заместитель председателя уездного исполнительного комитета товарищ Бауска, — закончил он отрывисто.
Бауска встал и долго смотрел в лица сидевших перед ним людей, Он видел их впервые, но они казались ему старыми знакомыми, с которыми вместе вырос и изо дня в день вместе работал. Он и на самом деле рос среди таких же батраков и батрачек, среди парней и девушек, которые так же, как и он, с восьми лет оставляли родительские гнезда и уходили к чужим, богатым хозяевам зарабатывать скудный ломоть хлеба. Вилису казалось, что тут же, в этой комнате, среди других виднеется заросшее жесткой бородой и все же такое доброе лицо отца, он как бы кивает ему и говорит: «Помнишь, сынок, как я прежде каждый вечер, словно отче наш, твердил: «Ах, Вилис, если бы нам дали кусочек топкого болота да еще полоску целины в Сухом бору, тогда можно было бы сказать, что на свете есть три счастливых человека». Да, отец и мать умерли, так и не получив ни топкого болота, ни песчаной целины. А здесь — другие такие же отцы и матери, которые всю жизнь могли только посматривать на лежавшую вокруг невозделанную землю; но они не смели о ней даже мечтать.
Он говорил с этими людьми, как со старыми знакомыми, проверяя, доходят ли его слова до сердец слушателей. Торжественным спокойствием веяло от обветренных лиц, в которых чувствовалась твердая решимость своим трудом воздвигнуть памятник тем, кто отдал жизнь за Советскую родину.
Зента назвала имя крестьянина, которому первому предстояло получить акт. То был Екаб Лауск, сидевший рядом с Бауской. Хотя он сам принимал участие в распределении земли и уже привык к мысли, что надел, отнятый в первое военное лето шуцманом Стендером, снова возвращается ему, у него, вчерашнего батрака, задрожала рука, протянутая за актом.
Затем вызвали Марию Перкон. Как она ни старалась сдержать себя перед людьми, все же, когда Бауска вложил ей в левую руку акт, а правую пожал и тряхнул, из глаз многострадальной женщины брызнули слезы. Мария пыталась что-то сказать, раскрыла рот, но слезы сдавили горло, она только покачала головой и хотела вернуться на свое место, но Бауска обнял ее за плечи, привлек к себе и, ободряюще заглянув в глаза, сказал:
— Не плачь, мать, Красная Армия отомстит и за твои страдания!
«Даже спасибо не сказала, — подумала Мария, усаживаясь на стул, — думы о Симане все перешибли — забыла».
— Эльмар Эзер, — вызвала Зента, и к столу подошел молодой парень, лет шестнадцати, не больше.
«Ишь, какой смельчак, — думал Бауска, всматриваясь в сухощавое, энергичное лицо не по летам вытянувшегося паренька, — такой молодой, а не робеет перед самостоятельной жизнью».
А Зента решила, что сразу же после собрания с этим парнем надо побеседовать и дать ему устав комсомола.
После вручения актов начали выступать сами новохозяева. Они не искали красивых слов, некоторые даже не могли связно высказать свои мысли. Но все они испытывали одно и то же, хотя не умели это выразить словами.
Когда люди разошлись, Бауска поднялся в комнатку Ванага отдохнуть. В дороге он, должно быть, немного простудился. Растянувшись на кровати Петера, Бауска попытался на минутку заснуть, но им овладели мысли об Эльзе. Перед его отъездом она сказала ему, что через некоторое время в их жизнь войдет третий — крохотное шумное существо, которое принесет в дом много радости. Помнила бы только Эльза, что ей нельзя бегать в легком осеннем пальтишке. Как только вернется, надо будет наконец оформить брак с Эльзой, чтобы его сыну или дочери не надо было начинать жизнь под чужим именем. Валдис Бауска — так они решили назвать маленького человечка, если он будет мальчиком, — в честь фронтового товарища Валдиса Упмалиса, а если появится девочка, тогда она будет Валдой. Так они условились, и им было очень приятно, что они уже теперь могли называть по имени своего будущего ребенка.
За дверью на лестнице послышались торопливые шаги, и после сильного стука в комнату ворвалась Мирдза, а сразу же за нею — Зента и Ванаг.
— Я все же первая! — торжествовала Мирдза, здороваясь с Вилисом.
— Это потому, что я впервые в жизни был кавалером и пропустил женщину вперед, — смеялся Ванаг.
Все они были так молоды и веселы, что Вилис мгновенно забыл усталость, забыл раненую руку, которая сегодня снова стала болеть.
— Как олени! — радовался он, ласково поглядывая то на одного, то на другого. — Если ваша волость не выйдет в передовые, то пусть старость на вас навалится!
— Выйдет, товарищ заместитель председателя, — обещал Ванаг, став навытяжку.
— Зента, сколько у тебя комсомольцев? — спросил Бауска.
— Восемь, — ответила та.
— Включая старца Петера, — добавил Ванаг, склонив голову, чтобы показать седые нити в темных волосах.
— До моего следующего приезда тебе, Зента, не мешало бы привлечь еще восемь таких же молодых летами старцев. Главное, смотри, чтобы у всех были такие же молодые сердца, как у Петера, а на седые волосы можешь не обращать внимания, — шутил Бауска.
— Есть привлечь! — ответила Зента, подражая Ванагу и тоже став навытяжку.
— Этой весной вам придется потрудиться как следует, — Бауска посерьезнел. — Людей мало, но надо засеять всю годную землю. Как обстоит дело с ремонтом машин? Кузнецы и мастерские есть?
— Работы непочатый край, — согласился Ванаг. — Когда начинаешь думать, волосы дыбом становятся.
— Ну, пугаться не следует, — улыбнулся Бауска. — Главное, работать без суетни.
— Нам нужно строить маслодельный завод, — вставил Ванаг.
— И народный дом, — добавила Мирдза. — Мы думаем на следующей неделе устроить субботник по подвозке камня.
— Вот это уже нечто реальное, — оживился Бауска. — Ты, Петер, смотри, как бы тебя девушки не опередили, — подзадорил он Ванага.
— Что ж, сделают свою работу, придут мне на помощь, — улыбнулся Петер.
— Ишь, хитрый какой! — пошутила Зента. — Думаешь увильнуть от нашего субботника? И ты будешь таскать камни для народного дома.
— При таком грозном начальстве — придется, — вздохнул Петер, улыбаясь. — У нас с ней такие странные отношения: с одной стороны, Зента мое начальство, с другой, — я ее прямой начальник. Как же разобраться, кому кого слушать?
— Надо слушать того, кто предлагает что-нибудь деловое, — решил Бауска.
Он посмотрел на часы и встал.
— Дорогие детки, с вами очень хорошо, приятно быть среди молодежи, но время неумолимо. Пора на собрание. Прямо жаль с вами расставаться. Надо будет попроситься в вашу волость на какое-нибудь местечко. Скажем, к тебе в помощники. Да, кто твой заместитель?
— Лауск, — ответил Петер.
— Тот, что сидел рядом со мной? Кажется, хороший человек. И этого паренька — как его звать? — которому вручали акт, тоже не следует упускать из виду. Я смотрю — люди у вас здесь хорошие. Надо их только привлечь, активизировать. Мне приходилось бывать и в таких волостях, где иногда отталкивают полезных людей. Обругают честных середняков кулаками. И как раз наиболее трудолюбивых.
Петер густо покраснел. Мирдза переглянулась с Зентой, но так как Ванаг об этой ошибке промолчал, то и они ничего не сказали, не желая омрачать минуту отъезда Бауски.
Вилис снял с крючка свою шинель и стал медленно одеваться, левая, неподвижная рука болела, ему трудно было засунуть ее в рукав. Наконец Ванаг спохватился и помог ему. Потом он сам надел пальто и повесил на шею автомат.
— Поедем все вместе, — сказал он. — А то, что скажет уезд, если наши бандиты ухлопают их работника?
— Вот уж действительно зараза, — сердился Бауска. — Завелись, как клопы… Надо будет сделать основательную чистку. Прямо беда — здесь такие большие леса, ты ведь знаешь, как трудно в чаще поймать человека. Вот проклятые шершни! Все так опустошено, надо изо всех сил налечь на работу, а они забрались в щели, да еще мешают другим работать.
— Мы их выкурим, — сказал Ванаг с решимостью. — Только бы проследить, где у них гнездо.
— Несомненно выкурим, — сказал Бауска. — И именно потому, что народ на нашей стороне. Эти убийцы и грабители для людей прямо проклятье. Ну, пора ехать, чтобы не опоздать.
Общее собрание созвали в имении, здесь были самые просторные помещения. Свою речь перед крестьянами Бауска начал с того же, о чем уже говорил при вручении земельных актов, потом он перешел к задачам, которые нужно выполнить, чтобы скорее залечить раны, нанесенные Советской Латвии.
Вилис чувствовал, что его одолевает усталость, мешающая сконцентрировать мысли, чтобы выразить их с бесспорной убедительностью. Он напряг все силы, чтобы справиться с болью, которая время от времени схватывала раненую руку.
«Нашла время, когда болеть», — с досадой подумал он и тут же продолжал, чтобы не потерять нить мысли.
— Товарищи! — сказал он в заключение крестьянам. — Вы знаете поговорку: «Вера горами движет». Раньше вы этого в жизни нигде не видели. Но есть страна, где люди так верят в свои силы, так верят организатору своих сил — большевистской партии, что не только горы передвинули, а соединили моря, заставили реки течь не там, где они проложили себе русло, но там, где это нужно человеку. С такой верой мы выйдем на наши опустошенные поля, и вы увидите, какие тяжелые колосья уже этой осенью будут вам кланяться, чествуя тружеников и их любовь к своей земле.
Заключительные слова всколыхнули слушателей. Встал какой-то старик и начал говорить о мельнице. Такая хорошая мельница не работает. Молоть негде. Вор унес ремень. Но разве нельзя попытаться сделать, как когда-то делали, — соткать привод самим из пеньковых ниток. Так долго, как покупной, не выдержит, но некоторое время все же послужит.
Другой напомнил о восстановлении маслодельного завода. У крестьян почти не осталось сепараторов. Немцы заставили свезти головки сепараторов на маслодельный завод, чтобы крестьяне не могли дома масло сбивать, там они и сгорели. У некоторых маслобойки были спрятаны в мочилах для льна, но, когда людей угнали, этим добром поживились воры. Теперь к тем, у кого уцелел сепаратор, едут из пяти и шести дворов молоко перегонять. А один человек (он не назвал Думиня по имени) даже деньги берет за пользование сепаратором. Правительство и не знает, какое масло сдают иные хозяева. Агент по заготовкам — тот все принимает. Люди, которым совесть не позволяет подсовывать городскому рабочему вместо масла вареную брюкву и творог, только удивляются, как мошенники на базаре деньги загребают.
Третий жаловался, что нигде нельзя купить календарь.
Выступил и Салениек. Ему, как учителю, больно, что новое поколение не получает советских книг.
Отвечая, Бауска рассказал о трудностях восстановления, когда война еще продолжается: ведь заводы работают для военных нужд, железные дороги, автотранспорт заняты перевозкой военных материалов.
Собрание уже шло к концу, когда еще какой-то человек попросил слова. То был старый Пакалн, который задал вопрос — кто является кулаком?
— Как же это так? — допытывался Пакалн. — Если у меня всего двадцать восемь гектаров, а пашни всего-то гектаров десять, батраков не было и теперь нет, а кое-какими машинами я обзавелся, являюсь ли я кулаком?
— Нет, товарищ Пакалн, если вы только своим трудом, не используя чужую рабочую силу, добились известного достатка, то кулаком вас нельзя назвать и никто не назовет.
— Да уже назвали! — обиженно отозвался Пакалн и сел.
— А если назвали, то это большая ошибка, — пояснил Бауска, вопросительно посмотрев на Ванага, который сидел, опустив голову. — Я уже не раз предупреждал своих работников, чтобы не смешивали середняков с кулаками.
Зента наклонилась к Петеру и шепнула:
— Тебе надо извиниться!
Петер упрямо молчал. Но когда на него посмотрел Бауска, очевидно угадавший виновника конфликта, Петер почувствовал, что этот глубокий, пристальный взгляд требует от него объяснения. Да, надо сказать несколько слов, признать свою ошибку, иначе в глазах Бауски появится осуждение.
— Я погорячился, — признался он, не поднимая головы, — это было неправильно.
Зента видела, как трудно было Петеру произнести эти слова, но обрадовалась, что он их все-таки сказал. Бедный парень, ему пришлось перебороть себя. Можно себе представить, какой перелом произошел в нем в эти немногие минуты, ведь до сих пор она никак не могла уговорить его пойти к Пакалну и побеседовать с ним наедине, извиниться. А теперь он сделал это перед всей волостью. Зента незаметно пожала Петеру руку.
— Товарищ Ванаг допустил большую ошибку, — сказал Бауска, — но приятно то, что он ее признал. Он молодой работник, сами знаете, сколько перестрадал за свою короткую жизнь, но это, конечно, не дает ему права быть несдержанным. Будем надеяться, и я даже глубоко верю, что в будущем он сумеет крепко держать себя в руках. В этом ему поможет комсомольская организация и также каждый из вас, вся общественность — ваша строгая, но дружеская критика.
Когда собрание кончилось, Бауске громко и долго аплодировали. Старики наклонялись друг к другу и шептали:
— Вот если бы все работники были такими толковыми, как этот, тогда уж… тогда, да… Если бы такие почаще приезжали! Сразу стало яснее…
Бауска зашел к Яну Приеде. Он решил переночевать у него, а рано утром отправиться в город, завернув по дороге на МТС и в соседние волости. Комната у Яна была тепло натоплена, и Вилис с удовольствием прилег на диван. Эмма Сиетниек подала на стол ужин, а Ян с Иваном после собрания опять ушли к своим лошадям.
Бауске вдруг пришло в голову — хорошо бы еще побеседовать с Ванагом, а то не показалось бы председателю, что он, Вилис, остался о нем плохого мнения. Он попросил Эмму пойти посмотреть, в имении ли еще Ванаг, и если не уехал — пусть зайдет. Пока Бауска ждал, кто-то постучал — это был старый Пакалн.
— Вы уж не сердитесь на меня, что не даю вам покоя, — начал он, — но кто знает, когда опять приедете. Видите, как-то некрасиво сегодня получилось. Не думайте, что я на Петера Ванага жаловаться хотел или что-нибудь в этом роде. Когда вы упомянули, сколько он перестрадал, меня точно обухом по голове ударило. Мне подумалось: и впрямь ведь так, а я, старый хрыч, еще ссоры ищу с ним.
— Ничего, ничего, отец, — успокаивал его Бауска. — Всегда лучше напрямик высказаться, чем кулаки сжимать в карманах.
— Знаете, как это у нас тогда получилось, — рассказывал Пакалн. — Он такой горячий, а мне словно кто-то все время нашептывал: «Молод еще на старика нападать! Заработай такие кривые пальцы, — он разжал свои ладони, но пальцев выпрямить не мог, — тогда ругай меня!» Я ведь не так хорошо понимаю эти новые порядки, как вы, молодые, но своим старым умом соображаю, что тот, кто работу делает, нынешней власти вреда не причиняет. А у нас есть такие — языком горы готовы сдвинуть, а на работе ни с места.
— Они нам больше всех вредят, — прервал его Бауска.
— Да, хорошего от них не жди, — продолжал Пакалн. — Но раз я свою работу выполняю, почему же меня тогда равняют с этими, ну, кулаками. Вы тоже сказали, что кулаки те, у кого машины. Кое-какие машины, правда, у меня имеются.
— Я, кажется, неточно выразился, — признался Бауска, — вы не поняли меня. Машины могут быть разные. Например, такие, которые используют только в своем хозяйстве или же одалживают соседу, чтобы помочь, но есть такие, как молотилки, тракторы, грузовые автомашины, лесопильные станки, которые приносят доход.
— Ну вот, теперь и мне ясно, — обрадовался Пакалн. — А то я думал…
— Что я вас назвал кулаком? — засмеялся Бауска.
Вошел Петер и вместе с ним Зента и Мирдза.
— Петер, сынок, — Пакалн пошел ему навстречу, протянув руки, — на пожми и не сердись, что так получилось. Эх, зачем мне надо было перед людьми! Можно было наедине. Ну, теперь я побегу домой. Юрит будет шуметь, что плохо слежу за ним. Так бывайте все здоровы! Заезжайте еще как-нибудь, товарищ Бауска. Мы ведь ничего не знаем, ни о войне, ни что было, ни что будет. Когда газеты читаем — это одно, а на словах яснее получается.
— Видишь, Петер, как получилось, — заметил Бауска после ухода Пакална, — Какой ты из этого сделаешь вывод? Учиться надо!
— Да, надо учиться! — подтвердил Ванаг с решимостью.
— Мы, кажется, совсем замучили товарища Бауску, — вмешалась Зента. — Надо дать человеку отдохнуть.
— Завтра тебя проводит Канеп, — сказал Ванаг. — Он эту ночь переспит здесь же.
— К чему это, — махнул Бауска рукой. — Что вы это — словно невесть какую важную личность оберегаете.
— Любимого человека оберегаем, — улыбнулась Мирдза. — Мы тебя очень, очень будем ждать.
Вилис Бауска проснулся рано утром. За дверью слышалась тихая возня. Кто-то собирался войти, но, не решившись, отпустил дверную ручку. Бауска крикнул, и вошел Ян Приеде.
— Возчик приехал, — сообщил он. — Я говорю, еще темно, куда торопиться, а он отвечает, что велено в пять часов.
— Правильно, хорошо, что он такой аккуратный, — ответил Бауска и вскочил с кровати. — У меня сегодня еще много работы, некогда долго спать.
— Эмма, ты скорей приготовь завтрак, — крикнул Ян в кухню.
— Не надо, зачем беспокоить человека, — запротестовал Вилис, одеваясь.
— Как это не надо, — настаивал Ян. — Лошадь тоже не гоняют некормленую, тем более человека!
В шесть часов Бауска с Канепом уселись в просторные сани. До восхода солнца оставалось еще больше часа, но именно по морозцу была самая езда, так как мартовские ветры и солнце уже растопили на южных склонах снег.
Ехали молча. Бауска думал о вчерашних собраниях. Вспоминал и другие волости, где председатели жаловались, что не могут работать, просили у уезда работников. Наверное, не замечали, что у них на месте есть такие же Лауски, Пакалны и многие другие, как здесь. Люди есть, только надо уметь отыскать их, по-дружески взять за руки, и они пойдут с тобой.
На востоке обозначился едва заметный светлеющий полукруг. К нему, легко покачиваясь на ветру, тянулись черные шпили сосен. Начинался Большой бор. Вилис вспомнил, как он шел через него вместе с Эльзой прошлой осенью. Как пустынно тогда было в этой местности, не слышно было ни лая собак, ни пения петухов. Лишь на западе временами громыхали орудия, рвались снаряды. В Курземе еще до сих пор грохочет. Как странно — война еще бушует с жуткой ожесточенностью, а здесь люди уже борются за расцвет мирной жизни. Значит, верят, что немцу не вернуться. Скорее бы сдавить ему горло, тогда с фронта возвратятся люди, которые так истосковались по мирному труду.
«Эльза, наверное, уже встала и читает. — Мысли Бауски обратились к дому. — Сидит на диване, в ватнике и валенках. Маленькая и теплая, как на вербе барашек. Скоро, через полгода, она станет матерью, и будут в доме два таких барашка — побольше и поменьше».
На крутом подъеме, где дорога шла в гору, лошадь споткнулась. Возчик и Канеп выскочили из саней, чтобы помочь ей освободить ноги, запутавшиеся в клубке проволоки. Бауска тоже хотел вылезть, но Канеп удержал его.
— Сидите, товарищ Бауска! — крикнул он. — Мы сейчас же поедем дальше.
В это мгновение поблизости раздались два выстрела, Вилису в спину ударило что-го твердое и горячее, он еще услышал автоматную очередь, и его сознание начало заволакиваться. Ему казалось, что он по-прежнему на поле боя, что больше нигде и не был, а Эльзу, свою работу, людей, строящих новую жизнь, видел лишь в коротком сне перед наступлением. Он уже не чувствовал, как склонялся головой на спинку саней, как текла теплая струя крови, текла и остановилась, и вместе с нею остановилось сердце, только что бившееся, полное любви к людям, восстанавливающим жизнь, к Эльзе, готовящейся стать матерью, к своему еще не рожденному ребенку, которого ему лишь мысленно довелось покачать.
Разговаривая, они направились в исполком и вошли вместе с другими в большую до сих пор пустовавшую комнату. Сегодня она была натоплена и разукрашена по-праздничному. На столе, покрытом красной материей, были расставлены кувшины с зелеными еловыми ветками. Люди толпились в дверях, тихо перешептываясь, но никто не осмеливался войти первым, словно не решаясь нарушить строгую торжественность, царившую в помещении.
Но вот открылась дверь канцелярии, и из нее вышли представитель уезда Вилис Бауска, которого здесь видели впервые, председатель волостного исполкома Ванаг и секретарь Зента Плауде.
— Смелее, смелее, — подбадривал Бауска, — заходите и занимайте места! Вы ведь новые хозяева волости, — добавил он, улыбаясь, когда люди расступились, чтобы дать им дорогу. — Сегодня ваш день. Мы здесь только так, между прочим.
Когда новые хозяева уселись на расставленные в ряды стулья и земельная комиссия заняла места за столом, Ванаг взял слово, чтобы разъяснить собравшимся, почему в волости произошла задержка с вручением актов на пользование землей.
— Кулаку удалось втереться в среду наших работников, он начал было делить землю по-своему. Пока мы исправили сотворенные им подлости, пока измерили землю, чтобы каждый знал свои межи, почти подоспела весна. Мы сделали все, чтобы, как только высохнет земля, вы могли проложить первые борозды на своих полях. Слово имеет заместитель председателя уездного исполнительного комитета товарищ Бауска, — закончил он отрывисто.
Бауска встал и долго смотрел в лица сидевших перед ним людей, Он видел их впервые, но они казались ему старыми знакомыми, с которыми вместе вырос и изо дня в день вместе работал. Он и на самом деле рос среди таких же батраков и батрачек, среди парней и девушек, которые так же, как и он, с восьми лет оставляли родительские гнезда и уходили к чужим, богатым хозяевам зарабатывать скудный ломоть хлеба. Вилису казалось, что тут же, в этой комнате, среди других виднеется заросшее жесткой бородой и все же такое доброе лицо отца, он как бы кивает ему и говорит: «Помнишь, сынок, как я прежде каждый вечер, словно отче наш, твердил: «Ах, Вилис, если бы нам дали кусочек топкого болота да еще полоску целины в Сухом бору, тогда можно было бы сказать, что на свете есть три счастливых человека». Да, отец и мать умерли, так и не получив ни топкого болота, ни песчаной целины. А здесь — другие такие же отцы и матери, которые всю жизнь могли только посматривать на лежавшую вокруг невозделанную землю; но они не смели о ней даже мечтать.
Он говорил с этими людьми, как со старыми знакомыми, проверяя, доходят ли его слова до сердец слушателей. Торжественным спокойствием веяло от обветренных лиц, в которых чувствовалась твердая решимость своим трудом воздвигнуть памятник тем, кто отдал жизнь за Советскую родину.
Зента назвала имя крестьянина, которому первому предстояло получить акт. То был Екаб Лауск, сидевший рядом с Бауской. Хотя он сам принимал участие в распределении земли и уже привык к мысли, что надел, отнятый в первое военное лето шуцманом Стендером, снова возвращается ему, у него, вчерашнего батрака, задрожала рука, протянутая за актом.
Затем вызвали Марию Перкон. Как она ни старалась сдержать себя перед людьми, все же, когда Бауска вложил ей в левую руку акт, а правую пожал и тряхнул, из глаз многострадальной женщины брызнули слезы. Мария пыталась что-то сказать, раскрыла рот, но слезы сдавили горло, она только покачала головой и хотела вернуться на свое место, но Бауска обнял ее за плечи, привлек к себе и, ободряюще заглянув в глаза, сказал:
— Не плачь, мать, Красная Армия отомстит и за твои страдания!
«Даже спасибо не сказала, — подумала Мария, усаживаясь на стул, — думы о Симане все перешибли — забыла».
— Эльмар Эзер, — вызвала Зента, и к столу подошел молодой парень, лет шестнадцати, не больше.
«Ишь, какой смельчак, — думал Бауска, всматриваясь в сухощавое, энергичное лицо не по летам вытянувшегося паренька, — такой молодой, а не робеет перед самостоятельной жизнью».
А Зента решила, что сразу же после собрания с этим парнем надо побеседовать и дать ему устав комсомола.
После вручения актов начали выступать сами новохозяева. Они не искали красивых слов, некоторые даже не могли связно высказать свои мысли. Но все они испытывали одно и то же, хотя не умели это выразить словами.
Когда люди разошлись, Бауска поднялся в комнатку Ванага отдохнуть. В дороге он, должно быть, немного простудился. Растянувшись на кровати Петера, Бауска попытался на минутку заснуть, но им овладели мысли об Эльзе. Перед его отъездом она сказала ему, что через некоторое время в их жизнь войдет третий — крохотное шумное существо, которое принесет в дом много радости. Помнила бы только Эльза, что ей нельзя бегать в легком осеннем пальтишке. Как только вернется, надо будет наконец оформить брак с Эльзой, чтобы его сыну или дочери не надо было начинать жизнь под чужим именем. Валдис Бауска — так они решили назвать маленького человечка, если он будет мальчиком, — в честь фронтового товарища Валдиса Упмалиса, а если появится девочка, тогда она будет Валдой. Так они условились, и им было очень приятно, что они уже теперь могли называть по имени своего будущего ребенка.
За дверью на лестнице послышались торопливые шаги, и после сильного стука в комнату ворвалась Мирдза, а сразу же за нею — Зента и Ванаг.
— Я все же первая! — торжествовала Мирдза, здороваясь с Вилисом.
— Это потому, что я впервые в жизни был кавалером и пропустил женщину вперед, — смеялся Ванаг.
Все они были так молоды и веселы, что Вилис мгновенно забыл усталость, забыл раненую руку, которая сегодня снова стала болеть.
— Как олени! — радовался он, ласково поглядывая то на одного, то на другого. — Если ваша волость не выйдет в передовые, то пусть старость на вас навалится!
— Выйдет, товарищ заместитель председателя, — обещал Ванаг, став навытяжку.
— Зента, сколько у тебя комсомольцев? — спросил Бауска.
— Восемь, — ответила та.
— Включая старца Петера, — добавил Ванаг, склонив голову, чтобы показать седые нити в темных волосах.
— До моего следующего приезда тебе, Зента, не мешало бы привлечь еще восемь таких же молодых летами старцев. Главное, смотри, чтобы у всех были такие же молодые сердца, как у Петера, а на седые волосы можешь не обращать внимания, — шутил Бауска.
— Есть привлечь! — ответила Зента, подражая Ванагу и тоже став навытяжку.
— Этой весной вам придется потрудиться как следует, — Бауска посерьезнел. — Людей мало, но надо засеять всю годную землю. Как обстоит дело с ремонтом машин? Кузнецы и мастерские есть?
— Работы непочатый край, — согласился Ванаг. — Когда начинаешь думать, волосы дыбом становятся.
— Ну, пугаться не следует, — улыбнулся Бауска. — Главное, работать без суетни.
— Нам нужно строить маслодельный завод, — вставил Ванаг.
— И народный дом, — добавила Мирдза. — Мы думаем на следующей неделе устроить субботник по подвозке камня.
— Вот это уже нечто реальное, — оживился Бауска. — Ты, Петер, смотри, как бы тебя девушки не опередили, — подзадорил он Ванага.
— Что ж, сделают свою работу, придут мне на помощь, — улыбнулся Петер.
— Ишь, хитрый какой! — пошутила Зента. — Думаешь увильнуть от нашего субботника? И ты будешь таскать камни для народного дома.
— При таком грозном начальстве — придется, — вздохнул Петер, улыбаясь. — У нас с ней такие странные отношения: с одной стороны, Зента мое начальство, с другой, — я ее прямой начальник. Как же разобраться, кому кого слушать?
— Надо слушать того, кто предлагает что-нибудь деловое, — решил Бауска.
Он посмотрел на часы и встал.
— Дорогие детки, с вами очень хорошо, приятно быть среди молодежи, но время неумолимо. Пора на собрание. Прямо жаль с вами расставаться. Надо будет попроситься в вашу волость на какое-нибудь местечко. Скажем, к тебе в помощники. Да, кто твой заместитель?
— Лауск, — ответил Петер.
— Тот, что сидел рядом со мной? Кажется, хороший человек. И этого паренька — как его звать? — которому вручали акт, тоже не следует упускать из виду. Я смотрю — люди у вас здесь хорошие. Надо их только привлечь, активизировать. Мне приходилось бывать и в таких волостях, где иногда отталкивают полезных людей. Обругают честных середняков кулаками. И как раз наиболее трудолюбивых.
Петер густо покраснел. Мирдза переглянулась с Зентой, но так как Ванаг об этой ошибке промолчал, то и они ничего не сказали, не желая омрачать минуту отъезда Бауски.
Вилис снял с крючка свою шинель и стал медленно одеваться, левая, неподвижная рука болела, ему трудно было засунуть ее в рукав. Наконец Ванаг спохватился и помог ему. Потом он сам надел пальто и повесил на шею автомат.
— Поедем все вместе, — сказал он. — А то, что скажет уезд, если наши бандиты ухлопают их работника?
— Вот уж действительно зараза, — сердился Бауска. — Завелись, как клопы… Надо будет сделать основательную чистку. Прямо беда — здесь такие большие леса, ты ведь знаешь, как трудно в чаще поймать человека. Вот проклятые шершни! Все так опустошено, надо изо всех сил налечь на работу, а они забрались в щели, да еще мешают другим работать.
— Мы их выкурим, — сказал Ванаг с решимостью. — Только бы проследить, где у них гнездо.
— Несомненно выкурим, — сказал Бауска. — И именно потому, что народ на нашей стороне. Эти убийцы и грабители для людей прямо проклятье. Ну, пора ехать, чтобы не опоздать.
Общее собрание созвали в имении, здесь были самые просторные помещения. Свою речь перед крестьянами Бауска начал с того же, о чем уже говорил при вручении земельных актов, потом он перешел к задачам, которые нужно выполнить, чтобы скорее залечить раны, нанесенные Советской Латвии.
Вилис чувствовал, что его одолевает усталость, мешающая сконцентрировать мысли, чтобы выразить их с бесспорной убедительностью. Он напряг все силы, чтобы справиться с болью, которая время от времени схватывала раненую руку.
«Нашла время, когда болеть», — с досадой подумал он и тут же продолжал, чтобы не потерять нить мысли.
— Товарищи! — сказал он в заключение крестьянам. — Вы знаете поговорку: «Вера горами движет». Раньше вы этого в жизни нигде не видели. Но есть страна, где люди так верят в свои силы, так верят организатору своих сил — большевистской партии, что не только горы передвинули, а соединили моря, заставили реки течь не там, где они проложили себе русло, но там, где это нужно человеку. С такой верой мы выйдем на наши опустошенные поля, и вы увидите, какие тяжелые колосья уже этой осенью будут вам кланяться, чествуя тружеников и их любовь к своей земле.
Заключительные слова всколыхнули слушателей. Встал какой-то старик и начал говорить о мельнице. Такая хорошая мельница не работает. Молоть негде. Вор унес ремень. Но разве нельзя попытаться сделать, как когда-то делали, — соткать привод самим из пеньковых ниток. Так долго, как покупной, не выдержит, но некоторое время все же послужит.
Другой напомнил о восстановлении маслодельного завода. У крестьян почти не осталось сепараторов. Немцы заставили свезти головки сепараторов на маслодельный завод, чтобы крестьяне не могли дома масло сбивать, там они и сгорели. У некоторых маслобойки были спрятаны в мочилах для льна, но, когда людей угнали, этим добром поживились воры. Теперь к тем, у кого уцелел сепаратор, едут из пяти и шести дворов молоко перегонять. А один человек (он не назвал Думиня по имени) даже деньги берет за пользование сепаратором. Правительство и не знает, какое масло сдают иные хозяева. Агент по заготовкам — тот все принимает. Люди, которым совесть не позволяет подсовывать городскому рабочему вместо масла вареную брюкву и творог, только удивляются, как мошенники на базаре деньги загребают.
Третий жаловался, что нигде нельзя купить календарь.
Выступил и Салениек. Ему, как учителю, больно, что новое поколение не получает советских книг.
Отвечая, Бауска рассказал о трудностях восстановления, когда война еще продолжается: ведь заводы работают для военных нужд, железные дороги, автотранспорт заняты перевозкой военных материалов.
Собрание уже шло к концу, когда еще какой-то человек попросил слова. То был старый Пакалн, который задал вопрос — кто является кулаком?
— Как же это так? — допытывался Пакалн. — Если у меня всего двадцать восемь гектаров, а пашни всего-то гектаров десять, батраков не было и теперь нет, а кое-какими машинами я обзавелся, являюсь ли я кулаком?
— Нет, товарищ Пакалн, если вы только своим трудом, не используя чужую рабочую силу, добились известного достатка, то кулаком вас нельзя назвать и никто не назовет.
— Да уже назвали! — обиженно отозвался Пакалн и сел.
— А если назвали, то это большая ошибка, — пояснил Бауска, вопросительно посмотрев на Ванага, который сидел, опустив голову. — Я уже не раз предупреждал своих работников, чтобы не смешивали середняков с кулаками.
Зента наклонилась к Петеру и шепнула:
— Тебе надо извиниться!
Петер упрямо молчал. Но когда на него посмотрел Бауска, очевидно угадавший виновника конфликта, Петер почувствовал, что этот глубокий, пристальный взгляд требует от него объяснения. Да, надо сказать несколько слов, признать свою ошибку, иначе в глазах Бауски появится осуждение.
— Я погорячился, — признался он, не поднимая головы, — это было неправильно.
Зента видела, как трудно было Петеру произнести эти слова, но обрадовалась, что он их все-таки сказал. Бедный парень, ему пришлось перебороть себя. Можно себе представить, какой перелом произошел в нем в эти немногие минуты, ведь до сих пор она никак не могла уговорить его пойти к Пакалну и побеседовать с ним наедине, извиниться. А теперь он сделал это перед всей волостью. Зента незаметно пожала Петеру руку.
— Товарищ Ванаг допустил большую ошибку, — сказал Бауска, — но приятно то, что он ее признал. Он молодой работник, сами знаете, сколько перестрадал за свою короткую жизнь, но это, конечно, не дает ему права быть несдержанным. Будем надеяться, и я даже глубоко верю, что в будущем он сумеет крепко держать себя в руках. В этом ему поможет комсомольская организация и также каждый из вас, вся общественность — ваша строгая, но дружеская критика.
Когда собрание кончилось, Бауске громко и долго аплодировали. Старики наклонялись друг к другу и шептали:
— Вот если бы все работники были такими толковыми, как этот, тогда уж… тогда, да… Если бы такие почаще приезжали! Сразу стало яснее…
Бауска зашел к Яну Приеде. Он решил переночевать у него, а рано утром отправиться в город, завернув по дороге на МТС и в соседние волости. Комната у Яна была тепло натоплена, и Вилис с удовольствием прилег на диван. Эмма Сиетниек подала на стол ужин, а Ян с Иваном после собрания опять ушли к своим лошадям.
Бауске вдруг пришло в голову — хорошо бы еще побеседовать с Ванагом, а то не показалось бы председателю, что он, Вилис, остался о нем плохого мнения. Он попросил Эмму пойти посмотреть, в имении ли еще Ванаг, и если не уехал — пусть зайдет. Пока Бауска ждал, кто-то постучал — это был старый Пакалн.
— Вы уж не сердитесь на меня, что не даю вам покоя, — начал он, — но кто знает, когда опять приедете. Видите, как-то некрасиво сегодня получилось. Не думайте, что я на Петера Ванага жаловаться хотел или что-нибудь в этом роде. Когда вы упомянули, сколько он перестрадал, меня точно обухом по голове ударило. Мне подумалось: и впрямь ведь так, а я, старый хрыч, еще ссоры ищу с ним.
— Ничего, ничего, отец, — успокаивал его Бауска. — Всегда лучше напрямик высказаться, чем кулаки сжимать в карманах.
— Знаете, как это у нас тогда получилось, — рассказывал Пакалн. — Он такой горячий, а мне словно кто-то все время нашептывал: «Молод еще на старика нападать! Заработай такие кривые пальцы, — он разжал свои ладони, но пальцев выпрямить не мог, — тогда ругай меня!» Я ведь не так хорошо понимаю эти новые порядки, как вы, молодые, но своим старым умом соображаю, что тот, кто работу делает, нынешней власти вреда не причиняет. А у нас есть такие — языком горы готовы сдвинуть, а на работе ни с места.
— Они нам больше всех вредят, — прервал его Бауска.
— Да, хорошего от них не жди, — продолжал Пакалн. — Но раз я свою работу выполняю, почему же меня тогда равняют с этими, ну, кулаками. Вы тоже сказали, что кулаки те, у кого машины. Кое-какие машины, правда, у меня имеются.
— Я, кажется, неточно выразился, — признался Бауска, — вы не поняли меня. Машины могут быть разные. Например, такие, которые используют только в своем хозяйстве или же одалживают соседу, чтобы помочь, но есть такие, как молотилки, тракторы, грузовые автомашины, лесопильные станки, которые приносят доход.
— Ну вот, теперь и мне ясно, — обрадовался Пакалн. — А то я думал…
— Что я вас назвал кулаком? — засмеялся Бауска.
Вошел Петер и вместе с ним Зента и Мирдза.
— Петер, сынок, — Пакалн пошел ему навстречу, протянув руки, — на пожми и не сердись, что так получилось. Эх, зачем мне надо было перед людьми! Можно было наедине. Ну, теперь я побегу домой. Юрит будет шуметь, что плохо слежу за ним. Так бывайте все здоровы! Заезжайте еще как-нибудь, товарищ Бауска. Мы ведь ничего не знаем, ни о войне, ни что было, ни что будет. Когда газеты читаем — это одно, а на словах яснее получается.
— Видишь, Петер, как получилось, — заметил Бауска после ухода Пакална, — Какой ты из этого сделаешь вывод? Учиться надо!
— Да, надо учиться! — подтвердил Ванаг с решимостью.
— Мы, кажется, совсем замучили товарища Бауску, — вмешалась Зента. — Надо дать человеку отдохнуть.
— Завтра тебя проводит Канеп, — сказал Ванаг. — Он эту ночь переспит здесь же.
— К чему это, — махнул Бауска рукой. — Что вы это — словно невесть какую важную личность оберегаете.
— Любимого человека оберегаем, — улыбнулась Мирдза. — Мы тебя очень, очень будем ждать.
Вилис Бауска проснулся рано утром. За дверью слышалась тихая возня. Кто-то собирался войти, но, не решившись, отпустил дверную ручку. Бауска крикнул, и вошел Ян Приеде.
— Возчик приехал, — сообщил он. — Я говорю, еще темно, куда торопиться, а он отвечает, что велено в пять часов.
— Правильно, хорошо, что он такой аккуратный, — ответил Бауска и вскочил с кровати. — У меня сегодня еще много работы, некогда долго спать.
— Эмма, ты скорей приготовь завтрак, — крикнул Ян в кухню.
— Не надо, зачем беспокоить человека, — запротестовал Вилис, одеваясь.
— Как это не надо, — настаивал Ян. — Лошадь тоже не гоняют некормленую, тем более человека!
В шесть часов Бауска с Канепом уселись в просторные сани. До восхода солнца оставалось еще больше часа, но именно по морозцу была самая езда, так как мартовские ветры и солнце уже растопили на южных склонах снег.
Ехали молча. Бауска думал о вчерашних собраниях. Вспоминал и другие волости, где председатели жаловались, что не могут работать, просили у уезда работников. Наверное, не замечали, что у них на месте есть такие же Лауски, Пакалны и многие другие, как здесь. Люди есть, только надо уметь отыскать их, по-дружески взять за руки, и они пойдут с тобой.
На востоке обозначился едва заметный светлеющий полукруг. К нему, легко покачиваясь на ветру, тянулись черные шпили сосен. Начинался Большой бор. Вилис вспомнил, как он шел через него вместе с Эльзой прошлой осенью. Как пустынно тогда было в этой местности, не слышно было ни лая собак, ни пения петухов. Лишь на западе временами громыхали орудия, рвались снаряды. В Курземе еще до сих пор грохочет. Как странно — война еще бушует с жуткой ожесточенностью, а здесь люди уже борются за расцвет мирной жизни. Значит, верят, что немцу не вернуться. Скорее бы сдавить ему горло, тогда с фронта возвратятся люди, которые так истосковались по мирному труду.
«Эльза, наверное, уже встала и читает. — Мысли Бауски обратились к дому. — Сидит на диване, в ватнике и валенках. Маленькая и теплая, как на вербе барашек. Скоро, через полгода, она станет матерью, и будут в доме два таких барашка — побольше и поменьше».
На крутом подъеме, где дорога шла в гору, лошадь споткнулась. Возчик и Канеп выскочили из саней, чтобы помочь ей освободить ноги, запутавшиеся в клубке проволоки. Бауска тоже хотел вылезть, но Канеп удержал его.
— Сидите, товарищ Бауска! — крикнул он. — Мы сейчас же поедем дальше.
В это мгновение поблизости раздались два выстрела, Вилису в спину ударило что-го твердое и горячее, он еще услышал автоматную очередь, и его сознание начало заволакиваться. Ему казалось, что он по-прежнему на поле боя, что больше нигде и не был, а Эльзу, свою работу, людей, строящих новую жизнь, видел лишь в коротком сне перед наступлением. Он уже не чувствовал, как склонялся головой на спинку саней, как текла теплая струя крови, текла и остановилась, и вместе с нею остановилось сердце, только что бившееся, полное любви к людям, восстанавливающим жизнь, к Эльзе, готовящейся стать матерью, к своему еще не рожденному ребенку, которого ему лишь мысленно довелось покачать.
 — Жить веселее, когда молодежь в доме, не так ли, Ян? — улыбаясь, говорил Озол.
— Конечно, веселее, — подтвердил Приеде. — Вот девочка, Гайдиня, эта любит петь. Эмма говорит, что в доме Густа рта не раскрывала. А теперь — как иволга.
— Теперь Калинка к тебе с водкой не пристает? — вспомнил Озол.
— Один раз пробовал. В самом начале. Пришел с бутылкой самогона. Но Эмма выгнала. Говорит, если еще раз явишься, первой попавшейся палкой перекрещу. Она строгая. Мне, говорит, детей надо воспитывать, а они ничему хорошему у пьяниц не научатся.
Они вытерли ноги о разостланные перед кухней еловые ветки и через сени прошли в кухню. Здесь все блестело — стены, белая изразцовая плита, латунные дверные ручки и кран от водопровода. Озол вспомнил, как хозяйничала здесь зимой Розалия Мелнайс, и теперь в самом деле не узнал кухни. А Ян уже рассказывал:
— Когда я сюда перебрался, здесь было грязнее, чем в батрацкой у Думиня. Но Эмма сказала: «Я в таком хлеву жить не стану. Ты мужчина — выбели стены, а я выскребу всю грязь».
— Выходит, Эмма серьезная женщина? — похвалил Озол.
— Все аккуратно делает, будь то для скотины или для человека, — восторгался Ян.
Вошла Эмма, высокая и стройная, в белом фартуке. Поздоровавшись с Озолом, она побранила Яна за то, что принимает гостя на кухне и не приглашает в комнату.
— У вас такая чистая кухня, что приятно в ней побыть, — похвалил Озол, и Эмма, довольная, заулыбалась.
— Так пойдем же в комнату, раз приглашают, — сказал Ян. — Да, кто мог бы подумать, что я когда-нибудь буду жить в имении? Словно какой-нибудь барон.
— Довольно бароны пожили и повластвовали. Теперь и рабочий человек может вечером прилечь на мягкую постель, — ответил Озол, окидывая взглядом комнату с пышно застланной кроватью. — Ну-ка, Ян, расскажи, как ты думаешь справиться с работами. Сколько у тебя земли?
— Сорок гектаров. Все — пахота да луга.
— Тогда тебе нужно больше работников. Лошадей тоже маловато. Иначе новохозяевам ничем не поможешь.
— Да я ведь не знаю, могу ли сам нанимать людей, или нет, — сказал Ян. — Старый директор МТС говорил — если можешь сам найти хорошего человека, бери. А теперь новый по-другому — сам не нанимай, я тебе пришлю. А Эмма говорит — если понашлют нам всяких лентяев, толку не будет.
— Почему старого директора перевели на другое место?
— Да на какой-то другой МТС надо было навести порядок. А того, оттуда, прислали к нам.
— Ах, вон что, — проворчал Озол. — А как же у тебя с семенами — есть?
— Семена получил еще от старого директора, от Гравитиса. Но теперь новый, Трейманис, говорит, что часть заберет обратно. Будто слишком много выдано.
— На самом деле слишком много?
— Да нет же! — загорячился Ян. — Едва-едва хватит, чтобы все засеять. Картофеля маловато. Свинья опоросится, и Эмма говорит, что весь приплод держать надо. Чем кормить будем, если картофеля не будет?
— Ты семян не отдавай ни одной горсти, — сказал Озол. — Подумай, что будет, если поля останутся незасеянными? Вся волость пальцами начнет указывать. Плуги в исправности?
— Надо бы еще кое-что починить, — признался Ян. — Мы там, на кузнице, сами пробуем, да плохо спорится, не как у кузнеца.
— А разве ты не можешь взять Саулита заведующим кузницей?
— Да я ведь и хотел. А директор говорит — пришлю. И до сих пор все присылает.
— Если ты не поторопишься, то мы возьмем Саулита к себе. Откроем в местечке большую кузницу.
— Да, но что я могу поделать, если директор говорит — я пришлю! — заволновался Ян.
— Тебе нужно на него нажимать покрепче, чтобы скорее решал, — посоветовал Озол. — Видишь, весна не ждет.
— Завтра же съезжу, — решил Ян.
— Подай ему письменное требование, — настаивал Озол, допуская, что Трейманис бюрократ. — А то потом еще скажет, что вовремя не позаботился.
Когда они снова вошли в кухню, Эмма уже поставила на стол обед, она и слушать не хотела, что гость уйдет, отказавшись закусить. Настаивал и Ян, как умел. Чтобы не обидеть приветливых людей, Озол сел за стол. Эмма налила в тарелки молочную похлебку, нарезала ржаного домашнего хлеба, и они принялись за еду. Озол вспомнил угощение, приготовленное ему и Ванагу в доме Миглы, от которого они отказались. Как вкусна бывает самая простая еда за столом с хорошими людьми и какими противными могут показаться изысканные блюда, если их подают с корыстной целью подкупить, выказать притворную любезность, чтобы вынудить и тебя быть любезным и уступчивым. У этих же людей нет никаких задних мыслей, им нечего скрывать, они делают свою работу честно, быть может, даже не сознавая ее значения, делают так, потому что иначе не умеют.
— Вы не обиделись тогда, что так получилось с наделом земли? — спросил Озол Эмму. — В тот раз могли, да и сейчас еще можете, попросить землю в другом месте.
— Потом я сама поняла, что никакого толка на земле Густа все равно не было бы, — спокойно ответила Эмма. — Опять пришлось бы на него работать. Просить теперь? Сын собирается в город учиться, его к машинам тянет. Что я одна смогу без своего пахаря?
Озолу показалось, что она исподтишка бросила на Яна многозначительный взгляд, но тот как ни в чем не бывало отправлял в рот ложку за ложкой и закусывал хлебом.
— И так неплохо получается, — продолжала Эмма. — Главное, тебя никто не ругает. Дети тоже могут спокойно учиться.
— Значит, Ян вас не ругает? — улыбнулся Озол. — Хороший начальник?
— Да за что же ругать, если все исправно делает, — проворчал Ян.
Озол посмотрел на часы. Пора идти на собрание десятидворки. Он поблагодарил за обед и простился, пообещав еще как-нибудь заглянуть.
Уполномоченному десятидворки Акментыню удалось собрать всех своих людей. Даже Август Мигла сидел, забравшись в угол потемнее, притворяясь, что не видит Озола и не замечает, что тот видит его.
Озол начал свою речь. Рассказал, как далеко продвинулась Красная Армия, напомнил, какой ущерб нанесли немцы всей стране, и в частности Латвии.
Когда он кончил и Акментынь предложил начать запись, кто сколько может сдать в семенной фонд, первым встал Пакалн.
— Правильные слова товарищ Озол сказал. Так нельзя землю поганить, как в прошлом году. От этого нам всем плохо. Если бы бодяк и сурепица разрастались только на пустующих полях, тогда еще ничего. Но они угрожают перекинуться и на другие. Так мы по уши зарастем сорняками. Ясно, что нужно помочь соседу семенами. Я сам считаю, что пять пур пшеницы и пять пур овса могу одолжить другим. О картошке я уже договорился с Марией Перкон, дам ей столько, чтобы хватило для посадки. Запиши так, как я сказал.
Еще один хозяин поддержал Пакална, потом кто-то заворчал, что настоящий хозяин должен приберечь семена для будущего года, разве можно знать, что этим летом уродится. Но если уж на то пошло, то он может дать три пуры ячменя и, если кому понадобится, пуру яровой ржи.
Озол наблюдал, как Август Мигла, прячась за спинами других, все больше съеживался, втягивал голову в плечи и наконец совсем нагнулся к своим ботинкам, словно хотел затянуть развязавшиеся шнурки.
— Что ты Август, кошелек уронил, что ли? — невинно спросил сосед.
Мигла встрепенулся, как лунатик, которого внезапно окликнули.
— Нет, нет, — бормотал он, — я так. У меня шнурок развязался.
— Ты, слышал, записывают, кто сколько может дать семян? — толкнул его сосед.
— Ах, так. Мне уж… — беспомощно мямлил Мигла, но потом передумал. — Да, я тоже мог бы малость выделить. Можно сеять пореже. Ближнему ведь надо помочь.
— Я думаю, что у Миглы сердце такое же широкое, как его клеть, — сказал Озол, не скрывая иронии.
— Нынче там все же пустовато, — пожаловался Август.
— Где, в клети или в сердце?
— В клети, в клети, — торопливо пояснил Август. — Но если ближнему надо помочь, так можно наскрести. Таков уж обычай братьев во христе. От себя можно урвать кусок, но от ближнего никогда.
— Не гони так много самогона, тогда хватит и себе, и ближнему, — бросил кто-то.
— Ах, боже мой, да разве я этим занимаюсь! — обиженно воскликнул Август. — Чего только люди не выдумывают? Не зря в старину говорили, что языком можно человеку даже хребтину сломать.
— Так сколько же с тебя записать? — нетерпеливо спросил Акментынь.
— Ну, пиши и с меня столько же, — великодушно уступил Мигла.
— Сколько это? — не понял Акментынь.
— Ну, сколько записал с предыдущего.
— Тогда и впрямь земля возопит к небу, — заметил Пакалн.
— Ну, пиши и с меня столько, сколько с Пакална, — уступил Август.
— Я думал, что Мигла будет впереди всех, — сказал Озол, — но оказывается, что он, занимаясь небесными делами, стал равнодушным к земным.
— Пиши, пиши, Август, побольше, — выкрикнул кто-то из соседей. — С радостью отдающих земное бог любит. У тебя семян хватит. Не было такого года, чтобы в эту пору возами не возил в город.
— Ну, тогда пиши семь пур овса, — наконец, сдался Мигла.
— Так. А еще? — спросил Акментынь.
— Разве еще? — встрепенулся Август. — Ах да! Ну, тогда пиши еще… сколько Пакалн дал пшеницы?
— Пять пур.
— Тогда пиши пять пур пшеницы.
— Так. А еще?
— Разве еще?
— Август, пиши картошку! Она у тебя все равно до следующей весны сгниет! — подсказывали Мигле.
— Ах, картошку тоже можно? — притворяясь непонимающим, переспросил Август. — Значит, и картошку можно? Ну, тогда пиши десять пур.
— Пиши двадцать, не позорь своего двора!
— Пусть будет двадцать, — вздохнул Август, откинувшись на спинку стула.
«Каждое зерно нужно вытягивать, как гвоздь из новой доски, — думал Озол, шагая в темноте домой. — Хорошо, что крестьяне сами помогали нажимать на более жирных и скупых. А лучше всего, когда такие, как Пакалн, отзываются первыми. Да, теперь изо дня в день придется раскусывать такие твердые орехи».
Дома ожидала свежая «Циня». Озол погрузился в чтение. Борьба на двух фронтах — военном и восстановительном — красной нитью проходила по каждой странице. Но разве это два фронта? Нет — это один фронт. Когда бойцы, преследуя врага, устремляются вперед, сразу же за ними следуют тыловые части — исправляют и строят мосты, восстанавливают разрушенные железные дороги, засыпают вырытые ямы, чтобы связать фронт с питающими его центрами глубокого тыла. Мирные жители являются нынче фронтовиками, и кто этого не сознает, должен быть приравнен к дезертиру.
Он наткнулся на короткое сообщение из какой-то волости, где крестьяне почти уже выполнили полугодовой план поставок молока и мяса. Сегодня он совсем забыл затронуть вопрос о поставках. На завтрашнем и других собраниях десятидворок непременно надо будет поговорить об этом. Вдруг он вспомнил, что до сих пор не поинтересовался, как дела в его собственном хозяйстве. Сдано ли что-нибудь. Как бы кто-нибудь не указал — нас, мол, учишь, а у себя порядка не навел.
— Оля, — позвал он, — ты масла сдавала сколько-нибудь?
— Немного сдала — в феврале, — ответила Ольга. — Но многие не сдавали вовсе.
— Это для нас не оправдание. У тебя ничего не накопилось?
— Есть кое-что. Я хотела послать на базар. Мирдзе надо бы к лету платьице. Говорят, что у спекулянтов за масло можно что угодно купить, — рассказывала Ольга.
— Мирдза как-нибудь обойдется. Завтра же надо будет сдать всю норму, — сказал Озол.
— Неужели это так спешно? — не соглашалась Ольга. — Скоро корова пойдет на травку, молока будет больше, тогда и сдадим.
— Будем ждать мы — будут ждать остальные, а тем временем Карлен на фронте пусть потерпит. Пусть погрызет сухари, — мягко упрекнул Озол.
— Ой, как же я об этом не подумала! — смутилась Ольга. — Я думала, что там их всем обеспечивают.
— Конечно, обеспечивают. Но нигде ничего с неба не падает.
— Я завтра же сдам, а Мирдза перешьет себе из старой юбки, — Ольга засуетилась, словно еще сегодня вечером хотела отнести масло, чтобы оно скорее попало к Карлену.
Одно должны понять все матери — войну надо кончать как можно скорее, и чем быстрее она кончится, тем больше у их сыновей надежды остаться в живых — в каком лагере они бы ни были. Каждый день требует жертв, и среди них может оказаться и мой, и твой, и еще чей-нибудь сын. Это он скажет матерям и отцам, и они поймут.
— Жить веселее, когда молодежь в доме, не так ли, Ян? — улыбаясь, говорил Озол.
— Конечно, веселее, — подтвердил Приеде. — Вот девочка, Гайдиня, эта любит петь. Эмма говорит, что в доме Густа рта не раскрывала. А теперь — как иволга.
— Теперь Калинка к тебе с водкой не пристает? — вспомнил Озол.
— Один раз пробовал. В самом начале. Пришел с бутылкой самогона. Но Эмма выгнала. Говорит, если еще раз явишься, первой попавшейся палкой перекрещу. Она строгая. Мне, говорит, детей надо воспитывать, а они ничему хорошему у пьяниц не научатся.
Они вытерли ноги о разостланные перед кухней еловые ветки и через сени прошли в кухню. Здесь все блестело — стены, белая изразцовая плита, латунные дверные ручки и кран от водопровода. Озол вспомнил, как хозяйничала здесь зимой Розалия Мелнайс, и теперь в самом деле не узнал кухни. А Ян уже рассказывал:
— Когда я сюда перебрался, здесь было грязнее, чем в батрацкой у Думиня. Но Эмма сказала: «Я в таком хлеву жить не стану. Ты мужчина — выбели стены, а я выскребу всю грязь».
— Выходит, Эмма серьезная женщина? — похвалил Озол.
— Все аккуратно делает, будь то для скотины или для человека, — восторгался Ян.
Вошла Эмма, высокая и стройная, в белом фартуке. Поздоровавшись с Озолом, она побранила Яна за то, что принимает гостя на кухне и не приглашает в комнату.
— У вас такая чистая кухня, что приятно в ней побыть, — похвалил Озол, и Эмма, довольная, заулыбалась.
— Так пойдем же в комнату, раз приглашают, — сказал Ян. — Да, кто мог бы подумать, что я когда-нибудь буду жить в имении? Словно какой-нибудь барон.
— Довольно бароны пожили и повластвовали. Теперь и рабочий человек может вечером прилечь на мягкую постель, — ответил Озол, окидывая взглядом комнату с пышно застланной кроватью. — Ну-ка, Ян, расскажи, как ты думаешь справиться с работами. Сколько у тебя земли?
— Сорок гектаров. Все — пахота да луга.
— Тогда тебе нужно больше работников. Лошадей тоже маловато. Иначе новохозяевам ничем не поможешь.
— Да я ведь не знаю, могу ли сам нанимать людей, или нет, — сказал Ян. — Старый директор МТС говорил — если можешь сам найти хорошего человека, бери. А теперь новый по-другому — сам не нанимай, я тебе пришлю. А Эмма говорит — если понашлют нам всяких лентяев, толку не будет.
— Почему старого директора перевели на другое место?
— Да на какой-то другой МТС надо было навести порядок. А того, оттуда, прислали к нам.
— Ах, вон что, — проворчал Озол. — А как же у тебя с семенами — есть?
— Семена получил еще от старого директора, от Гравитиса. Но теперь новый, Трейманис, говорит, что часть заберет обратно. Будто слишком много выдано.
— На самом деле слишком много?
— Да нет же! — загорячился Ян. — Едва-едва хватит, чтобы все засеять. Картофеля маловато. Свинья опоросится, и Эмма говорит, что весь приплод держать надо. Чем кормить будем, если картофеля не будет?
— Ты семян не отдавай ни одной горсти, — сказал Озол. — Подумай, что будет, если поля останутся незасеянными? Вся волость пальцами начнет указывать. Плуги в исправности?
— Надо бы еще кое-что починить, — признался Ян. — Мы там, на кузнице, сами пробуем, да плохо спорится, не как у кузнеца.
— А разве ты не можешь взять Саулита заведующим кузницей?
— Да я ведь и хотел. А директор говорит — пришлю. И до сих пор все присылает.
— Если ты не поторопишься, то мы возьмем Саулита к себе. Откроем в местечке большую кузницу.
— Да, но что я могу поделать, если директор говорит — я пришлю! — заволновался Ян.
— Тебе нужно на него нажимать покрепче, чтобы скорее решал, — посоветовал Озол. — Видишь, весна не ждет.
— Завтра же съезжу, — решил Ян.
— Подай ему письменное требование, — настаивал Озол, допуская, что Трейманис бюрократ. — А то потом еще скажет, что вовремя не позаботился.
Когда они снова вошли в кухню, Эмма уже поставила на стол обед, она и слушать не хотела, что гость уйдет, отказавшись закусить. Настаивал и Ян, как умел. Чтобы не обидеть приветливых людей, Озол сел за стол. Эмма налила в тарелки молочную похлебку, нарезала ржаного домашнего хлеба, и они принялись за еду. Озол вспомнил угощение, приготовленное ему и Ванагу в доме Миглы, от которого они отказались. Как вкусна бывает самая простая еда за столом с хорошими людьми и какими противными могут показаться изысканные блюда, если их подают с корыстной целью подкупить, выказать притворную любезность, чтобы вынудить и тебя быть любезным и уступчивым. У этих же людей нет никаких задних мыслей, им нечего скрывать, они делают свою работу честно, быть может, даже не сознавая ее значения, делают так, потому что иначе не умеют.
— Вы не обиделись тогда, что так получилось с наделом земли? — спросил Озол Эмму. — В тот раз могли, да и сейчас еще можете, попросить землю в другом месте.
— Потом я сама поняла, что никакого толка на земле Густа все равно не было бы, — спокойно ответила Эмма. — Опять пришлось бы на него работать. Просить теперь? Сын собирается в город учиться, его к машинам тянет. Что я одна смогу без своего пахаря?
Озолу показалось, что она исподтишка бросила на Яна многозначительный взгляд, но тот как ни в чем не бывало отправлял в рот ложку за ложкой и закусывал хлебом.
— И так неплохо получается, — продолжала Эмма. — Главное, тебя никто не ругает. Дети тоже могут спокойно учиться.
— Значит, Ян вас не ругает? — улыбнулся Озол. — Хороший начальник?
— Да за что же ругать, если все исправно делает, — проворчал Ян.
Озол посмотрел на часы. Пора идти на собрание десятидворки. Он поблагодарил за обед и простился, пообещав еще как-нибудь заглянуть.
Уполномоченному десятидворки Акментыню удалось собрать всех своих людей. Даже Август Мигла сидел, забравшись в угол потемнее, притворяясь, что не видит Озола и не замечает, что тот видит его.
Озол начал свою речь. Рассказал, как далеко продвинулась Красная Армия, напомнил, какой ущерб нанесли немцы всей стране, и в частности Латвии.
Когда он кончил и Акментынь предложил начать запись, кто сколько может сдать в семенной фонд, первым встал Пакалн.
— Правильные слова товарищ Озол сказал. Так нельзя землю поганить, как в прошлом году. От этого нам всем плохо. Если бы бодяк и сурепица разрастались только на пустующих полях, тогда еще ничего. Но они угрожают перекинуться и на другие. Так мы по уши зарастем сорняками. Ясно, что нужно помочь соседу семенами. Я сам считаю, что пять пур пшеницы и пять пур овса могу одолжить другим. О картошке я уже договорился с Марией Перкон, дам ей столько, чтобы хватило для посадки. Запиши так, как я сказал.
Еще один хозяин поддержал Пакална, потом кто-то заворчал, что настоящий хозяин должен приберечь семена для будущего года, разве можно знать, что этим летом уродится. Но если уж на то пошло, то он может дать три пуры ячменя и, если кому понадобится, пуру яровой ржи.
Озол наблюдал, как Август Мигла, прячась за спинами других, все больше съеживался, втягивал голову в плечи и наконец совсем нагнулся к своим ботинкам, словно хотел затянуть развязавшиеся шнурки.
— Что ты Август, кошелек уронил, что ли? — невинно спросил сосед.
Мигла встрепенулся, как лунатик, которого внезапно окликнули.
— Нет, нет, — бормотал он, — я так. У меня шнурок развязался.
— Ты, слышал, записывают, кто сколько может дать семян? — толкнул его сосед.
— Ах, так. Мне уж… — беспомощно мямлил Мигла, но потом передумал. — Да, я тоже мог бы малость выделить. Можно сеять пореже. Ближнему ведь надо помочь.
— Я думаю, что у Миглы сердце такое же широкое, как его клеть, — сказал Озол, не скрывая иронии.
— Нынче там все же пустовато, — пожаловался Август.
— Где, в клети или в сердце?
— В клети, в клети, — торопливо пояснил Август. — Но если ближнему надо помочь, так можно наскрести. Таков уж обычай братьев во христе. От себя можно урвать кусок, но от ближнего никогда.
— Не гони так много самогона, тогда хватит и себе, и ближнему, — бросил кто-то.
— Ах, боже мой, да разве я этим занимаюсь! — обиженно воскликнул Август. — Чего только люди не выдумывают? Не зря в старину говорили, что языком можно человеку даже хребтину сломать.
— Так сколько же с тебя записать? — нетерпеливо спросил Акментынь.
— Ну, пиши и с меня столько же, — великодушно уступил Мигла.
— Сколько это? — не понял Акментынь.
— Ну, сколько записал с предыдущего.
— Тогда и впрямь земля возопит к небу, — заметил Пакалн.
— Ну, пиши и с меня столько, сколько с Пакална, — уступил Август.
— Я думал, что Мигла будет впереди всех, — сказал Озол, — но оказывается, что он, занимаясь небесными делами, стал равнодушным к земным.
— Пиши, пиши, Август, побольше, — выкрикнул кто-то из соседей. — С радостью отдающих земное бог любит. У тебя семян хватит. Не было такого года, чтобы в эту пору возами не возил в город.
— Ну, тогда пиши семь пур овса, — наконец, сдался Мигла.
— Так. А еще? — спросил Акментынь.
— Разве еще? — встрепенулся Август. — Ах да! Ну, тогда пиши еще… сколько Пакалн дал пшеницы?
— Пять пур.
— Тогда пиши пять пур пшеницы.
— Так. А еще?
— Разве еще?
— Август, пиши картошку! Она у тебя все равно до следующей весны сгниет! — подсказывали Мигле.
— Ах, картошку тоже можно? — притворяясь непонимающим, переспросил Август. — Значит, и картошку можно? Ну, тогда пиши десять пур.
— Пиши двадцать, не позорь своего двора!
— Пусть будет двадцать, — вздохнул Август, откинувшись на спинку стула.
«Каждое зерно нужно вытягивать, как гвоздь из новой доски, — думал Озол, шагая в темноте домой. — Хорошо, что крестьяне сами помогали нажимать на более жирных и скупых. А лучше всего, когда такие, как Пакалн, отзываются первыми. Да, теперь изо дня в день придется раскусывать такие твердые орехи».
Дома ожидала свежая «Циня». Озол погрузился в чтение. Борьба на двух фронтах — военном и восстановительном — красной нитью проходила по каждой странице. Но разве это два фронта? Нет — это один фронт. Когда бойцы, преследуя врага, устремляются вперед, сразу же за ними следуют тыловые части — исправляют и строят мосты, восстанавливают разрушенные железные дороги, засыпают вырытые ямы, чтобы связать фронт с питающими его центрами глубокого тыла. Мирные жители являются нынче фронтовиками, и кто этого не сознает, должен быть приравнен к дезертиру.
Он наткнулся на короткое сообщение из какой-то волости, где крестьяне почти уже выполнили полугодовой план поставок молока и мяса. Сегодня он совсем забыл затронуть вопрос о поставках. На завтрашнем и других собраниях десятидворок непременно надо будет поговорить об этом. Вдруг он вспомнил, что до сих пор не поинтересовался, как дела в его собственном хозяйстве. Сдано ли что-нибудь. Как бы кто-нибудь не указал — нас, мол, учишь, а у себя порядка не навел.
— Оля, — позвал он, — ты масла сдавала сколько-нибудь?
— Немного сдала — в феврале, — ответила Ольга. — Но многие не сдавали вовсе.
— Это для нас не оправдание. У тебя ничего не накопилось?
— Есть кое-что. Я хотела послать на базар. Мирдзе надо бы к лету платьице. Говорят, что у спекулянтов за масло можно что угодно купить, — рассказывала Ольга.
— Мирдза как-нибудь обойдется. Завтра же надо будет сдать всю норму, — сказал Озол.
— Неужели это так спешно? — не соглашалась Ольга. — Скоро корова пойдет на травку, молока будет больше, тогда и сдадим.
— Будем ждать мы — будут ждать остальные, а тем временем Карлен на фронте пусть потерпит. Пусть погрызет сухари, — мягко упрекнул Озол.
— Ой, как же я об этом не подумала! — смутилась Ольга. — Я думала, что там их всем обеспечивают.
— Конечно, обеспечивают. Но нигде ничего с неба не падает.
— Я завтра же сдам, а Мирдза перешьет себе из старой юбки, — Ольга засуетилась, словно еще сегодня вечером хотела отнести масло, чтобы оно скорее попало к Карлену.
Одно должны понять все матери — войну надо кончать как можно скорее, и чем быстрее она кончится, тем больше у их сыновей надежды остаться в живых — в каком лагере они бы ни были. Каждый день требует жертв, и среди них может оказаться и мой, и твой, и еще чей-нибудь сын. Это он скажет матерям и отцам, и они поймут.
 — Ну-ка, станьте на каждый конец человек по десять и давайте тягаться! — предложил он. Этого не надо было повторять. В несколько мгновений ремень был растянут во всю длину через улицу, и соревнующиеся с веселым смехом и криком потянули крепкий ремень за концы, порой чуть не падая наземь от более сильных рывков противника.
— Сделан на совесть! Выдержит! — объявил Упмалис результаты соревнования.
После этого ремень внесли в исполком, и теперь можно было бы расходиться. Но сегодня в поле все равно идти уже поздно, а майский вечер был полон дыханья весны. Все знали, что орудия замолкли, из рук смерти вырвана коса, которой она размахивала почти четыре года — и не только над полем боя, но и всюду, где орудовали немцы. Поэтому людям не хотелось расходиться по домам, они еще чего-то ждали и, разделившись на группы, беседовали, шутили и поглядывали на других, таких же говорливых и улыбающихся. Лишь один человек, с кисло сморщенным лицом, ни на кого не глядя, выбрасывая вперед трость, заковылял к своей бричке, отвязал лошадь, важно развалился в повозке и медленно поехал прочь, но вдруг, то ли вспомнив что-то неприятное, то ли вымещая досаду, согнулся крючком и хлестнул кнутом лошадь так сильно, что та вертанула хвостом и резко рванулась. Это было настолько комично, что все стоявшие на улице захохотали и смеялись, пока повозка не исчезла за поворотом.
— Густа слепень укусил! — воскликнул кто-то, и новая волна хохота прокатилась по улице.
— Разве лошадь виновата, если у самого какая-нибудь неприятность, — сказал Ян Приеде с упреком. — Ну, пойдете в имение плясать? — спросил он молодежь, окружавшую Упмалиса.
— Да! Пошли! — радостно отозвались веселые голоса.
— Пойдем все вместе, — предложил Упмалис.
Из исполкома вышли Озол и Салениек. Только теперь Упмалис заметил, насколько изменился его фронтовой товарищ с тех пор, как уехал из города.
— Ты болен? — справился он сочувственно.
— Немного устал, — ответил Озол. — Мирдза тебе все расскажет. А я поеду домой. Приходи к нам ночевать, — пригласил он.
Мирдза замялась в нерешительности. Ей хотелось идти вместе с молодежью в имение, но усталый вид отца, его бледность и серьезный взгляд напомнили, что дома осталась мать, которая сегодня весь день одна и чего только она не передумала. Словно угадав ее колебания, Озол сказал:
— Иди, Мирдза, иди. Упмалис вам что-нибудь расскажет. Вы ведь не будете только танцевать. Меня подвезет Салениек.
Он сел в повозку и уехал. Уехал и Пакалн. Люди постарше начали расходиться, а молодежь по два, по три, по четыре двинулась к имению. У Упмалиса была автомашина, он велел водителю отвезти Яна Приеде и еще кое-кого в имение, чтобы подготовили зал к приему гостей, а сам отправился пешком. Он пошел рядом с Мирдзой, желая узнать, почему так изменился отец.
Мирдза заметила среди молодежи Эрика. Он шел один, ни с кем не разговаривая, и все замедлял шаг, очевидно, ожидая, что она к нему подойдет. Он был в новом костюме, который ему, наконец, удалось сшить. Зеленовато-серый цвет домашнего сукна напоминал немецкие мундиры. Да, красноармейская форма ему не нравилась, ибо она была хлопчатобумажной, ведь Эрик в армии был рядовым бойцом и не заслужил ни одной нашивки. Это бы еще ничего. Но в новом костюме он выглядел типичным хозяйским сынком, и походка у него была медленная и вразвалку, и Мирдза чувствовала, что ее злит и новый его костюм, и сходство с хозяйским сынком, и медленная походка, и то, что Эрик идет один и ждет только ее, не вступая в разговор с другими. Он как-то отличался от веселой толпы, в которой преобладали дети бывших батраков и мелких хозяев. Но затем Мирдза подумала, что Эрик все-таки был на фронте, участвовал в боях и ранен. И ей стало жаль, что он так одинок, хотелось позвать его к себе, познакомить с Упмалисом. Но все-таки она этого не сделала, так как понимала, что он им чужой, что ему не о чем говорить с Упмалисом, и ей будет неудобно, если он промолчит все время или будет разговаривать только с нею.
— Расскажи, Мирдза, что с твоим отцом? — поинтересовался Упмалис. И Мирдза рассказала, что погиб ее брат. Упмалис долго молчал, и Мирдзе понравилось, что он молчит, не пытается утешать, не вздыхает — ведь все равно ничем уже нельзя помочь. Надо стиснуть зубы и перенести.
На коннопрокатном пункте Иван встретил гостей веселым маршем — ноги так и поднимались в такт музыке. Молодежь с шумом ринулась в зал мимо Яна Приеде, который, благодушно улыбаясь, стоял в сторонке, как радушный хозяин, пригласивший много гостей и вовсе не обижающийся, что они его не замечают.
Иван с аккордеоном тоже прошел в зал, и сразу же начались танцы: стремительная полька, так хорошо отвечавшая настроению. Танцевали почти все, и в их движениях выражалась горячая жажда радости и веселья, которая во время войны не могла проявиться, но которая жила в каждом.
— Ты ведь сегодня не будешь танцевать, — сказал Упмалис Мирдзе, словно извиняясь, но и не сомневаясь в этом. Он пригласил Зенту. Мирдза была ему благодарна за то, что он столь тактично понял ее чувства, когда ноги как будто сами по себе поднимаются в ритме польки, а сердце противится дать им волю, ибо каждое мгновение вспоминает Карлена, не дожившего до этого вечера.
Случилось так, что Эрик подошел к Мирдзе сразу же после того, как Упмалис, хорошо поняв настроение девушки, оставил ее одну и ушел танцевать с Зентой. Эрик как назло не сумел так чутко уловить настроение Мирдзы. Он схватил ее за руку, стащил с подоконника, где она сидела, и весело воскликнул:
— Пошли танцевать!
Никогда, при других обстоятельствах, Мирдзу не рассердила бы эта непринужденность, вполне естественная между молодыми людьми, объяснившимися в любви, но после того, как Упмалис счел само собой понятным, что Мирдза в этот вечер не может танцевать, приглашение Эрика ей показалось настолько грубым, даже неприличным, что она не сдержалась и, вырвав руку, сказала:
— Удивляюсь, как ты не понимаешь, что я сегодня не могу танцевать!
Слова эти, сами по себе, еще ничего не значили, но она произнесла их так, что Эрик съежился и, в нерешительности переминаясь, остался стоять там же, у окна. Быть может, ему надо было сгладить свою вину, выразить сожаление, объяснить Мирдзе, что хотел ее развлечь, но Эрик этого не сделал, и по его глазам не видно было, чтобы он понял, почему Мирдза так себя ведет. И для нее стало нестерпимым это, казалось, равнодушное молчание. Ничего не сказав, она соскочила с подоконника и выбежала в соседнюю комнату. Здесь она осталась одна, обуреваемая неясными чувствами, и лишь когда Музыка смолкла, она вернулась в зал. Тут она увидела, что Упмалис собрал вокруг себя молодежь и хочет ей что-то рассказать. Эрика Мирдза больше не видела и с облегченным сердцем устроилась на своем подоконнике, но ее заметила Зента и увлекла к себе. Упмалис говорил о войне, постепенно переходя от больших общих картин к отдельным эпизодам, рассказывал преимущественно о комсомольцах, об их героических делах и любви к родине. Он умел установить живой контакт с юношами и девушками, из которых многие были сверстниками тех, о ком шел рассказ, и теперь жалели, что не успели сделать ничего такого, чтобы и их имена также были упомянуты в истории Отечественной войны. Упмалис говорил просто, без напыщенных фраз, которые зачастую ослепляют самих рассказчиков, но не согревают слушателей. Так же просто он и закончил:
— Ну, теперь отдохнули, потанцуем еще, пока Иван в силах держать свою гармошку. Потом я вам расскажу еще что-нибудь — о вас самих.
Потом он рассказал о молодежи в тылу во время войны. Об их работе на полях и заводах. Он обратился к «ним самим» и спросил, могут ли они сказать с чистой совестью, что за эти восемь месяцев со дня освобождения от немцев они работали так много и так хорошо, что лучше и больше работать нельзя. Никто этого не мог утверждать, ибо никто ничего особенного не сделал, и теперь всем было даже стыдно, что среди них нет ни одного, проявившего геройство хотя бы в мирном труде. Но затем Упмалис успокоил слушателей, сказав, что еще не поздно, если война и кончилась, то последующие годы потребуют от народа самоотверженного труда в восстановлении и строительстве.
— А почему вам не стать героями? — спросил Упмалис, и ему ответили молчаливые вопросительные взгляды; «Да, но как же это сделать?» И он тут же объяснил: — Каждый участок поднятой и засеянной целины — это ведь то же самое, что выигранное сражение. — Он предложил сегодня же вечером организовать молодежные бригады и распределить между ними работу, чтобы завтра все знали, за что браться. Когда бригады были сформированы и избраны бригадиры, Упмалис еще посоветовал обратиться к Зенте Плауде и ознакомиться с уставом комсомола. Пусть каждый спросит себя, не хочет ли он стать членом славной семьи комсомольцев?
После всего этого бригады должны были станцевать хотя бы еще один танец — так они просили Ивана, — потом еще один, самый уж последний. Мирдза смотрела, как Зента танцует с Петером, а Упмалис с Лаймой Гаужен, которая теперь тоже была бригадиром. Ей стало грустно, она почувствовала себя одинокой. Эрика она оттолкнула, и никто другой ею не интересуется. «Конечно, у них братья не погибли, они могут танцевать и веселиться», — уличила она себя в несправедливом упреке и, сдержав слезы, снова вышла в соседнюю комнату, чтобы не смотреть на веселые лица и на танцы. Посмотрев в окно, она увидела, что над озером уже начал брезжить рассвет. Почему она здесь томится, почему не уходит? Никому она не нужна, да ей и самой здесь нечего больше делать.
Чья-то рука коснулась ее плеча, и приветливый голос сказал:
— Мирдза, ты все одна? Прости, что я тебя оставил, но надо было расшевелить ребят. Твой отец пригласил меня к себе переночевать. Ночь, правда, уже прошла, но все-таки следовало бы вздремнуть. Если ты не возражаешь, пойдем, «виллис» я оставлю здесь, в сарае.
Разумеется, Мирдза не имела ничего против того, чтобы идти домой вместе с Упмалисом. Желая избежать лишнего шума, они, ни с кем не попрощавшись, вышли на свежий утренний воздух и направились домой, прислушиваясь, как согласованно звучат их шаги, словно они оба долгое время прошагали в одном строю.
— Ну-ка, станьте на каждый конец человек по десять и давайте тягаться! — предложил он. Этого не надо было повторять. В несколько мгновений ремень был растянут во всю длину через улицу, и соревнующиеся с веселым смехом и криком потянули крепкий ремень за концы, порой чуть не падая наземь от более сильных рывков противника.
— Сделан на совесть! Выдержит! — объявил Упмалис результаты соревнования.
После этого ремень внесли в исполком, и теперь можно было бы расходиться. Но сегодня в поле все равно идти уже поздно, а майский вечер был полон дыханья весны. Все знали, что орудия замолкли, из рук смерти вырвана коса, которой она размахивала почти четыре года — и не только над полем боя, но и всюду, где орудовали немцы. Поэтому людям не хотелось расходиться по домам, они еще чего-то ждали и, разделившись на группы, беседовали, шутили и поглядывали на других, таких же говорливых и улыбающихся. Лишь один человек, с кисло сморщенным лицом, ни на кого не глядя, выбрасывая вперед трость, заковылял к своей бричке, отвязал лошадь, важно развалился в повозке и медленно поехал прочь, но вдруг, то ли вспомнив что-то неприятное, то ли вымещая досаду, согнулся крючком и хлестнул кнутом лошадь так сильно, что та вертанула хвостом и резко рванулась. Это было настолько комично, что все стоявшие на улице захохотали и смеялись, пока повозка не исчезла за поворотом.
— Густа слепень укусил! — воскликнул кто-то, и новая волна хохота прокатилась по улице.
— Разве лошадь виновата, если у самого какая-нибудь неприятность, — сказал Ян Приеде с упреком. — Ну, пойдете в имение плясать? — спросил он молодежь, окружавшую Упмалиса.
— Да! Пошли! — радостно отозвались веселые голоса.
— Пойдем все вместе, — предложил Упмалис.
Из исполкома вышли Озол и Салениек. Только теперь Упмалис заметил, насколько изменился его фронтовой товарищ с тех пор, как уехал из города.
— Ты болен? — справился он сочувственно.
— Немного устал, — ответил Озол. — Мирдза тебе все расскажет. А я поеду домой. Приходи к нам ночевать, — пригласил он.
Мирдза замялась в нерешительности. Ей хотелось идти вместе с молодежью в имение, но усталый вид отца, его бледность и серьезный взгляд напомнили, что дома осталась мать, которая сегодня весь день одна и чего только она не передумала. Словно угадав ее колебания, Озол сказал:
— Иди, Мирдза, иди. Упмалис вам что-нибудь расскажет. Вы ведь не будете только танцевать. Меня подвезет Салениек.
Он сел в повозку и уехал. Уехал и Пакалн. Люди постарше начали расходиться, а молодежь по два, по три, по четыре двинулась к имению. У Упмалиса была автомашина, он велел водителю отвезти Яна Приеде и еще кое-кого в имение, чтобы подготовили зал к приему гостей, а сам отправился пешком. Он пошел рядом с Мирдзой, желая узнать, почему так изменился отец.
Мирдза заметила среди молодежи Эрика. Он шел один, ни с кем не разговаривая, и все замедлял шаг, очевидно, ожидая, что она к нему подойдет. Он был в новом костюме, который ему, наконец, удалось сшить. Зеленовато-серый цвет домашнего сукна напоминал немецкие мундиры. Да, красноармейская форма ему не нравилась, ибо она была хлопчатобумажной, ведь Эрик в армии был рядовым бойцом и не заслужил ни одной нашивки. Это бы еще ничего. Но в новом костюме он выглядел типичным хозяйским сынком, и походка у него была медленная и вразвалку, и Мирдза чувствовала, что ее злит и новый его костюм, и сходство с хозяйским сынком, и медленная походка, и то, что Эрик идет один и ждет только ее, не вступая в разговор с другими. Он как-то отличался от веселой толпы, в которой преобладали дети бывших батраков и мелких хозяев. Но затем Мирдза подумала, что Эрик все-таки был на фронте, участвовал в боях и ранен. И ей стало жаль, что он так одинок, хотелось позвать его к себе, познакомить с Упмалисом. Но все-таки она этого не сделала, так как понимала, что он им чужой, что ему не о чем говорить с Упмалисом, и ей будет неудобно, если он промолчит все время или будет разговаривать только с нею.
— Расскажи, Мирдза, что с твоим отцом? — поинтересовался Упмалис. И Мирдза рассказала, что погиб ее брат. Упмалис долго молчал, и Мирдзе понравилось, что он молчит, не пытается утешать, не вздыхает — ведь все равно ничем уже нельзя помочь. Надо стиснуть зубы и перенести.
На коннопрокатном пункте Иван встретил гостей веселым маршем — ноги так и поднимались в такт музыке. Молодежь с шумом ринулась в зал мимо Яна Приеде, который, благодушно улыбаясь, стоял в сторонке, как радушный хозяин, пригласивший много гостей и вовсе не обижающийся, что они его не замечают.
Иван с аккордеоном тоже прошел в зал, и сразу же начались танцы: стремительная полька, так хорошо отвечавшая настроению. Танцевали почти все, и в их движениях выражалась горячая жажда радости и веселья, которая во время войны не могла проявиться, но которая жила в каждом.
— Ты ведь сегодня не будешь танцевать, — сказал Упмалис Мирдзе, словно извиняясь, но и не сомневаясь в этом. Он пригласил Зенту. Мирдза была ему благодарна за то, что он столь тактично понял ее чувства, когда ноги как будто сами по себе поднимаются в ритме польки, а сердце противится дать им волю, ибо каждое мгновение вспоминает Карлена, не дожившего до этого вечера.
Случилось так, что Эрик подошел к Мирдзе сразу же после того, как Упмалис, хорошо поняв настроение девушки, оставил ее одну и ушел танцевать с Зентой. Эрик как назло не сумел так чутко уловить настроение Мирдзы. Он схватил ее за руку, стащил с подоконника, где она сидела, и весело воскликнул:
— Пошли танцевать!
Никогда, при других обстоятельствах, Мирдзу не рассердила бы эта непринужденность, вполне естественная между молодыми людьми, объяснившимися в любви, но после того, как Упмалис счел само собой понятным, что Мирдза в этот вечер не может танцевать, приглашение Эрика ей показалось настолько грубым, даже неприличным, что она не сдержалась и, вырвав руку, сказала:
— Удивляюсь, как ты не понимаешь, что я сегодня не могу танцевать!
Слова эти, сами по себе, еще ничего не значили, но она произнесла их так, что Эрик съежился и, в нерешительности переминаясь, остался стоять там же, у окна. Быть может, ему надо было сгладить свою вину, выразить сожаление, объяснить Мирдзе, что хотел ее развлечь, но Эрик этого не сделал, и по его глазам не видно было, чтобы он понял, почему Мирдза так себя ведет. И для нее стало нестерпимым это, казалось, равнодушное молчание. Ничего не сказав, она соскочила с подоконника и выбежала в соседнюю комнату. Здесь она осталась одна, обуреваемая неясными чувствами, и лишь когда Музыка смолкла, она вернулась в зал. Тут она увидела, что Упмалис собрал вокруг себя молодежь и хочет ей что-то рассказать. Эрика Мирдза больше не видела и с облегченным сердцем устроилась на своем подоконнике, но ее заметила Зента и увлекла к себе. Упмалис говорил о войне, постепенно переходя от больших общих картин к отдельным эпизодам, рассказывал преимущественно о комсомольцах, об их героических делах и любви к родине. Он умел установить живой контакт с юношами и девушками, из которых многие были сверстниками тех, о ком шел рассказ, и теперь жалели, что не успели сделать ничего такого, чтобы и их имена также были упомянуты в истории Отечественной войны. Упмалис говорил просто, без напыщенных фраз, которые зачастую ослепляют самих рассказчиков, но не согревают слушателей. Так же просто он и закончил:
— Ну, теперь отдохнули, потанцуем еще, пока Иван в силах держать свою гармошку. Потом я вам расскажу еще что-нибудь — о вас самих.
Потом он рассказал о молодежи в тылу во время войны. Об их работе на полях и заводах. Он обратился к «ним самим» и спросил, могут ли они сказать с чистой совестью, что за эти восемь месяцев со дня освобождения от немцев они работали так много и так хорошо, что лучше и больше работать нельзя. Никто этого не мог утверждать, ибо никто ничего особенного не сделал, и теперь всем было даже стыдно, что среди них нет ни одного, проявившего геройство хотя бы в мирном труде. Но затем Упмалис успокоил слушателей, сказав, что еще не поздно, если война и кончилась, то последующие годы потребуют от народа самоотверженного труда в восстановлении и строительстве.
— А почему вам не стать героями? — спросил Упмалис, и ему ответили молчаливые вопросительные взгляды; «Да, но как же это сделать?» И он тут же объяснил: — Каждый участок поднятой и засеянной целины — это ведь то же самое, что выигранное сражение. — Он предложил сегодня же вечером организовать молодежные бригады и распределить между ними работу, чтобы завтра все знали, за что браться. Когда бригады были сформированы и избраны бригадиры, Упмалис еще посоветовал обратиться к Зенте Плауде и ознакомиться с уставом комсомола. Пусть каждый спросит себя, не хочет ли он стать членом славной семьи комсомольцев?
После всего этого бригады должны были станцевать хотя бы еще один танец — так они просили Ивана, — потом еще один, самый уж последний. Мирдза смотрела, как Зента танцует с Петером, а Упмалис с Лаймой Гаужен, которая теперь тоже была бригадиром. Ей стало грустно, она почувствовала себя одинокой. Эрика она оттолкнула, и никто другой ею не интересуется. «Конечно, у них братья не погибли, они могут танцевать и веселиться», — уличила она себя в несправедливом упреке и, сдержав слезы, снова вышла в соседнюю комнату, чтобы не смотреть на веселые лица и на танцы. Посмотрев в окно, она увидела, что над озером уже начал брезжить рассвет. Почему она здесь томится, почему не уходит? Никому она не нужна, да ей и самой здесь нечего больше делать.
Чья-то рука коснулась ее плеча, и приветливый голос сказал:
— Мирдза, ты все одна? Прости, что я тебя оставил, но надо было расшевелить ребят. Твой отец пригласил меня к себе переночевать. Ночь, правда, уже прошла, но все-таки следовало бы вздремнуть. Если ты не возражаешь, пойдем, «виллис» я оставлю здесь, в сарае.
Разумеется, Мирдза не имела ничего против того, чтобы идти домой вместе с Упмалисом. Желая избежать лишнего шума, они, ни с кем не попрощавшись, вышли на свежий утренний воздух и направились домой, прислушиваясь, как согласованно звучат их шаги, словно они оба долгое время прошагали в одном строю.
 Озол бросил трубку.
«Какое бездушие! — подумал он с горечью. — Эх, Вилис Бауска, мой боевой товарищ, разве за то мы боролись, чтобы такие болтуны теперь бездельничали на важных постах».
Что делать? Он почувствовал такую усталость, что на все хотелось махнуть рукой, ссыпать и свое зерно на платформу, уехать домой и спать, спать, спать.
Но нет, нельзя оставить поле битвы. Раз партия его поставила на боевой пост, надо быть настойчивым. Он снова заказал срочный разговор, на этот раз с укомом партии и вызвал к телефону Рендниека.
— Что мне посоветуешь делать? — спросил Озол, окончив свой рассказ.
— Очень просто: если они не откроют добром, нужно открыть или взломать, — ответил Рендниек, не долго думая. — Я немедленно позвоню этим горе-кооператорам и скажу, что это мое распоряжение. Они считают, что покушаются на их священную собственность! Подумаешь, какое государство в государстве!
Озол с облегчением повесил трубку. Он не один на своем посту, вместе с ним партия — она чутко откликается на каждый сигнал. Вместе с такими людьми можно воевать. Мы еще повоюем!
Когда Озол опять подошел к кооперативу, навстречу с кислыми лицами вышли председатель и еще некоторые правленцы. Они зло посмотрели на Озола и направились к складу.
«Ничего, перенесете, — улыбнулся Озол. — Вас не обидели ни на волосок».
Он сел к Рикуру в повозку, и они быстрой рысцой проехали к пункту, чтобы сказать подводчикам — пусть подтягиваются к складу.
— Ишь ты, какой настойчивый, — заметил парторг соседней волости Целминь, узнав о победе Озола. — Но говорят, что острый топор быстро тупится! Можешь еще нарваться на таких, у которых найдутся защитники в высших учреждениях.
— И тогда? — спросил Озол.
— И тогда ты полетишь с места.
— Жалок человек, который, боясь за свое место, не решается бороться за справедливость, — резко ответил Озол.
— Могут исключить из партии, — подкрепил Целминь свои доводы.
— За справедливый поступок из партии не исключают. А шкурников партия не терпит.
Тем временем открыли склад, но его еще надо было подмести. Когда подводчики опорожнили свои мешки, уже наступил вечер.
— Ну, досталось вам, — как бы извиняясь, сказал Озол крестьянам, когда все собирались уезжать.
— Денек пропал, — ответил Пакалн, — зато не надо будет еще раз ездить. Я зерно ни за что на землю не стал бы сыпать. Пусть хоть в тюрьму сажают. Но если бы тебя не было, склада так и не получили бы. Как это может так быть, что два советских учреждения не уступают друг другу?
— Всякие бывают люди, — устало ответил Озол. Ему не хотелось говорить. После сегодняшнего нервного напряжения им овладела слабость, как после продолжительного, ожесточенного боя, когда хотелось упасть на камень, в сугроб или даже в лужу, и сразу же уснуть. Он сел на повозку и предоставил лошади самой идти в веренице телег.
Когда Озол вернулся, было уже совсем темно. Ольга вышла ему навстречу и помогла распрячь лошадь.
— К Мирдзе гостья приехала, — сообщила она, — Эльза. У Зенты она теперь остановиться не может, так переночует у нас.
Озол приезду Эльзы и радовался, и не радовался. Хотя он в пути немного вздремнул, усталость все же не прошла. Она тянула в постель, а теперь опять надо будет беседовать, выслушивать всякие новости и рассказывать самому.
Он зашел в кухню умыться. Холодная вода освежила. Но все тело требовало прохлады. Сняв рубашку, он принялся тереть грудь и спину. Не будь ночь и поздняя осень, пошел бы к озеру искупаться.
— Что ты скребешь себя, словно после молотьбы в риге? — удивилась Ольга.
— Молотьба в риге — это сравнительно чистая работа, — ответил Озол, оставив женув неведении о том, что он хотел этим сказать.
Эльза приехала одна. Маленького Вилиса она оставила на попечении тетки. Эльза передала привет от Зенты, она быстро поправляется. Но после тяжелого ранения ей нужен будет длительный отдых. Поэтому Мирдзе придется взять на себя обязанности комсорга волости. Быть может, даже на продолжительное время; Зенте легче будет заведовать Народным домом.
— От Мирдзы в последнее время тоже помощи мало, — заметил Озол без улыбки. — Оставила меня почти что одного.
— Разве молодежные бригады мало сделали этим летом? — возразила Мирдза.
— Работали, никто этого не отрицает, но об идейном воспитании молодежи ты могла бы больше подумать, — упрекнул отец.
— Как? В каждую свободную минуту мы читали газеты, обсуждали прочитанные книги, намечали, какие еще надо прочитать, — защищалась Мирдза.
— Но вот ребята на коннопрокатном пункте занялись пьянством, до этого тебе, разумеется, дела нет! Они, должно быть, живут в другой республике? — Озол сам чувствовал, что его тон становится придирчивым.
— Впервые слышу об этом, — удивилась Мирдза.
— Потому что за версту обходила коннопрокатный пункт. Лучше признайся, ты думала, если отец парторг, то пусть и отвечает за все, что в волости происходит? И за комсомольскую организацию в том числе? — не унимался Озол.
— Папа, я так не думала, — Мирдза с изумлением посмотрела на отца. — Но ты мог мне сказать это раньше… и по-другому. Возможно, я надеялась на тебя, ждала, что ты подскажешь, на что я должна обратить внимание. Но это, вероятно, я делала несознательно.
— Возможно, возможно, — Озол подавил досаду. — Только ты не можешь себе представить, как это тяжело… одному за все отвечать. Извините меня, уж лучше я пойду спать. Наверное, старею, — он устало улыбнулся и ушел в свою комнату.
— Что с ним произошло? — удивлялась Мирдза, вопросительно глядя на Эльзу.
— Наверно, пережил сегодня что-нибудь неприятное, — предположила Эльза. — Тебе не следует на него обижаться. Каждый ведь только человек. Я помню, каким Вилис иногда приходил домой. В иные вечера с ним нельзя было словом обмолвиться. А на завтра он сердился на себя, что дал разыграться плохому настроению.
— Я ведь не обижаюсь, мне только жаль отца, — сказала Мирдза. — Откровенно говоря, я уже больше не та «неугомонная Мирдза», которая в прошлую осень проверяла сарай Ирмы Думинь. Ты помнишь? Теперь я бы над этим призадумалась. И в самом деле, иногда жду, чтобы папа подсказал и посоветовал, что делать.
— А что с ребятами на коннопрокатном пункте? Ты их не знаешь? — спросила Эльза.
— Дело в том, что все они не здешние. О пьянстве я не знала, завтра спрошу у отца. До сих пор они держались от нас как-то особняком. Вот недавно был такой случай. Мы помогали одному новохозяину убирать рожь. В обеденный перерыв уселись на опушке рощи и стали читать газету. Вдруг из кустов в нас полетели шишки и комья земли, раздались смех и выкрики. Мы сразу поняли, что это ребята с коннопрокатного пункта. Наши хотели проучить их, да я отговорила. Мы сделали вид, что не заметили озорства.
— Это, очевидно, было своеобразной попыткой с вами познакомиться, — решила Эльза. — Но вы были горды, и поэтому ничего у них не получилось. Раз они пришлые, то вы должны были навестить их первыми.
— С чего теперь начать? — раздумывала Мирдза.
— Мне кажется, следовало бы начать с самодеятельности, — посоветовала Эльза. — Почти нет таких парней или девушек, которым не захотелось бы петь, играть, танцевать или как-нибудь иначе проявить себя. Разумеется, нельзя пойти и официально спросить: желаете петь, желаете декламировать? Сперва познакомься, заручись доверием, хотя бы кое-кого из них, тогда будет легче начать беседу.
На следующий день, как только Озол пришел в исполком, Ванаг сообщил ему неприятную новость. Возчик, отвозивший на заготовительный пункт в соседнюю волость масло в счет поставок, один кусок привез обратно, так как приемщики нашли, что в нем под свежим верхним слоем было не то уже заплесневевшее масло, не то творог. Об этом составили акт, а масло вернули.
— И неизвестно, кто сдал этот кусок? — спросил Озол.
— Лайвинь, конечно, не знает, — Ванаг насмешливо улыбнулся. — Но у меня такое подозрение, что он во всем потакает кулакам и старается прикрывать все их проделки.
Под впечатлением вчерашних событий, Озолом овладела злость. Куда ни глянешь — всюду приходится сталкиваться с подлостью, халатностью и просто свинством. Во время войны все было гораздо яснее, ты знал: перед тобой противник, но кругом друзья, у которых, как и у тебя, одна мысль, одно желание — скорее разбить врага. А здесь порою не знаешь, кто друг, кто враг.
«Так ли это?» — вдруг с него будто скатилась какая-то тяжесть. — «Так ли это?» — еще раз переспросил он себя и улыбнулся, вспомнив, как он вчера спорил с крестьянами и доказывал, что хорошего гораздо больше, чем плохого.
Но с Паулем Лайвинем надо говорить. Надо говорить строго, как вчера с этими волокитчиками и бюрократами. Нельзя терпеть, чтобы делом заготовок руководили преступники. Вообще от этого Лайвиня надо освободиться. Дурная слава сопутствует всей семье. Отец уже издавна известен как вор, даже несколько раз был осужден. Брата застрелили как бандита. Пауль, правда, в их темных похождениях как будто не замешан, но грязные дела отца и брата бросают тень и на него. Кто станет доверять человеку, у которого отец — вор, а брат — грабитель, и сам он к тому же враждебно относится к советскому строю, пьянствует, до сих пор не мог удержаться ни на одном месте и менял одну случайную работу на другую.
Озолу вспомнился случай, когда Ванаг принимал дела волости. Он тогда прямо-таки кипел от негодования и кричал так, что стены дрожали. А Лайвинь испуганно копался на полу в своих бумагах, но вины своей все же не признавал.
«Нет, я не стану на него кричать», — решил Озол, надевая кепку и направляясь к Лайвиню. — Сердиться можно на человека, который умеет работать, но не желает. Быть может, Лайвинь не умеет работать. А разве его кто-нибудь учил или хотя бы по-человечески побеседовал с ним, подошел к нему, как к товарищу? Ванаг тогда накричал и с тех пор разговаривает с ним только в пренебрежительном тоне. Да и сам он говорил с ним только официальным языком, с известной неприязнью, никогда не интересовался, как человек справляется с работой, в каком вращается обществе.
Озол застал Лайвиня дома. Он только что встал и еще не успел одеться.
— Удивительно, что в такую горячую пору вы так поздно спите, — начал Озол.
— Я ведь не медведь и не могу зимой выспаться на весь год, — пробурчал Лайвинь.
— У вас вчера был неприятный случай, — Озол приступил к делу, не обращая внимания на плохое настроение парня. — Вам испорченное масло подсунули.
— Разве я могу в каждый кусок влезть? — последовал ответ.
— Все-таки надо проверять. Такие вещи бросают тень на всю волость. И также на вас, — добавил Озол, не дожидаясь ответа.
Лайвинь вздрогнул, но сдержался и стоял перед Озолом, готовый к словесному поединку.
— Присядем, — предложил Озол.
— Разве в такую горячую пору есть время сидеть? — съязвил Пауль.
— Давайте уж сегодня время найдем, — спокойно ответил Озол, усевшись. — Хочется с вами поговорить.
— Если вы собираетесь меня прогнать, то скажите прямо! — вдруг вскипел Лайвинь.
— Какой вы странный! — улыбнулся Озол. — Ощетинился, словно еж. Я пришел говорить не об увольнении. Хочу, чтобы вы начали работать по-настоящему, по-советски.
— Работаю, как умею, — отрезал Лайвинь.
— Но вы могли бы работать лучше, — быстро добавил Озол и, не давая Лайвиню снова бросить какую-нибудь колкость, продолжал: — Вы молодой человек, и у вас есть все возможности добиться в жизни достойного места. Надо лишь захотеть.
— Одного хотенья мало, — Лайвинь безнадежно махнул рукой.
— Если вам нужна помощь, то можете рассчитывать на меня, — просто сказал Озол.
Лайвинь недоверчиво посмотрел на парторга, затем на его лице мелькнуло нечто вроде надежды, которую опять сменило выражение отчаяния.
— Скажите, что вам больше всего мешает в вашей жизни и работе? — спросил Озол.
Лайвинь долго молчал, низко опустив голову.
— Что мне мешает? — заговорил он наконец, — Да, что мне мешает? Почему вы спрашиваете? Вы ведь не чужой в этих краях.
— Я хочу, чтобы вы были со мной откровенны, — объяснил Озол.
— Вы хотите… Ну, ладно, если вы хотите, я скажу. Кто я? Сын вора и брат бандита, — голос Лайвиня оборвался.
— Вы собирались рассказать о себе, а вовсе не о семье, — напомнил Озол. — Семья — семьей, но я пришел говорить с Паулем Лайвинем. Я хотел бы, например, знать, почему вы, совсем еще молодой человек, так пьянствуете?
— Эх, не стоило бы об этом говорить! — Лайвинь вскочил и зашагал по комнате. — Впервые я напился, когда мне было двенадцать лет. Отца осудили за воровство, и в школе меня начали дразнить конокрадом. Все мальчишки пальцем тыкали. Как-то у одного из них пропал нож, и учитель приказал мне вывернуть карманы. Никому другому — только мне. Ножа, конечно, не нашли, я его не брал. Но в тот вечер я выпил бутылочку водки, которую мать оставила на столе для втирания.
— И с тех пор продолжали? — тихо спросил Озол.
— Нет. Не продолжал. Началось позже. Ну, откровенно говоря, я влюбился. И девушка эта в меня — тоже. Но ее мать сказала, что скорее повесится, чем отдаст дочь за вора. Так все и расстроилось. Но я ведь не вор! — вдруг закричал он. — Я даже иголки не украл! Сколько мы с матерью перестрадали из-за отца, этого рассказать нельзя. Рудис на все махнул рукой и рассуждал примерно так: если уж меня называют вором, то мне надо красть. Как ни мерзко это, но я рад, что его застрелили. Вся эта его дружба с бандитами, которая потом раскрылась…
— Но разве поэтому тебе нужно испортить свою жизнь? — незаметно для себя Озол обратился к нему на «ты».
— Моя жизнь уже испорчена, — простонал Лайвинь. — Об этом позаботились мои близкие. Проклятье! Удивляюсь, как я не стал отцеубийцей!
— Ну, ну, ты не воспринимай все это так трагично, — успокаивал Озол. — Видишь, люди на это не так смотрят. Тебе доверили важную работу.
— А вы думаете, я не знаю, почему меня туда поставили? — усмехнулся Лайвинь. — В первую осень не каждый соглашался работать в советском учреждении. Говорили, что немцы вернутся, и кто-то, возможно издеваясь, указал на меня.
— Как это? — не понял Озол.
— Очень просто, чтобы все пальцами указывали, вон, мол, какие у них работники!
— Ты слишком мнителен, — упрекнул Озол. — Если у тебя совесть чиста, то бодро шагай по жизни и не мучь себя. Чего ты боишься — теней? Трудись честно, и я уверен, что ты вырастешь в своих глазах и в глазах людей! — Озол протянул ему обе руки.
Лайвинь не решался пожать их.
— Лучше бы вы меня прогнали, — пробормотал он, отворачиваясь. — Я не работал честно. Кроме того, я совсем мало учился. Когда Ванаг потребовал от меня отчет, то я бросил наземь бумаги только потому, что не умел его составить. Но мне было стыдно признаться в этом.
— А теперь научился? — спросил Озол.
— Кое-как научился.
— Потом посмотрим. Но, насколько я заметил, ты допускаешь другие ошибки, — Озол пытался говорить осторожно. — Вот этот же случай с маслом. Так доверяться нельзя. Как ты теперь узнаешь, кому его не зачесть в сданную норму? Это во-первых. А во-вторых, не слишком ли ты мягок с богатеями? Верно ли, что ты им разрешаешь сдавать вместо хлеба другие культуры?
Лайвинь молчал.
— Значит, были такие случаи?
— Они приходят и ноют, что мало засеяли ржи и пшеницы, — жаловался Лайвинь.
— Быть может, и в самом деле мало засеяли? — Озол пытливо посмотрел на Пауля.
— Не толкайте меня на новую ложь! — Лайвинь сердито сморщил лоб. — Если бы у них не было ржи, то из чего бы они гнали это мерзкое пойло?
— Тогда чем же объяснить твою мягкость с ними, в то время как из других крестьян ты грозишься все соки выжать? — на этот раз Озол говорил резко, даже с некоторой досадой.
Лайвинь густо покраснел и пробормотал:
— Значит, вам все известно…
— Что все?
— Ну, не только то, что я кое у кого принимаю вместо хлеба овес, а кое-кому угрожаю, но что находятся люди, которые еще обрабатывают по шестьдесят-семьдесят гектаров, а сдают поставки лишь с тридцати! — проговорил Лайвинь, вызывающе вскинув голову.
— Нет, этого я не знал. — Озол был поражен. — Разве они это делают с твоего благословения?
— Нет, без моего благословения. Впрочем, вы ведь мне не поверите. В ваших глазах я снова буду сыном человека, который…
— Оставьте ваших родственников, — раздраженно прервал его Озол. — Это уже начинает походить на кокетство! Лучше скажите, что заставляет вас симпатизировать кулакам? — он снова перешел на «вы».
— Если я скажу правду, вы снова назовете это кокетством, — сморщился Лайвинь.
— Да перестань обижаться, — улыбнулся Озол. — Я ведь тоже не солнце, которое одинаково светит правым и виноватым!
— Нет, нет, какое я имею право обижаться, — поторопился Лайвинь исправить свою ошибку. — Я рад, что вы вообще разговариваете со мной, как… ну, как с человеком. Но вы, может быть, не знаете, как заискивающе и любезно говорят со мной кулаки. И тогда мне просто… нравится, что они меня кое-кем считают. Но с теми, кто, увидев меня, спешит убрать со стола все, что легко унести, я попросту груб.
Они разговаривали еще долго, пока Озол не убедился — строптивый парень излил свою душу, понял, что ему брошен спасательный круг, держась за который, он сможет выплыть из мутного потока и прибиться к берегу.
Расставаясь, Озол пожал Лайвиню руку и спросил:
— А как с пьянством? Договоримся, что больше не будешь? Но если чувствуешь, что не сможешь выдержать, то лучше не обещай.
— Я уже давеча дал себе слово, что не буду пить, — признался Лайвинь. — Если я другому обещаю, то иногда не выполняю из упрямства, а если обещаю самому себе, то скорее руку свою отрублю, чем нарушу слово.
— Тогда мне не обещай, — улыбнулся Озол и еще раз простился.
Озол бросил трубку.
«Какое бездушие! — подумал он с горечью. — Эх, Вилис Бауска, мой боевой товарищ, разве за то мы боролись, чтобы такие болтуны теперь бездельничали на важных постах».
Что делать? Он почувствовал такую усталость, что на все хотелось махнуть рукой, ссыпать и свое зерно на платформу, уехать домой и спать, спать, спать.
Но нет, нельзя оставить поле битвы. Раз партия его поставила на боевой пост, надо быть настойчивым. Он снова заказал срочный разговор, на этот раз с укомом партии и вызвал к телефону Рендниека.
— Что мне посоветуешь делать? — спросил Озол, окончив свой рассказ.
— Очень просто: если они не откроют добром, нужно открыть или взломать, — ответил Рендниек, не долго думая. — Я немедленно позвоню этим горе-кооператорам и скажу, что это мое распоряжение. Они считают, что покушаются на их священную собственность! Подумаешь, какое государство в государстве!
Озол с облегчением повесил трубку. Он не один на своем посту, вместе с ним партия — она чутко откликается на каждый сигнал. Вместе с такими людьми можно воевать. Мы еще повоюем!
Когда Озол опять подошел к кооперативу, навстречу с кислыми лицами вышли председатель и еще некоторые правленцы. Они зло посмотрели на Озола и направились к складу.
«Ничего, перенесете, — улыбнулся Озол. — Вас не обидели ни на волосок».
Он сел к Рикуру в повозку, и они быстрой рысцой проехали к пункту, чтобы сказать подводчикам — пусть подтягиваются к складу.
— Ишь ты, какой настойчивый, — заметил парторг соседней волости Целминь, узнав о победе Озола. — Но говорят, что острый топор быстро тупится! Можешь еще нарваться на таких, у которых найдутся защитники в высших учреждениях.
— И тогда? — спросил Озол.
— И тогда ты полетишь с места.
— Жалок человек, который, боясь за свое место, не решается бороться за справедливость, — резко ответил Озол.
— Могут исключить из партии, — подкрепил Целминь свои доводы.
— За справедливый поступок из партии не исключают. А шкурников партия не терпит.
Тем временем открыли склад, но его еще надо было подмести. Когда подводчики опорожнили свои мешки, уже наступил вечер.
— Ну, досталось вам, — как бы извиняясь, сказал Озол крестьянам, когда все собирались уезжать.
— Денек пропал, — ответил Пакалн, — зато не надо будет еще раз ездить. Я зерно ни за что на землю не стал бы сыпать. Пусть хоть в тюрьму сажают. Но если бы тебя не было, склада так и не получили бы. Как это может так быть, что два советских учреждения не уступают друг другу?
— Всякие бывают люди, — устало ответил Озол. Ему не хотелось говорить. После сегодняшнего нервного напряжения им овладела слабость, как после продолжительного, ожесточенного боя, когда хотелось упасть на камень, в сугроб или даже в лужу, и сразу же уснуть. Он сел на повозку и предоставил лошади самой идти в веренице телег.
Когда Озол вернулся, было уже совсем темно. Ольга вышла ему навстречу и помогла распрячь лошадь.
— К Мирдзе гостья приехала, — сообщила она, — Эльза. У Зенты она теперь остановиться не может, так переночует у нас.
Озол приезду Эльзы и радовался, и не радовался. Хотя он в пути немного вздремнул, усталость все же не прошла. Она тянула в постель, а теперь опять надо будет беседовать, выслушивать всякие новости и рассказывать самому.
Он зашел в кухню умыться. Холодная вода освежила. Но все тело требовало прохлады. Сняв рубашку, он принялся тереть грудь и спину. Не будь ночь и поздняя осень, пошел бы к озеру искупаться.
— Что ты скребешь себя, словно после молотьбы в риге? — удивилась Ольга.
— Молотьба в риге — это сравнительно чистая работа, — ответил Озол, оставив женув неведении о том, что он хотел этим сказать.
Эльза приехала одна. Маленького Вилиса она оставила на попечении тетки. Эльза передала привет от Зенты, она быстро поправляется. Но после тяжелого ранения ей нужен будет длительный отдых. Поэтому Мирдзе придется взять на себя обязанности комсорга волости. Быть может, даже на продолжительное время; Зенте легче будет заведовать Народным домом.
— От Мирдзы в последнее время тоже помощи мало, — заметил Озол без улыбки. — Оставила меня почти что одного.
— Разве молодежные бригады мало сделали этим летом? — возразила Мирдза.
— Работали, никто этого не отрицает, но об идейном воспитании молодежи ты могла бы больше подумать, — упрекнул отец.
— Как? В каждую свободную минуту мы читали газеты, обсуждали прочитанные книги, намечали, какие еще надо прочитать, — защищалась Мирдза.
— Но вот ребята на коннопрокатном пункте занялись пьянством, до этого тебе, разумеется, дела нет! Они, должно быть, живут в другой республике? — Озол сам чувствовал, что его тон становится придирчивым.
— Впервые слышу об этом, — удивилась Мирдза.
— Потому что за версту обходила коннопрокатный пункт. Лучше признайся, ты думала, если отец парторг, то пусть и отвечает за все, что в волости происходит? И за комсомольскую организацию в том числе? — не унимался Озол.
— Папа, я так не думала, — Мирдза с изумлением посмотрела на отца. — Но ты мог мне сказать это раньше… и по-другому. Возможно, я надеялась на тебя, ждала, что ты подскажешь, на что я должна обратить внимание. Но это, вероятно, я делала несознательно.
— Возможно, возможно, — Озол подавил досаду. — Только ты не можешь себе представить, как это тяжело… одному за все отвечать. Извините меня, уж лучше я пойду спать. Наверное, старею, — он устало улыбнулся и ушел в свою комнату.
— Что с ним произошло? — удивлялась Мирдза, вопросительно глядя на Эльзу.
— Наверно, пережил сегодня что-нибудь неприятное, — предположила Эльза. — Тебе не следует на него обижаться. Каждый ведь только человек. Я помню, каким Вилис иногда приходил домой. В иные вечера с ним нельзя было словом обмолвиться. А на завтра он сердился на себя, что дал разыграться плохому настроению.
— Я ведь не обижаюсь, мне только жаль отца, — сказала Мирдза. — Откровенно говоря, я уже больше не та «неугомонная Мирдза», которая в прошлую осень проверяла сарай Ирмы Думинь. Ты помнишь? Теперь я бы над этим призадумалась. И в самом деле, иногда жду, чтобы папа подсказал и посоветовал, что делать.
— А что с ребятами на коннопрокатном пункте? Ты их не знаешь? — спросила Эльза.
— Дело в том, что все они не здешние. О пьянстве я не знала, завтра спрошу у отца. До сих пор они держались от нас как-то особняком. Вот недавно был такой случай. Мы помогали одному новохозяину убирать рожь. В обеденный перерыв уселись на опушке рощи и стали читать газету. Вдруг из кустов в нас полетели шишки и комья земли, раздались смех и выкрики. Мы сразу поняли, что это ребята с коннопрокатного пункта. Наши хотели проучить их, да я отговорила. Мы сделали вид, что не заметили озорства.
— Это, очевидно, было своеобразной попыткой с вами познакомиться, — решила Эльза. — Но вы были горды, и поэтому ничего у них не получилось. Раз они пришлые, то вы должны были навестить их первыми.
— С чего теперь начать? — раздумывала Мирдза.
— Мне кажется, следовало бы начать с самодеятельности, — посоветовала Эльза. — Почти нет таких парней или девушек, которым не захотелось бы петь, играть, танцевать или как-нибудь иначе проявить себя. Разумеется, нельзя пойти и официально спросить: желаете петь, желаете декламировать? Сперва познакомься, заручись доверием, хотя бы кое-кого из них, тогда будет легче начать беседу.
На следующий день, как только Озол пришел в исполком, Ванаг сообщил ему неприятную новость. Возчик, отвозивший на заготовительный пункт в соседнюю волость масло в счет поставок, один кусок привез обратно, так как приемщики нашли, что в нем под свежим верхним слоем было не то уже заплесневевшее масло, не то творог. Об этом составили акт, а масло вернули.
— И неизвестно, кто сдал этот кусок? — спросил Озол.
— Лайвинь, конечно, не знает, — Ванаг насмешливо улыбнулся. — Но у меня такое подозрение, что он во всем потакает кулакам и старается прикрывать все их проделки.
Под впечатлением вчерашних событий, Озолом овладела злость. Куда ни глянешь — всюду приходится сталкиваться с подлостью, халатностью и просто свинством. Во время войны все было гораздо яснее, ты знал: перед тобой противник, но кругом друзья, у которых, как и у тебя, одна мысль, одно желание — скорее разбить врага. А здесь порою не знаешь, кто друг, кто враг.
«Так ли это?» — вдруг с него будто скатилась какая-то тяжесть. — «Так ли это?» — еще раз переспросил он себя и улыбнулся, вспомнив, как он вчера спорил с крестьянами и доказывал, что хорошего гораздо больше, чем плохого.
Но с Паулем Лайвинем надо говорить. Надо говорить строго, как вчера с этими волокитчиками и бюрократами. Нельзя терпеть, чтобы делом заготовок руководили преступники. Вообще от этого Лайвиня надо освободиться. Дурная слава сопутствует всей семье. Отец уже издавна известен как вор, даже несколько раз был осужден. Брата застрелили как бандита. Пауль, правда, в их темных похождениях как будто не замешан, но грязные дела отца и брата бросают тень и на него. Кто станет доверять человеку, у которого отец — вор, а брат — грабитель, и сам он к тому же враждебно относится к советскому строю, пьянствует, до сих пор не мог удержаться ни на одном месте и менял одну случайную работу на другую.
Озолу вспомнился случай, когда Ванаг принимал дела волости. Он тогда прямо-таки кипел от негодования и кричал так, что стены дрожали. А Лайвинь испуганно копался на полу в своих бумагах, но вины своей все же не признавал.
«Нет, я не стану на него кричать», — решил Озол, надевая кепку и направляясь к Лайвиню. — Сердиться можно на человека, который умеет работать, но не желает. Быть может, Лайвинь не умеет работать. А разве его кто-нибудь учил или хотя бы по-человечески побеседовал с ним, подошел к нему, как к товарищу? Ванаг тогда накричал и с тех пор разговаривает с ним только в пренебрежительном тоне. Да и сам он говорил с ним только официальным языком, с известной неприязнью, никогда не интересовался, как человек справляется с работой, в каком вращается обществе.
Озол застал Лайвиня дома. Он только что встал и еще не успел одеться.
— Удивительно, что в такую горячую пору вы так поздно спите, — начал Озол.
— Я ведь не медведь и не могу зимой выспаться на весь год, — пробурчал Лайвинь.
— У вас вчера был неприятный случай, — Озол приступил к делу, не обращая внимания на плохое настроение парня. — Вам испорченное масло подсунули.
— Разве я могу в каждый кусок влезть? — последовал ответ.
— Все-таки надо проверять. Такие вещи бросают тень на всю волость. И также на вас, — добавил Озол, не дожидаясь ответа.
Лайвинь вздрогнул, но сдержался и стоял перед Озолом, готовый к словесному поединку.
— Присядем, — предложил Озол.
— Разве в такую горячую пору есть время сидеть? — съязвил Пауль.
— Давайте уж сегодня время найдем, — спокойно ответил Озол, усевшись. — Хочется с вами поговорить.
— Если вы собираетесь меня прогнать, то скажите прямо! — вдруг вскипел Лайвинь.
— Какой вы странный! — улыбнулся Озол. — Ощетинился, словно еж. Я пришел говорить не об увольнении. Хочу, чтобы вы начали работать по-настоящему, по-советски.
— Работаю, как умею, — отрезал Лайвинь.
— Но вы могли бы работать лучше, — быстро добавил Озол и, не давая Лайвиню снова бросить какую-нибудь колкость, продолжал: — Вы молодой человек, и у вас есть все возможности добиться в жизни достойного места. Надо лишь захотеть.
— Одного хотенья мало, — Лайвинь безнадежно махнул рукой.
— Если вам нужна помощь, то можете рассчитывать на меня, — просто сказал Озол.
Лайвинь недоверчиво посмотрел на парторга, затем на его лице мелькнуло нечто вроде надежды, которую опять сменило выражение отчаяния.
— Скажите, что вам больше всего мешает в вашей жизни и работе? — спросил Озол.
Лайвинь долго молчал, низко опустив голову.
— Что мне мешает? — заговорил он наконец, — Да, что мне мешает? Почему вы спрашиваете? Вы ведь не чужой в этих краях.
— Я хочу, чтобы вы были со мной откровенны, — объяснил Озол.
— Вы хотите… Ну, ладно, если вы хотите, я скажу. Кто я? Сын вора и брат бандита, — голос Лайвиня оборвался.
— Вы собирались рассказать о себе, а вовсе не о семье, — напомнил Озол. — Семья — семьей, но я пришел говорить с Паулем Лайвинем. Я хотел бы, например, знать, почему вы, совсем еще молодой человек, так пьянствуете?
— Эх, не стоило бы об этом говорить! — Лайвинь вскочил и зашагал по комнате. — Впервые я напился, когда мне было двенадцать лет. Отца осудили за воровство, и в школе меня начали дразнить конокрадом. Все мальчишки пальцем тыкали. Как-то у одного из них пропал нож, и учитель приказал мне вывернуть карманы. Никому другому — только мне. Ножа, конечно, не нашли, я его не брал. Но в тот вечер я выпил бутылочку водки, которую мать оставила на столе для втирания.
— И с тех пор продолжали? — тихо спросил Озол.
— Нет. Не продолжал. Началось позже. Ну, откровенно говоря, я влюбился. И девушка эта в меня — тоже. Но ее мать сказала, что скорее повесится, чем отдаст дочь за вора. Так все и расстроилось. Но я ведь не вор! — вдруг закричал он. — Я даже иголки не украл! Сколько мы с матерью перестрадали из-за отца, этого рассказать нельзя. Рудис на все махнул рукой и рассуждал примерно так: если уж меня называют вором, то мне надо красть. Как ни мерзко это, но я рад, что его застрелили. Вся эта его дружба с бандитами, которая потом раскрылась…
— Но разве поэтому тебе нужно испортить свою жизнь? — незаметно для себя Озол обратился к нему на «ты».
— Моя жизнь уже испорчена, — простонал Лайвинь. — Об этом позаботились мои близкие. Проклятье! Удивляюсь, как я не стал отцеубийцей!
— Ну, ну, ты не воспринимай все это так трагично, — успокаивал Озол. — Видишь, люди на это не так смотрят. Тебе доверили важную работу.
— А вы думаете, я не знаю, почему меня туда поставили? — усмехнулся Лайвинь. — В первую осень не каждый соглашался работать в советском учреждении. Говорили, что немцы вернутся, и кто-то, возможно издеваясь, указал на меня.
— Как это? — не понял Озол.
— Очень просто, чтобы все пальцами указывали, вон, мол, какие у них работники!
— Ты слишком мнителен, — упрекнул Озол. — Если у тебя совесть чиста, то бодро шагай по жизни и не мучь себя. Чего ты боишься — теней? Трудись честно, и я уверен, что ты вырастешь в своих глазах и в глазах людей! — Озол протянул ему обе руки.
Лайвинь не решался пожать их.
— Лучше бы вы меня прогнали, — пробормотал он, отворачиваясь. — Я не работал честно. Кроме того, я совсем мало учился. Когда Ванаг потребовал от меня отчет, то я бросил наземь бумаги только потому, что не умел его составить. Но мне было стыдно признаться в этом.
— А теперь научился? — спросил Озол.
— Кое-как научился.
— Потом посмотрим. Но, насколько я заметил, ты допускаешь другие ошибки, — Озол пытался говорить осторожно. — Вот этот же случай с маслом. Так доверяться нельзя. Как ты теперь узнаешь, кому его не зачесть в сданную норму? Это во-первых. А во-вторых, не слишком ли ты мягок с богатеями? Верно ли, что ты им разрешаешь сдавать вместо хлеба другие культуры?
Лайвинь молчал.
— Значит, были такие случаи?
— Они приходят и ноют, что мало засеяли ржи и пшеницы, — жаловался Лайвинь.
— Быть может, и в самом деле мало засеяли? — Озол пытливо посмотрел на Пауля.
— Не толкайте меня на новую ложь! — Лайвинь сердито сморщил лоб. — Если бы у них не было ржи, то из чего бы они гнали это мерзкое пойло?
— Тогда чем же объяснить твою мягкость с ними, в то время как из других крестьян ты грозишься все соки выжать? — на этот раз Озол говорил резко, даже с некоторой досадой.
Лайвинь густо покраснел и пробормотал:
— Значит, вам все известно…
— Что все?
— Ну, не только то, что я кое у кого принимаю вместо хлеба овес, а кое-кому угрожаю, но что находятся люди, которые еще обрабатывают по шестьдесят-семьдесят гектаров, а сдают поставки лишь с тридцати! — проговорил Лайвинь, вызывающе вскинув голову.
— Нет, этого я не знал. — Озол был поражен. — Разве они это делают с твоего благословения?
— Нет, без моего благословения. Впрочем, вы ведь мне не поверите. В ваших глазах я снова буду сыном человека, который…
— Оставьте ваших родственников, — раздраженно прервал его Озол. — Это уже начинает походить на кокетство! Лучше скажите, что заставляет вас симпатизировать кулакам? — он снова перешел на «вы».
— Если я скажу правду, вы снова назовете это кокетством, — сморщился Лайвинь.
— Да перестань обижаться, — улыбнулся Озол. — Я ведь тоже не солнце, которое одинаково светит правым и виноватым!
— Нет, нет, какое я имею право обижаться, — поторопился Лайвинь исправить свою ошибку. — Я рад, что вы вообще разговариваете со мной, как… ну, как с человеком. Но вы, может быть, не знаете, как заискивающе и любезно говорят со мной кулаки. И тогда мне просто… нравится, что они меня кое-кем считают. Но с теми, кто, увидев меня, спешит убрать со стола все, что легко унести, я попросту груб.
Они разговаривали еще долго, пока Озол не убедился — строптивый парень излил свою душу, понял, что ему брошен спасательный круг, держась за который, он сможет выплыть из мутного потока и прибиться к берегу.
Расставаясь, Озол пожал Лайвиню руку и спросил:
— А как с пьянством? Договоримся, что больше не будешь? Но если чувствуешь, что не сможешь выдержать, то лучше не обещай.
— Я уже давеча дал себе слово, что не буду пить, — признался Лайвинь. — Если я другому обещаю, то иногда не выполняю из упрямства, а если обещаю самому себе, то скорее руку свою отрублю, чем нарушу слово.
— Тогда мне не обещай, — улыбнулся Озол и еще раз простился.
 — Тебе надо было иначе уложить волосы, — вдруг нарушила Мирдза тишину и, не давая наступить молчанию, продолжала: — Посмотри в зеркало — когда ты опускаешь локоны книзу, лицо становится шире. Попробуем иначе, мне кажется, тебе надо на лбу зачесать волосы кверху, а на затылке — спустить книзу. Вот так, — она взяла из рук смутившейся девушки гребенку и начала орудовать над ее прической.
Остальные с любопытством следили за Мирдзой, и она поняла, что в дальнейшем их отношения зависят от того, насколько ей удастся показать ловкость в парикмахерском искусстве, в котором у нее не было почти никакого опыта, так как ее собственные волнистые волосы не требовали применения бумажек. При помощи шпилек Мирдзе удалось уложить каштановые волосы девушки так, как ей хотелось, и грубоватое лицо обрело совсем иной, более утонченный облик.
— Ника, так на самом деле лучше! — воскликнула девушка, лежавшая в постели и, откинув одеяло, начала торопливо одеваться.
— Значит, ты — Ника?
— Доминика, — поправила та.
— Но Ника звучит лучше, — заметила Мирдза. — Ты из Латгалии?
— Да.
— Поэтому местные нас и недолюбливают, — вдруг заговорила девушка, встретившая Мирдзу во дворе так неприветливо.
— Почему ты так думаешь? — удивилась Мирдза.
— А как же! Летом мы пошли на вечеринку, так ни один здешний парень не пригласил нас танцевать, — пожаловалась она. — Хорошо, что с нами были свои парни. А то сидели бы всем на смех.
— Знаете что, мы могли бы устроить вечер здесь, на коннопрокатном пункте, — Мирдзе казалось, что она может взяться за выполнение своего задания. — Приготовим программу с песнями, танцами, декламациями. Быть может, даже пьеску поставим.
— Слушай, Янина, это было бы здорово, — воскликнула Ника.
— И вы думаете придет кто-нибудь сюда? — мрачно заметила Янина.
— Вот я и узнала, как тебя зовут, — улыбнулась Мирдза. — Не беспокойся, придут. Ни одного свободного места не останется.
— Это — Мирдза Озол, комсорг волости, — вдруг сообщила Янина подругам, и в ее голосе прозвучало нечто вроде предупреждения.
— А-а, — протянула девушка, до сих пор молчавшая. Голова у нее была повязана белым платочком, из-под которого выбивались рыжеватые кудри. Лицо — белое, не-загоревшее, с веснушками на прямом и красивом носу и на щеках. Шея, как обычно у рыжеволосых, тоже белая, словно точеная. Зеленоватые глаза, одновременно задорные и немного грустные, внимательно разглядывали Мирдзу.
— Мы — несознательные! — с насмешкой сказала вдруг рыжеволосая.
— Что ты, Ася, всегда с этим, — упрекнула Ника и, посмотрев на Мирдзу, объяснила: — Так нас в совхозе прозвали. Комсорг забежал на пять минут, сказал, кто хочет вступить в комсомол — пусть запишется. А у Аси в тот вечер болели зубы, и она была зла на весь мир.
Четвертая девушка — Текла, с продолговатым, сухощавым лицом, тем временем оделась в воскресное платье и попросила Мирдзу помочь ей уложить волосы, как Нике. Но ей такая прическа не шла, и Мирдзе пришлось несколько раз заново перекладывать ее волосы, пока не удалось подобрать наиболее подходящую прическу. Ася тоже сняла косынку и открыла свои рыжие волосы, которых она стыдилась, сама не зная почему. Волосы у нее были средней длины и, свисая прямо вниз, не украшали головы. Мирдзе казалось, что надо было бы «подправить» затылок, это открыло бы красивую шею Аси и придало голове благородную осанку. Текла сразу же разыскала ножницы и принялась подстригать ей волосы.
— В замке такой большой зал, и пока нет Народного дома, в нем можно бы устраивать вечера, — продолжала Мирдза. — Надо посмотреть, нельзя ли там смастерить и сцену. Ребят у вас много?
— Вместе с кузнецами — пять человек, — поспешила сообщить Ника. — У Стасика хороший голос. Ой, сколько он разных песен знает!
— Получился бы хороший вечер. Мы давно ничего не устраивали. И вдруг перед Октябрьскими праздниками появится объявление: «Машинный и коннопрокатный пункт в своем помещении устраивает вечер!»
— Янина, ты будешь плясать! — Ника бросилась подруге на шею. — Да? Янина, миленькая, не откажешься? Ну, не упрямься! Она хорошо пляшет русскую, — пояснила Ника.
— У меня нет костюма, — отговаривалась Янина.
— Сошьем, — пообещала Мирдза. — Найдем для этого материи.
— Мне надо идти коров доить, а то хозяйка опять будет ворчать, что только знаем заниматься пустяками да спать, — Янина освободилась от объятий Ники.
— Я схожу вместо тебя, если ты пообещаешь сплясать, — упрашивала Ника.
— Могу и сама пойти, — Янина надвинула на глаза платок и вышла.
— Почему она такая… — грустная? — Мирдза чуть не сказала «упрямая».
— Одна на всем белом свете осталась, — рассказывала Ника. — У нас есть — у кого отец, мать или брат, а у нее нет никого. Прежде они всей семьей ходили на заработки. Перед войной получили свою землю, но когда пришли немцы — отца и мать сразу же убили. Брата замучили в тюрьме. Сестру угнали в Германию. Два других брата эвакуировались и погибли на фронте. Янина убежала из своих краев и работала у кулаков. Теперь она круглая сирота.
— А почему она так к комсомолу относится? — допытывалась Мирдза.
— Она совсем не такая, какой кажется. В совхозе комсорг ее обидел. Она написала заявление, просила принять ее в комсомол, а комсорг продержал бумажку в ящике полгода. Когда кто-то приехал из города, парень, чтобы оправдаться, начал доказывать, что Янина еще недостойна быть принятой в комсомол. Приезжий сказал, чтобы Янину приняли, но она ведь гордая — если я, мол, недостойна, то не надо, и тут же разорвала свое заявление, — рассказывала Ника.
— А если мы устроим вечер — будет она выступать?
— Будет. Ей самой очень нравится.
— Как вы думаете, девочки, не поговорить ли нам о вечере и с вашими парнями? Без них, пожалуй, ничего не получится, — сказала Мирдза.
— Они живут вот там, в доме лесника, — показала Ася через окно.
— Быть может, позвать их сюда? — Мирдзе не хотелось встречаться одной с парнями коннопрокатного пункта, она боялась неловкости при первом знакомстве.
— Ника, убери комнату, — скомандовала Ася, потому что ей самой Текла все еще подстригала затылок.
Мирдза поспешила помочь Нике, и когда комната была приведена в порядок, а Ася подстрижена, Текла пошла в дом лесника и вскоре привела пятерых парней, которые шумливо вошли и спросили — не на собрание ли их позвали? Если так, то им некогда — осталась незаконченной партия в карты.
— Мы с девушками договорились устроить на пункте вечер с выступлениями, — начала Мирдза. — Хотели просить вас принять участие.
— Нашли скоморохов, — обиженно заявил один из них, и Мирдзе пришлось призадуматься над тем, как расшевелить парней. Тут нельзя было начинать с причесок.
— Мы ведь тоже не собираемся на вечере устраивать балаган, хочется что-нибудь красивое показать, — Мирдза не растерялась.
— Казимир умеет ходить на руках, он мог бы показать, — усмехнулся один из парней. — Казя, покажи барышне, как пьяный возвращается из кабака домой!
— А ну тебя! — Казимир дал насмешнику тумака в бок. — Не видишь — она местная, балтийская барышня. Скажет, что мы, чангалы, грубияним.
— Дались вам эти балтийцы! — даже рассердилась Мирдза. — Так только в ульманисовские времена людей друг на друга натравливали. Тогда были балтийцы и чангалы, но зачем нам подражать Ульманису? Я признаю, что мы плохо поступили. Нам уже давно следовало бы навестить вас. Так пристыдите нас и устройте вечер. Покажите, как надо организовать самодеятельность.
— А если получится плохо, вы будете смеяться, — недоверчиво возразил Казимир.
— Почему плохо? — запротестовала Мирдза. — Еще есть время, чтобы подготовиться. Обсудим программу. Мы вот тут думали, что можно бы и сцену смастерить.
— В сарае досок хватит, — вставила Ника.
— А даст ли заведующий? — сомневался Славик.
— Даст. Я поговорю с ним, — вызвалась Мирдза.
— Геня, ты ведь плотник, — обратилась Ася к русоволосому парню, — разве это трудно, устроить сцену?
— Трудно только с тобой ладить, — парень лукаво покосился на рыженькую девушку, которая теперь с подстриженным затылком выглядела очень важной. — Упаси меня бог от такой тещи.
— Можешь не беспокоиться, — такого бездельника в зятья не возьму, — отплатила ему Ася.
— Ну, опять друг другу в волосы вцепятся, — усмехнулся Славик.
— Не во что вцепиться — за ночь крысы обгрызли, — пошутил Геня.
Мирдзе понравилась веселость ребят, которая не была ни непристойной, ни грубой, и она смеялась вместе с ними, но все же время от времени заставляла их быть более серьезными.
Мирдза оставила коннопрокатный пункт уже под вечер, уверенная, что молодежь примется за подготовку Октябрьского вечера и постарается не ударить в грязь лицом.
За скотными дворами она внезапно столкнулась с заплаканной Яниной.
— Что с тобой? — встревожилась Мирдза. — Почему ты плачешь?
Янина молчала, но не уходила. Видно было, что она не привыкла быть откровенной, но все же страдает от одиночества и замкнутости, к которой сама себя принуждает.
— Янина, милая, не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? — Мирдза взяла ее за плечи.
— Мне никто не может помочь… — Янина вырвалась и хотела убежать, но Мирдза схватила ее и не пускала.
— Человек человеку всегда может помочь, — уверенно сказала Мирдза, взглянув девушке в глаза. Она удивилась — еще недавно лицо Янины казалось шероховатым, черты его неровными, но теперь в нем просвечивало что-то трогательное, кожа казалась нежной, как лепесток водяной лилии.
— Чем ты мне поможешь? — заговорила Янина, и ее веки вздрогнули. — Мне всегда хотелось в школу, учиться. Раньше я работала у кулаков, некогда было. Потом — война, проклятые немцы… И теперь опять… ничего другого, кроме как скотный двор, кормить кур, доить коров и… оставаться дурой. Видно, моя судьба такая проклятая!
— Янина, судьба тут ни при чем! — воскликнула Мирдза. — Вытри слезы! Послушай, чего бы мне это ни стоило, — ты попадешь в школу и сможешь учиться.
Янина посмотрела Мирдзе в глаза, но видно было, что девушка не совсем верит, считая, что ее обманывают, утешают, как маленького ребенка — лишь бы он не плакал.
— Неужели ты совсем уже не доверяешь людям? — сердцем Мирдзы овладела жалость. Она отдала бы все, что угодно, чтобы вселить в нее веру, что жизнь изменилась к лучшему, отношения людей стали другими, и не следует замыкаться в себе, а надо искать товарищей, которые смогли бы подать руку и облегчить подъем в гору.
— Давай так, я подумаю о тебе этой ночью и завтра, — обещалась Мирдза. — А послезавтра вечером приходи ко мне. Договорились?
Они расстались. Янина — несколько успокоившись, хотя еще колебалась между сомнениями и надеждами, Мирдза же — радуясь всем сердцем, что нашла общий язык с молодежью, что Янина все же доверилась ей, как сестре, и что теперь надо только придумать, как ей помочь, чтобы обещание не осталось обещанием. Чтобы учиться, нужны средства на жизнь, на одежду. У Янины их нет, и у нее нет никого, кто хотел бы ей помочь. Она подумала о том, что средства можно было бы собрать среди населения, но тут же отбросила эту мысль. Это походило бы на милостыню и обидело бы Янину. И разве она одна — сколько их таких, у которых трудная жизнь и немцы отняли возможность учиться! Отец как-то в шутку упомянул, что будет просить отдел народного образования открыть вечернюю школу. А что если это сделать в самом деле? Попросите учителей уделять каких-нибудь три часа в неделю, чтобы помочь молодежи подготовиться к сдаче экзаменов за семилетку?
Эта мысль овладела Мирдзой, надо было немедленно что-то предпринять, все выяснить, чтобы в случае неудачи до послезавтра придумать для Янины другой выход. Она повернула на дорогу в усадьбу «Какты», где сегодня, в воскресенье, надеялась застать Салениека.
Мирдзе повезло. Сегодня у нее, действительно, был счастливый день, и, возвращаясь в темноте домой, она слушала, как весь мир, насколько это было видно и слышно, поет о счастье. Ей казалось, что звезды, горевшие в осеннем небе, сверкая и искрясь, подмигивают и говорят: «Хорошо, Мирдза, вот так и надо работать!» В шелесте рощи ей слышалась торжествующая песнь — лгут те поэты, которые уверяют, будто осенний лес наводит грусть и вызывает размышления о тленности. Лучше бы они прислушались, какая сила, какая готовность сопротивляться наступающему зимнему морозу и оцепенению чувствуется в шорохе каждой ветки. Да, сегодня роща поет: «Мирдза, ты такая молодая, и твоя молодость совпала с самой счастливой порой, на твоем пути нет больше ухабов и кочек, которые приходилось преодолевать старшим поколениям. Куда бы ты ни пошла, к чему бы ни хотела приложить свои силы, всюду будешь желанной. Работай, заполняй каждый час, каждое мгновение полезным делом, учебой — пройдет несколько лет, страна оправится от военной разрухи, и ты сможешь сказать: «Милая родина, пригодились и мои усилия!» И она ответит: «Спасибо, Мирдза, за пылкость сердца, ты и твои друзья — мои настоящие дети!» И звезды, приветливо подмигивая, скажут: «Вот она, земля, наша прекраснейшая сестра!»
В роще хрустнула ветка, и Мирдза очнулась от своих размышлений. Кто это бродит в темноте по лесу? То был Эрик. Он тихо назвал ее по имени и вышел на дорогу.
— Я тебя ждал, — сказал он, беря ее за руку. — Недавно встретил твоего отца и узнал, что ты осталась на коннопрокатном пункте. Я пришел сюда, чтобы тебя встретить. Где ты задержалась так долго?
— Ходила открывать вечернюю школу, — весело ответила Мирдза и взяла Эрика под руку. — Салениек согласен и обещает уговорить других учителей. А средства мы добудем при помощи платных вечеров, — рассказывала она, словно Эрику уже было известно, что это за школа и для чего она нужна.
— Я тебя так редко вижу, Мирдза, — жаловался Эрик. — Ты всегда занята и торопишься. Иногда мне кажется, что ты меня нарочно избегаешь.
— Нет, Эрик, зачем мне тебя избегать! — Мирдза крепче сжала его локоть. Она была полна счастья, и ей хотелось, чтобы Эрик чувствовал себя счастливым, не хотелось огорчать его. — Но как мне хочется, чтобы и ты всегда был занят и торопился! Эх, ты, медведь! — она круто повернула его кругом. — Тебе надо учиться шагать быстрее, а то ты можешь не догнать меня, — шутила она, но Эрик не смеялся ее шуткам.
— Ну, будем маршировать в ногу! — воскликнула Мирдза, отпуская руку Эрика. — Вот так: раз, два! раз, два! — она ступала широкими шагами, но Эрик остановился.
— Не хочешь шагать? Тогда побежим взапуски! — Мирдзе было очень весело, энергия била в ней ключом, переливалась через край. Она убежала уже довольно далеко, когда заметила, что Эрик не следует за ней, и побежала обратно.
— И бегать не хочешь? Ладно. Тогда будем боксировать! — и, сжав кулаки, она набросилась на Эрика, но тот стоял, как чучело, не реагируя на быстрые удары ее кулачков.
— С тобой ничего не поделаешь! Тебя хоть убей, все равно не расшевелишь, — Мирдза капризно надулась.
Веселость Мирдзы совсем не отвечала настроению Эрика; хотя он и ждал ее весь вечер, но теперь счел более разумным пойти домой. Он хотел условиться о самом главном и подготовить сегодня к этому Мирдзу, но ему не удалось высказать все, что передумал за эти часы. Как только Эрик сказал: «В следующее воскресенье мы с матерью приедем к вам в гости», — она рассмеялась.
— Ну, разумеется — приедешь, тебе ведь трудно ходить пешком!
Они расстались, и Эрик медленно ушел, чувствуя, что Мирдза так и не поняла, почему он приедет, да еще вместе с матерью. Мирдза в самом деле не поняла, ибо как только осталась одна, она сразу перестала думать об обещании Эрика и о том, что он, живя по соседству, почему-то должен приехать к ней на лошади, да еще с матерью. Ее снова заняли мысли о вечерней школе, у нее возникали планы, как привлечь к учебе побольше молодежи. И только когда она уже подходила к дому, ее радость омрачилась легкой тенью сомнения: а что, если остальные учителя откажутся заниматься или вдруг явится слишком мало учеников и не будет смысла открывать школу?..
Последующие дни прошли для Мирдзы в напряженных хлопотах. После того как учителя согласилисьпреподавать, надо было выявить учеников, неделя промчалась, как один день. Только в субботу вечером Мирдза могла набросать список с двадцатью именами будущих учеников.
Воскресное утро тоже оказалось занятым. Мать теперь была уполномоченной десятидворки и ушла к своим людям, а Мирдза отправилась на коннопрокатный пункт, чтобы посмотреть первую репетицию Октябрьского вечера. Самым свободным в это утро оказался отец. Он остался дома, довольный, что наконец может несколько часов посвятить книгам.
Он читал и думал о марксистско-ленинском воспитании партийных кадров, о том, что он мало, слишком мало сделал для ознакомления активистов с целями и идеями большевистской партии. Сегодня же, не откладывая ни на один день, надо составить план занятий кружков. Трудно работать с людьми, у которых почти нет никакого образования, но что ж поделать. Надо найти простые слова, надо найти способы простые, как сама правда, чтобы людям стали понятны законы старого и нового общества. В волости надо также найти людей, которым эти идеи вошли бы в плоть и кровь, людей, которые, честно делая свое, быть может, небольшое, но необходимое, как хлеб, дело, преданно служили бы своей великой родине. Надо создать кандидатскую группу и заниматься с нею.
Кого можно было бы начать готовить к вступлению в партию? Несомненно, наиболее достойным является Ванаг — сын батрака и сам бывший батрак, комсомолец и партизан, готовый отдать жизнь за Советскую страну. Если он и допускает ошибки в работе, если порой и не может сдержать себя, то надо признать, что ошибки эти — следствие незнания теории, а невыдержанность у него от ненависти к старому, ко всему, что мешает строительству новой советской жизни. Учеба поможет ему устранить ошибки и вместе с тем понять, что препятствия нельзя устранить криком, а только настойчивой борьбой.
Вторым возможным кандидатом был Лауск. Он знал его как честного человека, охотно выполнявшего любое доверенное ему общественное дело. Он тоже бывший батрак, получивший теперь землю, но ни в чем нельзя было усмотреть, что своя земля и свой дом являются для него самоцелью. За многие годы батрачества он накопил богатый опыт, знал, как добиться хороших урожаев, и теперь, работая в сельскохозяйственной комиссии, был незаменимым советчиком для многих крестьян, особенно тех, кто недавно получил землю. Он не говорил: «Какое мне дело, пусть каждый работает, как хочет». Он не ждал, пока к нему придут просить совета, нет, сам заходил то к одному, то к другому, словно по какому-нибудь делу; сначала заговаривал о чем-нибудь постороннем, потом медленно вытаскивал из кармана трубку, набивал ее самосадом и, причмокивая, начинал: «Я вижу ты все еще не вывез навоз на паровое поле. Так тебе рожь плохо отплатит. Скажет — раз ты меня не уважаешь, то и я тебя заставлю с пустым брюхом ходить. И что ты ей сделаешь? Заупрямится и не станет расти. Скажет: поленился ты мне мягкую постельку постлать, так я тебе самому даже хорошей соломы не дам, чтобы тюфяк набить». А иногда он говорил: «Опять ты оставил неподнятым поле на склоне. Ты, верно, не знаешь, какой славный там раньше ячмень рос? Ну, скажу тебе, хоть ячмень и не моим был, но всегда как-то радостно было на него смотреть. Что же это с тобой? Сил нет или же лень одолевает?» И если видел, что у человека, действительно, не хватает сил, то умел организовать помощь и артелью вспахать поле, на котором раньше славный ячмень рос. За Лауска нечего беспокоиться, он оправдает доверие большевистской партии.
Затем мысли Озола обратились к Гаужену — человеку с острым языком, но очень предприимчивому, когда дело касалось машин. Словно из-под земли он достал осенью запасные части для молотилок, они часто ломались и портились и не раз стояли бы в бездействии, не возьми Гаужен над ними шефства. Постоянным гостем он был и на мельнице, и в кузницах — всюду, где имелись машины, нуждающиеся в починке.
Вот о чем думал Озол, когда во дворе застучали подковы и загремела повозка. Вскоре в сенях скрипнула дверь: кто-то нерешительно переминался с ноги на ногу, словно ожидая, чтобы хозяева вышли встречать. Послышался тихий женский голос:
— Ну, пройди же вперед. — После короткого стука в комнату вошел Эрик Лидум, а за ним — его мать.
Вместе с ними как бы вошла сама неловкость, умеющая так связать язык, что хочешь сказать одно, а говоришь совсем другое. Так и на сей раз. Озолу следовало бы радоваться приехавшим, а он безразлично сказал:
— Вот неожиданные гости, — и пригласил присесть, позабыв предложить снять пальто. Озол привык, что к нему приходили за советом, за помощью, и он приучил посетителей не задерживаться без надобности. Лидумиете многозначительно посмотрела на сына, стоявшего с шапкой в руке и не знавшего, повесить ее на крючок или же сунуть в карман.
— Садитесь, садитесь, — повторил Озол, не замечая, что Лидумиете расстегивает и снова застегивает пальто, давая понять, что дело, по которому они приехали с сыном, требует продолжительного собеседования.
— Сама тоже дома? — наконец спросила она, помогая Озолу сообразить, что они приехали в гости ко всей семье.
— Ее нет, — поспешил сообщить Озол. — Женщины сегодня с утра оставили меня. Ольга пошла по делам своей десятидворки, а у Мирдзы какая-то загадочная встреча на коннопрокатном пункте.
Лидумиете еще многозначительнее взглянула на сына, но так как тот оставил ее взгляд без ответа, ей пришлось на словах высказать то, что хотела выразить глазами:
— Чего ж ты мне говорил, что условился с Мирдзой на сегодня?
Эрик кусал губы и молчал, пока Озол наконец не догадался, что гости приехали, собственно, не к нему, а к Мирдзе и Ольге, чтобы проведать их по-соседски. Пришлось попросить раздеться, сказать, чтобы подождали, женщины скоро должны вернуться доить коров.
Лидумиете деловито справилась, сколько у них теперь коров. Узнав, что две, недовольно поджала губы, но затем, что-то прикинув в уме, успокоилась.
Озол попытался завязать беседу с Эриком. Тем временем Лидумиете обводила глазами комнату, в которой торопившиеся утром хозяйки не успели навести порядок, какой должен быть, когда ожидают желанных и важных гостей.
А вообще терпимо. Мусора нигде не видно, пол был вымыт только вчера, пыли нигде тоже не заметно, но скатерти на столе и комоде были не из лучших и не сегодня постланы. Подушки на постели следовало бы взбить пышнее по случаю приезда таких гостей! Лидумиете выискивала какой-нибудь недостаток, который свидетельствовал бы о неуважении к ней и ее сыну, но, не сумев найти ничего особенно предосудительного, остановилась на самом главном доказательстве непочтительности будущей невестки — отсутствии ее самой и матери. Ну, где же это видано, чтобы порядочные женщины так поступали — убегают неизвестно куда, а гости пусть ждут, словно какие-то бедные родственники. Не верится, чтобы именно сегодня Мирдза не могла обойтись без обычной своей беготни. Неужели ни отец, ни мать не сумели удержать ее? Тут кроется какая-то хитрость — желание уже заранее Эрику «наступить на ногу», как в прежние времена делали невесты: при венчании возьмет да и наступит жениху на ногу, чтобы в будущем повелевать мужем. Чем больше Лидумиете собирала доказательств, тем беспокойнее она ерзала на своем стуле; стул, как назло, подвернулся расшатанный, скрипел от малейшего движения, подчеркивая недовольство гостьи.
Часы пробили половину второго, и только тогда вернулась запыхавшаяся Ольга, спешившая домой, чтобы вовремя подоить коров. Своей торопливостью она еще больше уязвила самолюбие Лидумиете. Даже не зашла посмотреть, кто приехал, — неужели Ольга, проходя через двор, не заметила их вороного! Схватила на кухне подойник и выбежала в коровник. Бедная Ольга отвыкла, чтобы к ней приходили гости. Соседи всегда приходили к Юрису или Мирдзе, поэтому Ольга, хотя и узнала лошадь Лидумов, все же решила, что это приехал только один Эрик, — наверное, его нарядили с подводой куда-нибудь. Коровы, услышав шаги хозяйки, замычали, и Ольга поспешила к ним, не подозревая, какую бурю возмущения вызвала она в груди Лидумиете, когда та увидала, как хозяйка маленькой усадебки торопливо просеменила к хлеву и даже не взглянула в сторону окна, у которого сидела владелица усадьбы «Лидумы».
— Да, да… — пробормотала гостья, отворачиваясь от окна, и только теперь заметила, что на стене, под стеклом, в красивой рамке, висели портреты Ленина и Сталина. С новой остротой ее начали мучить неразрешимые сомнения, как же она сможет ладить с невесткой, не признающей ни бога, ни церкви. Она не допытывалась — верит Эрик в бога или нет, удовлетворяясь тем, что он никогда не перечил ей, когда она звала его в церковь, ничего не возразил сын и против того, что она в его недавно выкрашенной комнате повесила на стену религиозную картину — спасителя с терновым венком на голове. Потерпит ли это Мирдза?
Часы пробили два, и вот, должно быть, пришла и Мирдза. Собака во дворе радостно взвизгнула — кто-то с ней возился. Дверь комнаты широко распахнулась — сперва ворвалась собака, а за ней, впопыхах, Мирдза.
— Ах, гости! — удивленно воскликнула она.
— Эрик говорил, что на сегодня условился с тобой, — пристально глядя на нее, твердо сказала Лидумиете.
— Ах! Я совсем позабыла!
В третий раз Лидумиете выразительно посмотрела на сына, — но что с ним поделать, как только увидит Мирдзу, глаз от нее не может оторвать. Сходил бы, взглянул на лошадь — ей богу, вышла бы за ним и сказала:
«Не отложить ли сегодняшний разговор, пусть еще раз как следует все обдумает. Что же в этой девушке особенного — только зубы скалит, ни минуты на месте не усидит».
— Эрик, проверь, не оторвалась ли лошадь, — предложила Лидумиете сыну. — Что-то никто ее не видел.
— Там, кажется, стоит какая-то лошадь, — вспомнила Мирдза. — Я и не догадалась, чья она. Мамочки нет дома, мне надо будет пойти коров подоить, — обратилась она к отцу, посмотрев на часы.
— Уже доит, — успокоил Озол, с хитринкой посмотрев Мирдзе в глаза. Наконец-то он начал догадываться о цели приезда Лидумов, и ему стало смешно, что Мирдза этого не понимает. Какая Мирдза славная, и действительно было бы жаль, если бы ее высватали и она ушла из дому.
Было слышно, как Ольга с подойником вошла на кухню, выливала молоко и умывала руки. Мирдза не могла дождаться, распахнула дверь и крикнула:
— Мамочка, вот и к тебе гостья! А ты все жалуешься, что никто не ходит.
Ольга вошла и приветливо поздоровалась с Лидумиете, но та ответила довольно холодно.
Мирдза решила, что теперь она освобождена от обязанностей занимать Лидумиете, которая в последнее время стала к ней неприветлива, должно быть, пришла к другому выводу, чем в прошлую осень; ведь тогда, провожая сына на фронт, она сказала — материнским сердцем чует, что Мирдза ее сыну «суженая». И сейчас атмосфера в комнате какая-то сгущенная, мать Эрика на что-то дуется, и, чтобы не чувствовать на себе ее пытливые взгляды, лучше выйти.
— Эрик, пойдем посмотрим, хорошо ли я устроила пчел на зимовку, — придумала Мирдза повод, чтобы не оставаться дома и увести с собой Эрика.
Они подошли к пчелиному улью, но там не было ничего интересного. В саду деревца еще молодые, да и те без листьев; на дворе нечем было заняться. Мирдза пожалела, что выманила Эрика из дому. Уж лучше бы позвала его к себе в комнату. Теперь надо еще раз пройти мимо отца, мимо Лидумиете, которая сидит нахохлившись, словно наседка, и следит зорким оком, как бы ястреб не заклевал ее цыпленка.
От этого сравнения Мирдзе стало смешно, а смех побуждает к озорству. Она вспомнила, что окно ее комнаты изнутри не закрыто, открыла его, бесшумно забралась в комнату и пригласила Эрика последовать за нею. Он не мог сразу на это решиться и остался под окном.
— Придется тебе табуретку подать, — подзадорила Мирдза.
— Нет, нет… Но как же так, через окно? — бормотал Эрик.
— Обойди кругом, раз ты так хорошо воспитан.
— Не смейся, Мирдза, — попросил Эрик. — И почему ты никогда не хочешь говорить со мной по-серьезному?
— Ну, ладно, я буду серьезной, — и она уселась у окна, облокотившись о подоконник.
— Я не знаю, как это сказать, — начал Эрик и покраснел. — Мы сегодня приехали по такому важному делу…
— Ну, ну, свататься, что ли? — Мирдза не выдержала серьезного тона и рассмеялась, для нее было странным, что в нынешние времена находятся любители отживших церемоний.
— Да, свататься, — смущенно подтвердил Эрик. — Неважно, как это называется. Я приехал договориться, когда мы сыграем свадьбу.
— Свадьбу?
— Ну да, как хочешь… ты ведь меня понимаешь.
— А ты меня сумеешь понять? — спросила Мирдза. — Мне кажется, что в твоем доме я не смогу продолжать начатую жизнь. Ведь мне еще надо кончить среднюю школу.
— Ах, Мирдза, неужели это так важно! — Эрик махнул рукой, словно отгоняя муху.
— Очень важно. Кроме того, мне надо стать политически грамотной. Мне поручено организовать комсомольцев.
— Разве этого не сможет кто-нибудь другой? Зента скоро вернется, — возразил Эрик.
— Работы хватит для обеих. И почему ты не можешь или не хочешь понять, что без этой работы я не могу жить? Почему ты не хочешь стать моим товарищем, не вступишь в комсомол? Молчишь? — продолжала Мирдза, не дождавшись ответа. — Значит, есть какие-то причины, которые мешают тебе стать комсомольцем, стать моим товарищем…
Внезапно что-то вспомнив, она спросила:
— Предположим, мы решим пожениться, и тогда — в загс пойдем или к пастору?
Она видела, как неприятен Эрику этот вопрос, но неужели нельзя вырвать парня из среды, в которую он врос. К несчастью для себя, он находится в плену предрассудков и мещанских традиций.
— Мать, по правде говоря, не захочет, чтобы без пастора, — тихо признался Эрик.
— А ты? Ты сам? Как ты захочешь? — допытывалась Мирдза.
— Мне, пожалуй, все равно. Я мог бы и без пастора, — сказал Эрик.
— Ты мог бы. Хорошо. А если я соглашусь только при одном условии — без пастора?
— Мирдза, разве не все равно! Матери это было бы тяжело перенести!
— Ты, Эрик, уклоняешься от ответа! — не уступала Мирдза. — Нет, нет, — покачала она головой. — Если предрассудки матери для тебя так непреодолимы, как же мы будем жить? Мы с матерью будем как жернова, а между нами — ты.
— Быть может, позже, если вернется мой брат, мы сможем жить отдельно от матери, — предложил Эрик.
— Спасибо за утешение! Будем откровенны, Эрик. Наши шаги не совпадают. Разве ты этого не чувствуешь? — Мирдза посмотрела ему прямо и открыто в глаза. — Мы ошиблись друг в друге. Еще хорошо, что спохватились вовремя.
— Значит, все… кончено? — прошептал Эрик, прислонившись к оконному косяку.
— Нет, ничего не кончено! — воскликнула Мирдза. — Так разговаривают только в старомодных романах. Мы живем в новое время… Эрик, — продолжала она, помолчав, — неужели ты, действительно, не можешь собраться с силами? Хоть характер свой показал бы, а ты — ни то, ни се! — она даже не смогла найти подходящих слов для этого ссутулившегося, обмякшего парня — мягкость его уже граничила с бесхарактерностью. Помимо собственного дома, ему не было никакого дела до окружающего мира. И что это он воображает: она перейдет жить к нему в дом, перейдет жить в комнату, где на стене висит изображение Христа — и не потому, что Эрику так нравится, а потому, что мать навязывает ему эту картину, навязывает свои отсталые взгляды. Эрик хочет, чтобы она стелила для него постель, прибирала двор и отказалась от своего пути, по которому беспрерывно идет в гору, вершину которой ни рукой достать, ни глазом увидать. Какое он имеет право даже пытаться отговаривать ее от этого пути, увлекать в тихую, затхлую лощину, где она может задохнуться?
— Наши шаги не совпадают, — повторила Мирдза, раздельно выговаривая слова. — Значит, расстанемся, Эрик, без вражды. Быть может, когда-нибудь встретимся… Если у тебя хватит сил идти со мной.
Наконец он понял, что поездка не удалась и дольше так стоять нет смысла. Он оторвался от окна и пошел. Вспомнив, что мать осталась в комнате, он обернулся и попросил:
— Пожалуйста, скажи матери, что я хочу ехать домой.
Мирдза через окно видела, как сердитая Лидумиете сравнительно проворно уселась в повозку. Из-под откинутой полости выглянула корзинка, укрытая белой тканью, мелькнуло горлышко водочной или винной бутылки с блестящей головкой.
— Как хорошо, что она оставила свои гостинцы в повозке и нам не пришлось их отведать, — решила Мирдза.
Эрик дернул вожжи, и вороной пошел быстрой рысью.
Всю дорогу Эрик не проронил ни слова. Мать напрасно расспрашивала, что у них с Мирдзой произошло, почему отложил сватовство и почему он такой неразговорчивый. Но Эрик молчал.
Дома он так же молча распряг лошадь, завел ее в конюшню, откатил повозку в сарай и пошел в комнату. Потом, что-то вспомнив, вернулся в сарай к поленнице и, взяв охапку сухих сосновых дров, понес в дом.
— Ты что это, печь хочешь топить? — удивилась мать.
Эрик промолчал. Он затопил в своей комнате печь, а когда дрова как следует разгорелись, снял со стены изображение Христа и со всего размаху швырнул в пламя.
— Тебе надо было иначе уложить волосы, — вдруг нарушила Мирдза тишину и, не давая наступить молчанию, продолжала: — Посмотри в зеркало — когда ты опускаешь локоны книзу, лицо становится шире. Попробуем иначе, мне кажется, тебе надо на лбу зачесать волосы кверху, а на затылке — спустить книзу. Вот так, — она взяла из рук смутившейся девушки гребенку и начала орудовать над ее прической.
Остальные с любопытством следили за Мирдзой, и она поняла, что в дальнейшем их отношения зависят от того, насколько ей удастся показать ловкость в парикмахерском искусстве, в котором у нее не было почти никакого опыта, так как ее собственные волнистые волосы не требовали применения бумажек. При помощи шпилек Мирдзе удалось уложить каштановые волосы девушки так, как ей хотелось, и грубоватое лицо обрело совсем иной, более утонченный облик.
— Ника, так на самом деле лучше! — воскликнула девушка, лежавшая в постели и, откинув одеяло, начала торопливо одеваться.
— Значит, ты — Ника?
— Доминика, — поправила та.
— Но Ника звучит лучше, — заметила Мирдза. — Ты из Латгалии?
— Да.
— Поэтому местные нас и недолюбливают, — вдруг заговорила девушка, встретившая Мирдзу во дворе так неприветливо.
— Почему ты так думаешь? — удивилась Мирдза.
— А как же! Летом мы пошли на вечеринку, так ни один здешний парень не пригласил нас танцевать, — пожаловалась она. — Хорошо, что с нами были свои парни. А то сидели бы всем на смех.
— Знаете что, мы могли бы устроить вечер здесь, на коннопрокатном пункте, — Мирдзе казалось, что она может взяться за выполнение своего задания. — Приготовим программу с песнями, танцами, декламациями. Быть может, даже пьеску поставим.
— Слушай, Янина, это было бы здорово, — воскликнула Ника.
— И вы думаете придет кто-нибудь сюда? — мрачно заметила Янина.
— Вот я и узнала, как тебя зовут, — улыбнулась Мирдза. — Не беспокойся, придут. Ни одного свободного места не останется.
— Это — Мирдза Озол, комсорг волости, — вдруг сообщила Янина подругам, и в ее голосе прозвучало нечто вроде предупреждения.
— А-а, — протянула девушка, до сих пор молчавшая. Голова у нее была повязана белым платочком, из-под которого выбивались рыжеватые кудри. Лицо — белое, не-загоревшее, с веснушками на прямом и красивом носу и на щеках. Шея, как обычно у рыжеволосых, тоже белая, словно точеная. Зеленоватые глаза, одновременно задорные и немного грустные, внимательно разглядывали Мирдзу.
— Мы — несознательные! — с насмешкой сказала вдруг рыжеволосая.
— Что ты, Ася, всегда с этим, — упрекнула Ника и, посмотрев на Мирдзу, объяснила: — Так нас в совхозе прозвали. Комсорг забежал на пять минут, сказал, кто хочет вступить в комсомол — пусть запишется. А у Аси в тот вечер болели зубы, и она была зла на весь мир.
Четвертая девушка — Текла, с продолговатым, сухощавым лицом, тем временем оделась в воскресное платье и попросила Мирдзу помочь ей уложить волосы, как Нике. Но ей такая прическа не шла, и Мирдзе пришлось несколько раз заново перекладывать ее волосы, пока не удалось подобрать наиболее подходящую прическу. Ася тоже сняла косынку и открыла свои рыжие волосы, которых она стыдилась, сама не зная почему. Волосы у нее были средней длины и, свисая прямо вниз, не украшали головы. Мирдзе казалось, что надо было бы «подправить» затылок, это открыло бы красивую шею Аси и придало голове благородную осанку. Текла сразу же разыскала ножницы и принялась подстригать ей волосы.
— В замке такой большой зал, и пока нет Народного дома, в нем можно бы устраивать вечера, — продолжала Мирдза. — Надо посмотреть, нельзя ли там смастерить и сцену. Ребят у вас много?
— Вместе с кузнецами — пять человек, — поспешила сообщить Ника. — У Стасика хороший голос. Ой, сколько он разных песен знает!
— Получился бы хороший вечер. Мы давно ничего не устраивали. И вдруг перед Октябрьскими праздниками появится объявление: «Машинный и коннопрокатный пункт в своем помещении устраивает вечер!»
— Янина, ты будешь плясать! — Ника бросилась подруге на шею. — Да? Янина, миленькая, не откажешься? Ну, не упрямься! Она хорошо пляшет русскую, — пояснила Ника.
— У меня нет костюма, — отговаривалась Янина.
— Сошьем, — пообещала Мирдза. — Найдем для этого материи.
— Мне надо идти коров доить, а то хозяйка опять будет ворчать, что только знаем заниматься пустяками да спать, — Янина освободилась от объятий Ники.
— Я схожу вместо тебя, если ты пообещаешь сплясать, — упрашивала Ника.
— Могу и сама пойти, — Янина надвинула на глаза платок и вышла.
— Почему она такая… — грустная? — Мирдза чуть не сказала «упрямая».
— Одна на всем белом свете осталась, — рассказывала Ника. — У нас есть — у кого отец, мать или брат, а у нее нет никого. Прежде они всей семьей ходили на заработки. Перед войной получили свою землю, но когда пришли немцы — отца и мать сразу же убили. Брата замучили в тюрьме. Сестру угнали в Германию. Два других брата эвакуировались и погибли на фронте. Янина убежала из своих краев и работала у кулаков. Теперь она круглая сирота.
— А почему она так к комсомолу относится? — допытывалась Мирдза.
— Она совсем не такая, какой кажется. В совхозе комсорг ее обидел. Она написала заявление, просила принять ее в комсомол, а комсорг продержал бумажку в ящике полгода. Когда кто-то приехал из города, парень, чтобы оправдаться, начал доказывать, что Янина еще недостойна быть принятой в комсомол. Приезжий сказал, чтобы Янину приняли, но она ведь гордая — если я, мол, недостойна, то не надо, и тут же разорвала свое заявление, — рассказывала Ника.
— А если мы устроим вечер — будет она выступать?
— Будет. Ей самой очень нравится.
— Как вы думаете, девочки, не поговорить ли нам о вечере и с вашими парнями? Без них, пожалуй, ничего не получится, — сказала Мирдза.
— Они живут вот там, в доме лесника, — показала Ася через окно.
— Быть может, позвать их сюда? — Мирдзе не хотелось встречаться одной с парнями коннопрокатного пункта, она боялась неловкости при первом знакомстве.
— Ника, убери комнату, — скомандовала Ася, потому что ей самой Текла все еще подстригала затылок.
Мирдза поспешила помочь Нике, и когда комната была приведена в порядок, а Ася подстрижена, Текла пошла в дом лесника и вскоре привела пятерых парней, которые шумливо вошли и спросили — не на собрание ли их позвали? Если так, то им некогда — осталась незаконченной партия в карты.
— Мы с девушками договорились устроить на пункте вечер с выступлениями, — начала Мирдза. — Хотели просить вас принять участие.
— Нашли скоморохов, — обиженно заявил один из них, и Мирдзе пришлось призадуматься над тем, как расшевелить парней. Тут нельзя было начинать с причесок.
— Мы ведь тоже не собираемся на вечере устраивать балаган, хочется что-нибудь красивое показать, — Мирдза не растерялась.
— Казимир умеет ходить на руках, он мог бы показать, — усмехнулся один из парней. — Казя, покажи барышне, как пьяный возвращается из кабака домой!
— А ну тебя! — Казимир дал насмешнику тумака в бок. — Не видишь — она местная, балтийская барышня. Скажет, что мы, чангалы, грубияним.
— Дались вам эти балтийцы! — даже рассердилась Мирдза. — Так только в ульманисовские времена людей друг на друга натравливали. Тогда были балтийцы и чангалы, но зачем нам подражать Ульманису? Я признаю, что мы плохо поступили. Нам уже давно следовало бы навестить вас. Так пристыдите нас и устройте вечер. Покажите, как надо организовать самодеятельность.
— А если получится плохо, вы будете смеяться, — недоверчиво возразил Казимир.
— Почему плохо? — запротестовала Мирдза. — Еще есть время, чтобы подготовиться. Обсудим программу. Мы вот тут думали, что можно бы и сцену смастерить.
— В сарае досок хватит, — вставила Ника.
— А даст ли заведующий? — сомневался Славик.
— Даст. Я поговорю с ним, — вызвалась Мирдза.
— Геня, ты ведь плотник, — обратилась Ася к русоволосому парню, — разве это трудно, устроить сцену?
— Трудно только с тобой ладить, — парень лукаво покосился на рыженькую девушку, которая теперь с подстриженным затылком выглядела очень важной. — Упаси меня бог от такой тещи.
— Можешь не беспокоиться, — такого бездельника в зятья не возьму, — отплатила ему Ася.
— Ну, опять друг другу в волосы вцепятся, — усмехнулся Славик.
— Не во что вцепиться — за ночь крысы обгрызли, — пошутил Геня.
Мирдзе понравилась веселость ребят, которая не была ни непристойной, ни грубой, и она смеялась вместе с ними, но все же время от времени заставляла их быть более серьезными.
Мирдза оставила коннопрокатный пункт уже под вечер, уверенная, что молодежь примется за подготовку Октябрьского вечера и постарается не ударить в грязь лицом.
За скотными дворами она внезапно столкнулась с заплаканной Яниной.
— Что с тобой? — встревожилась Мирдза. — Почему ты плачешь?
Янина молчала, но не уходила. Видно было, что она не привыкла быть откровенной, но все же страдает от одиночества и замкнутости, к которой сама себя принуждает.
— Янина, милая, не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? — Мирдза взяла ее за плечи.
— Мне никто не может помочь… — Янина вырвалась и хотела убежать, но Мирдза схватила ее и не пускала.
— Человек человеку всегда может помочь, — уверенно сказала Мирдза, взглянув девушке в глаза. Она удивилась — еще недавно лицо Янины казалось шероховатым, черты его неровными, но теперь в нем просвечивало что-то трогательное, кожа казалась нежной, как лепесток водяной лилии.
— Чем ты мне поможешь? — заговорила Янина, и ее веки вздрогнули. — Мне всегда хотелось в школу, учиться. Раньше я работала у кулаков, некогда было. Потом — война, проклятые немцы… И теперь опять… ничего другого, кроме как скотный двор, кормить кур, доить коров и… оставаться дурой. Видно, моя судьба такая проклятая!
— Янина, судьба тут ни при чем! — воскликнула Мирдза. — Вытри слезы! Послушай, чего бы мне это ни стоило, — ты попадешь в школу и сможешь учиться.
Янина посмотрела Мирдзе в глаза, но видно было, что девушка не совсем верит, считая, что ее обманывают, утешают, как маленького ребенка — лишь бы он не плакал.
— Неужели ты совсем уже не доверяешь людям? — сердцем Мирдзы овладела жалость. Она отдала бы все, что угодно, чтобы вселить в нее веру, что жизнь изменилась к лучшему, отношения людей стали другими, и не следует замыкаться в себе, а надо искать товарищей, которые смогли бы подать руку и облегчить подъем в гору.
— Давай так, я подумаю о тебе этой ночью и завтра, — обещалась Мирдза. — А послезавтра вечером приходи ко мне. Договорились?
Они расстались. Янина — несколько успокоившись, хотя еще колебалась между сомнениями и надеждами, Мирдза же — радуясь всем сердцем, что нашла общий язык с молодежью, что Янина все же доверилась ей, как сестре, и что теперь надо только придумать, как ей помочь, чтобы обещание не осталось обещанием. Чтобы учиться, нужны средства на жизнь, на одежду. У Янины их нет, и у нее нет никого, кто хотел бы ей помочь. Она подумала о том, что средства можно было бы собрать среди населения, но тут же отбросила эту мысль. Это походило бы на милостыню и обидело бы Янину. И разве она одна — сколько их таких, у которых трудная жизнь и немцы отняли возможность учиться! Отец как-то в шутку упомянул, что будет просить отдел народного образования открыть вечернюю школу. А что если это сделать в самом деле? Попросите учителей уделять каких-нибудь три часа в неделю, чтобы помочь молодежи подготовиться к сдаче экзаменов за семилетку?
Эта мысль овладела Мирдзой, надо было немедленно что-то предпринять, все выяснить, чтобы в случае неудачи до послезавтра придумать для Янины другой выход. Она повернула на дорогу в усадьбу «Какты», где сегодня, в воскресенье, надеялась застать Салениека.
Мирдзе повезло. Сегодня у нее, действительно, был счастливый день, и, возвращаясь в темноте домой, она слушала, как весь мир, насколько это было видно и слышно, поет о счастье. Ей казалось, что звезды, горевшие в осеннем небе, сверкая и искрясь, подмигивают и говорят: «Хорошо, Мирдза, вот так и надо работать!» В шелесте рощи ей слышалась торжествующая песнь — лгут те поэты, которые уверяют, будто осенний лес наводит грусть и вызывает размышления о тленности. Лучше бы они прислушались, какая сила, какая готовность сопротивляться наступающему зимнему морозу и оцепенению чувствуется в шорохе каждой ветки. Да, сегодня роща поет: «Мирдза, ты такая молодая, и твоя молодость совпала с самой счастливой порой, на твоем пути нет больше ухабов и кочек, которые приходилось преодолевать старшим поколениям. Куда бы ты ни пошла, к чему бы ни хотела приложить свои силы, всюду будешь желанной. Работай, заполняй каждый час, каждое мгновение полезным делом, учебой — пройдет несколько лет, страна оправится от военной разрухи, и ты сможешь сказать: «Милая родина, пригодились и мои усилия!» И она ответит: «Спасибо, Мирдза, за пылкость сердца, ты и твои друзья — мои настоящие дети!» И звезды, приветливо подмигивая, скажут: «Вот она, земля, наша прекраснейшая сестра!»
В роще хрустнула ветка, и Мирдза очнулась от своих размышлений. Кто это бродит в темноте по лесу? То был Эрик. Он тихо назвал ее по имени и вышел на дорогу.
— Я тебя ждал, — сказал он, беря ее за руку. — Недавно встретил твоего отца и узнал, что ты осталась на коннопрокатном пункте. Я пришел сюда, чтобы тебя встретить. Где ты задержалась так долго?
— Ходила открывать вечернюю школу, — весело ответила Мирдза и взяла Эрика под руку. — Салениек согласен и обещает уговорить других учителей. А средства мы добудем при помощи платных вечеров, — рассказывала она, словно Эрику уже было известно, что это за школа и для чего она нужна.
— Я тебя так редко вижу, Мирдза, — жаловался Эрик. — Ты всегда занята и торопишься. Иногда мне кажется, что ты меня нарочно избегаешь.
— Нет, Эрик, зачем мне тебя избегать! — Мирдза крепче сжала его локоть. Она была полна счастья, и ей хотелось, чтобы Эрик чувствовал себя счастливым, не хотелось огорчать его. — Но как мне хочется, чтобы и ты всегда был занят и торопился! Эх, ты, медведь! — она круто повернула его кругом. — Тебе надо учиться шагать быстрее, а то ты можешь не догнать меня, — шутила она, но Эрик не смеялся ее шуткам.
— Ну, будем маршировать в ногу! — воскликнула Мирдза, отпуская руку Эрика. — Вот так: раз, два! раз, два! — она ступала широкими шагами, но Эрик остановился.
— Не хочешь шагать? Тогда побежим взапуски! — Мирдзе было очень весело, энергия била в ней ключом, переливалась через край. Она убежала уже довольно далеко, когда заметила, что Эрик не следует за ней, и побежала обратно.
— И бегать не хочешь? Ладно. Тогда будем боксировать! — и, сжав кулаки, она набросилась на Эрика, но тот стоял, как чучело, не реагируя на быстрые удары ее кулачков.
— С тобой ничего не поделаешь! Тебя хоть убей, все равно не расшевелишь, — Мирдза капризно надулась.
Веселость Мирдзы совсем не отвечала настроению Эрика; хотя он и ждал ее весь вечер, но теперь счел более разумным пойти домой. Он хотел условиться о самом главном и подготовить сегодня к этому Мирдзу, но ему не удалось высказать все, что передумал за эти часы. Как только Эрик сказал: «В следующее воскресенье мы с матерью приедем к вам в гости», — она рассмеялась.
— Ну, разумеется — приедешь, тебе ведь трудно ходить пешком!
Они расстались, и Эрик медленно ушел, чувствуя, что Мирдза так и не поняла, почему он приедет, да еще вместе с матерью. Мирдза в самом деле не поняла, ибо как только осталась одна, она сразу перестала думать об обещании Эрика и о том, что он, живя по соседству, почему-то должен приехать к ней на лошади, да еще с матерью. Ее снова заняли мысли о вечерней школе, у нее возникали планы, как привлечь к учебе побольше молодежи. И только когда она уже подходила к дому, ее радость омрачилась легкой тенью сомнения: а что, если остальные учителя откажутся заниматься или вдруг явится слишком мало учеников и не будет смысла открывать школу?..
Последующие дни прошли для Мирдзы в напряженных хлопотах. После того как учителя согласилисьпреподавать, надо было выявить учеников, неделя промчалась, как один день. Только в субботу вечером Мирдза могла набросать список с двадцатью именами будущих учеников.
Воскресное утро тоже оказалось занятым. Мать теперь была уполномоченной десятидворки и ушла к своим людям, а Мирдза отправилась на коннопрокатный пункт, чтобы посмотреть первую репетицию Октябрьского вечера. Самым свободным в это утро оказался отец. Он остался дома, довольный, что наконец может несколько часов посвятить книгам.
Он читал и думал о марксистско-ленинском воспитании партийных кадров, о том, что он мало, слишком мало сделал для ознакомления активистов с целями и идеями большевистской партии. Сегодня же, не откладывая ни на один день, надо составить план занятий кружков. Трудно работать с людьми, у которых почти нет никакого образования, но что ж поделать. Надо найти простые слова, надо найти способы простые, как сама правда, чтобы людям стали понятны законы старого и нового общества. В волости надо также найти людей, которым эти идеи вошли бы в плоть и кровь, людей, которые, честно делая свое, быть может, небольшое, но необходимое, как хлеб, дело, преданно служили бы своей великой родине. Надо создать кандидатскую группу и заниматься с нею.
Кого можно было бы начать готовить к вступлению в партию? Несомненно, наиболее достойным является Ванаг — сын батрака и сам бывший батрак, комсомолец и партизан, готовый отдать жизнь за Советскую страну. Если он и допускает ошибки в работе, если порой и не может сдержать себя, то надо признать, что ошибки эти — следствие незнания теории, а невыдержанность у него от ненависти к старому, ко всему, что мешает строительству новой советской жизни. Учеба поможет ему устранить ошибки и вместе с тем понять, что препятствия нельзя устранить криком, а только настойчивой борьбой.
Вторым возможным кандидатом был Лауск. Он знал его как честного человека, охотно выполнявшего любое доверенное ему общественное дело. Он тоже бывший батрак, получивший теперь землю, но ни в чем нельзя было усмотреть, что своя земля и свой дом являются для него самоцелью. За многие годы батрачества он накопил богатый опыт, знал, как добиться хороших урожаев, и теперь, работая в сельскохозяйственной комиссии, был незаменимым советчиком для многих крестьян, особенно тех, кто недавно получил землю. Он не говорил: «Какое мне дело, пусть каждый работает, как хочет». Он не ждал, пока к нему придут просить совета, нет, сам заходил то к одному, то к другому, словно по какому-нибудь делу; сначала заговаривал о чем-нибудь постороннем, потом медленно вытаскивал из кармана трубку, набивал ее самосадом и, причмокивая, начинал: «Я вижу ты все еще не вывез навоз на паровое поле. Так тебе рожь плохо отплатит. Скажет — раз ты меня не уважаешь, то и я тебя заставлю с пустым брюхом ходить. И что ты ей сделаешь? Заупрямится и не станет расти. Скажет: поленился ты мне мягкую постельку постлать, так я тебе самому даже хорошей соломы не дам, чтобы тюфяк набить». А иногда он говорил: «Опять ты оставил неподнятым поле на склоне. Ты, верно, не знаешь, какой славный там раньше ячмень рос? Ну, скажу тебе, хоть ячмень и не моим был, но всегда как-то радостно было на него смотреть. Что же это с тобой? Сил нет или же лень одолевает?» И если видел, что у человека, действительно, не хватает сил, то умел организовать помощь и артелью вспахать поле, на котором раньше славный ячмень рос. За Лауска нечего беспокоиться, он оправдает доверие большевистской партии.
Затем мысли Озола обратились к Гаужену — человеку с острым языком, но очень предприимчивому, когда дело касалось машин. Словно из-под земли он достал осенью запасные части для молотилок, они часто ломались и портились и не раз стояли бы в бездействии, не возьми Гаужен над ними шефства. Постоянным гостем он был и на мельнице, и в кузницах — всюду, где имелись машины, нуждающиеся в починке.
Вот о чем думал Озол, когда во дворе застучали подковы и загремела повозка. Вскоре в сенях скрипнула дверь: кто-то нерешительно переминался с ноги на ногу, словно ожидая, чтобы хозяева вышли встречать. Послышался тихий женский голос:
— Ну, пройди же вперед. — После короткого стука в комнату вошел Эрик Лидум, а за ним — его мать.
Вместе с ними как бы вошла сама неловкость, умеющая так связать язык, что хочешь сказать одно, а говоришь совсем другое. Так и на сей раз. Озолу следовало бы радоваться приехавшим, а он безразлично сказал:
— Вот неожиданные гости, — и пригласил присесть, позабыв предложить снять пальто. Озол привык, что к нему приходили за советом, за помощью, и он приучил посетителей не задерживаться без надобности. Лидумиете многозначительно посмотрела на сына, стоявшего с шапкой в руке и не знавшего, повесить ее на крючок или же сунуть в карман.
— Садитесь, садитесь, — повторил Озол, не замечая, что Лидумиете расстегивает и снова застегивает пальто, давая понять, что дело, по которому они приехали с сыном, требует продолжительного собеседования.
— Сама тоже дома? — наконец спросила она, помогая Озолу сообразить, что они приехали в гости ко всей семье.
— Ее нет, — поспешил сообщить Озол. — Женщины сегодня с утра оставили меня. Ольга пошла по делам своей десятидворки, а у Мирдзы какая-то загадочная встреча на коннопрокатном пункте.
Лидумиете еще многозначительнее взглянула на сына, но так как тот оставил ее взгляд без ответа, ей пришлось на словах высказать то, что хотела выразить глазами:
— Чего ж ты мне говорил, что условился с Мирдзой на сегодня?
Эрик кусал губы и молчал, пока Озол наконец не догадался, что гости приехали, собственно, не к нему, а к Мирдзе и Ольге, чтобы проведать их по-соседски. Пришлось попросить раздеться, сказать, чтобы подождали, женщины скоро должны вернуться доить коров.
Лидумиете деловито справилась, сколько у них теперь коров. Узнав, что две, недовольно поджала губы, но затем, что-то прикинув в уме, успокоилась.
Озол попытался завязать беседу с Эриком. Тем временем Лидумиете обводила глазами комнату, в которой торопившиеся утром хозяйки не успели навести порядок, какой должен быть, когда ожидают желанных и важных гостей.
А вообще терпимо. Мусора нигде не видно, пол был вымыт только вчера, пыли нигде тоже не заметно, но скатерти на столе и комоде были не из лучших и не сегодня постланы. Подушки на постели следовало бы взбить пышнее по случаю приезда таких гостей! Лидумиете выискивала какой-нибудь недостаток, который свидетельствовал бы о неуважении к ней и ее сыну, но, не сумев найти ничего особенно предосудительного, остановилась на самом главном доказательстве непочтительности будущей невестки — отсутствии ее самой и матери. Ну, где же это видано, чтобы порядочные женщины так поступали — убегают неизвестно куда, а гости пусть ждут, словно какие-то бедные родственники. Не верится, чтобы именно сегодня Мирдза не могла обойтись без обычной своей беготни. Неужели ни отец, ни мать не сумели удержать ее? Тут кроется какая-то хитрость — желание уже заранее Эрику «наступить на ногу», как в прежние времена делали невесты: при венчании возьмет да и наступит жениху на ногу, чтобы в будущем повелевать мужем. Чем больше Лидумиете собирала доказательств, тем беспокойнее она ерзала на своем стуле; стул, как назло, подвернулся расшатанный, скрипел от малейшего движения, подчеркивая недовольство гостьи.
Часы пробили половину второго, и только тогда вернулась запыхавшаяся Ольга, спешившая домой, чтобы вовремя подоить коров. Своей торопливостью она еще больше уязвила самолюбие Лидумиете. Даже не зашла посмотреть, кто приехал, — неужели Ольга, проходя через двор, не заметила их вороного! Схватила на кухне подойник и выбежала в коровник. Бедная Ольга отвыкла, чтобы к ней приходили гости. Соседи всегда приходили к Юрису или Мирдзе, поэтому Ольга, хотя и узнала лошадь Лидумов, все же решила, что это приехал только один Эрик, — наверное, его нарядили с подводой куда-нибудь. Коровы, услышав шаги хозяйки, замычали, и Ольга поспешила к ним, не подозревая, какую бурю возмущения вызвала она в груди Лидумиете, когда та увидала, как хозяйка маленькой усадебки торопливо просеменила к хлеву и даже не взглянула в сторону окна, у которого сидела владелица усадьбы «Лидумы».
— Да, да… — пробормотала гостья, отворачиваясь от окна, и только теперь заметила, что на стене, под стеклом, в красивой рамке, висели портреты Ленина и Сталина. С новой остротой ее начали мучить неразрешимые сомнения, как же она сможет ладить с невесткой, не признающей ни бога, ни церкви. Она не допытывалась — верит Эрик в бога или нет, удовлетворяясь тем, что он никогда не перечил ей, когда она звала его в церковь, ничего не возразил сын и против того, что она в его недавно выкрашенной комнате повесила на стену религиозную картину — спасителя с терновым венком на голове. Потерпит ли это Мирдза?
Часы пробили два, и вот, должно быть, пришла и Мирдза. Собака во дворе радостно взвизгнула — кто-то с ней возился. Дверь комнаты широко распахнулась — сперва ворвалась собака, а за ней, впопыхах, Мирдза.
— Ах, гости! — удивленно воскликнула она.
— Эрик говорил, что на сегодня условился с тобой, — пристально глядя на нее, твердо сказала Лидумиете.
— Ах! Я совсем позабыла!
В третий раз Лидумиете выразительно посмотрела на сына, — но что с ним поделать, как только увидит Мирдзу, глаз от нее не может оторвать. Сходил бы, взглянул на лошадь — ей богу, вышла бы за ним и сказала:
«Не отложить ли сегодняшний разговор, пусть еще раз как следует все обдумает. Что же в этой девушке особенного — только зубы скалит, ни минуты на месте не усидит».
— Эрик, проверь, не оторвалась ли лошадь, — предложила Лидумиете сыну. — Что-то никто ее не видел.
— Там, кажется, стоит какая-то лошадь, — вспомнила Мирдза. — Я и не догадалась, чья она. Мамочки нет дома, мне надо будет пойти коров подоить, — обратилась она к отцу, посмотрев на часы.
— Уже доит, — успокоил Озол, с хитринкой посмотрев Мирдзе в глаза. Наконец-то он начал догадываться о цели приезда Лидумов, и ему стало смешно, что Мирдза этого не понимает. Какая Мирдза славная, и действительно было бы жаль, если бы ее высватали и она ушла из дому.
Было слышно, как Ольга с подойником вошла на кухню, выливала молоко и умывала руки. Мирдза не могла дождаться, распахнула дверь и крикнула:
— Мамочка, вот и к тебе гостья! А ты все жалуешься, что никто не ходит.
Ольга вошла и приветливо поздоровалась с Лидумиете, но та ответила довольно холодно.
Мирдза решила, что теперь она освобождена от обязанностей занимать Лидумиете, которая в последнее время стала к ней неприветлива, должно быть, пришла к другому выводу, чем в прошлую осень; ведь тогда, провожая сына на фронт, она сказала — материнским сердцем чует, что Мирдза ее сыну «суженая». И сейчас атмосфера в комнате какая-то сгущенная, мать Эрика на что-то дуется, и, чтобы не чувствовать на себе ее пытливые взгляды, лучше выйти.
— Эрик, пойдем посмотрим, хорошо ли я устроила пчел на зимовку, — придумала Мирдза повод, чтобы не оставаться дома и увести с собой Эрика.
Они подошли к пчелиному улью, но там не было ничего интересного. В саду деревца еще молодые, да и те без листьев; на дворе нечем было заняться. Мирдза пожалела, что выманила Эрика из дому. Уж лучше бы позвала его к себе в комнату. Теперь надо еще раз пройти мимо отца, мимо Лидумиете, которая сидит нахохлившись, словно наседка, и следит зорким оком, как бы ястреб не заклевал ее цыпленка.
От этого сравнения Мирдзе стало смешно, а смех побуждает к озорству. Она вспомнила, что окно ее комнаты изнутри не закрыто, открыла его, бесшумно забралась в комнату и пригласила Эрика последовать за нею. Он не мог сразу на это решиться и остался под окном.
— Придется тебе табуретку подать, — подзадорила Мирдза.
— Нет, нет… Но как же так, через окно? — бормотал Эрик.
— Обойди кругом, раз ты так хорошо воспитан.
— Не смейся, Мирдза, — попросил Эрик. — И почему ты никогда не хочешь говорить со мной по-серьезному?
— Ну, ладно, я буду серьезной, — и она уселась у окна, облокотившись о подоконник.
— Я не знаю, как это сказать, — начал Эрик и покраснел. — Мы сегодня приехали по такому важному делу…
— Ну, ну, свататься, что ли? — Мирдза не выдержала серьезного тона и рассмеялась, для нее было странным, что в нынешние времена находятся любители отживших церемоний.
— Да, свататься, — смущенно подтвердил Эрик. — Неважно, как это называется. Я приехал договориться, когда мы сыграем свадьбу.
— Свадьбу?
— Ну да, как хочешь… ты ведь меня понимаешь.
— А ты меня сумеешь понять? — спросила Мирдза. — Мне кажется, что в твоем доме я не смогу продолжать начатую жизнь. Ведь мне еще надо кончить среднюю школу.
— Ах, Мирдза, неужели это так важно! — Эрик махнул рукой, словно отгоняя муху.
— Очень важно. Кроме того, мне надо стать политически грамотной. Мне поручено организовать комсомольцев.
— Разве этого не сможет кто-нибудь другой? Зента скоро вернется, — возразил Эрик.
— Работы хватит для обеих. И почему ты не можешь или не хочешь понять, что без этой работы я не могу жить? Почему ты не хочешь стать моим товарищем, не вступишь в комсомол? Молчишь? — продолжала Мирдза, не дождавшись ответа. — Значит, есть какие-то причины, которые мешают тебе стать комсомольцем, стать моим товарищем…
Внезапно что-то вспомнив, она спросила:
— Предположим, мы решим пожениться, и тогда — в загс пойдем или к пастору?
Она видела, как неприятен Эрику этот вопрос, но неужели нельзя вырвать парня из среды, в которую он врос. К несчастью для себя, он находится в плену предрассудков и мещанских традиций.
— Мать, по правде говоря, не захочет, чтобы без пастора, — тихо признался Эрик.
— А ты? Ты сам? Как ты захочешь? — допытывалась Мирдза.
— Мне, пожалуй, все равно. Я мог бы и без пастора, — сказал Эрик.
— Ты мог бы. Хорошо. А если я соглашусь только при одном условии — без пастора?
— Мирдза, разве не все равно! Матери это было бы тяжело перенести!
— Ты, Эрик, уклоняешься от ответа! — не уступала Мирдза. — Нет, нет, — покачала она головой. — Если предрассудки матери для тебя так непреодолимы, как же мы будем жить? Мы с матерью будем как жернова, а между нами — ты.
— Быть может, позже, если вернется мой брат, мы сможем жить отдельно от матери, — предложил Эрик.
— Спасибо за утешение! Будем откровенны, Эрик. Наши шаги не совпадают. Разве ты этого не чувствуешь? — Мирдза посмотрела ему прямо и открыто в глаза. — Мы ошиблись друг в друге. Еще хорошо, что спохватились вовремя.
— Значит, все… кончено? — прошептал Эрик, прислонившись к оконному косяку.
— Нет, ничего не кончено! — воскликнула Мирдза. — Так разговаривают только в старомодных романах. Мы живем в новое время… Эрик, — продолжала она, помолчав, — неужели ты, действительно, не можешь собраться с силами? Хоть характер свой показал бы, а ты — ни то, ни се! — она даже не смогла найти подходящих слов для этого ссутулившегося, обмякшего парня — мягкость его уже граничила с бесхарактерностью. Помимо собственного дома, ему не было никакого дела до окружающего мира. И что это он воображает: она перейдет жить к нему в дом, перейдет жить в комнату, где на стене висит изображение Христа — и не потому, что Эрику так нравится, а потому, что мать навязывает ему эту картину, навязывает свои отсталые взгляды. Эрик хочет, чтобы она стелила для него постель, прибирала двор и отказалась от своего пути, по которому беспрерывно идет в гору, вершину которой ни рукой достать, ни глазом увидать. Какое он имеет право даже пытаться отговаривать ее от этого пути, увлекать в тихую, затхлую лощину, где она может задохнуться?
— Наши шаги не совпадают, — повторила Мирдза, раздельно выговаривая слова. — Значит, расстанемся, Эрик, без вражды. Быть может, когда-нибудь встретимся… Если у тебя хватит сил идти со мной.
Наконец он понял, что поездка не удалась и дольше так стоять нет смысла. Он оторвался от окна и пошел. Вспомнив, что мать осталась в комнате, он обернулся и попросил:
— Пожалуйста, скажи матери, что я хочу ехать домой.
Мирдза через окно видела, как сердитая Лидумиете сравнительно проворно уселась в повозку. Из-под откинутой полости выглянула корзинка, укрытая белой тканью, мелькнуло горлышко водочной или винной бутылки с блестящей головкой.
— Как хорошо, что она оставила свои гостинцы в повозке и нам не пришлось их отведать, — решила Мирдза.
Эрик дернул вожжи, и вороной пошел быстрой рысью.
Всю дорогу Эрик не проронил ни слова. Мать напрасно расспрашивала, что у них с Мирдзой произошло, почему отложил сватовство и почему он такой неразговорчивый. Но Эрик молчал.
Дома он так же молча распряг лошадь, завел ее в конюшню, откатил повозку в сарай и пошел в комнату. Потом, что-то вспомнив, вернулся в сарай к поленнице и, взяв охапку сухих сосновых дров, понес в дом.
— Ты что это, печь хочешь топить? — удивилась мать.
Эрик промолчал. Он затопил в своей комнате печь, а когда дрова как следует разгорелись, снял со стены изображение Христа и со всего размаху швырнул в пламя.
 — Дельный парень, — похвалил Озол. — Выучится на тракториста, вспашет всю волость.
— Так-то оно так, — согласился Лауск. — Но скажу тебе по совести, трудновато приходится одному. Я не привык лентяйничать, мне работа костей не ломит. Но не знаю, день ли слишком короток, или что другое. Только вижу — одна работа другую погоняет. Осенью думал — ну, еще вот этот клочок вспашу. Никак не собрался! Так и замерзла земля невспаханной. Теперь вот — тороплюсь с хлевом, а глаза все на поле глядят. Говорю — оставлю хлев на осень, да жена тормошит: «Знаю я эту осень, опять в подойник дождь капать будет». И верно, не может же скотина стоять в этом наспех сделанном сарайчике, — он показал на жалкую хибарку, которую сколотил еще в довоенную весну.
— И общественные обязанности тоже требуют времени, — заметил Озол.
— В том-то и дело, — подхватил Лауск. — Веришь или нет, но хочется и в книжку заглянуть. Ты сам нам говоришь, что надо учиться, а стоит начать, так уж не оторвешься, нельзя ведь во тьме жить. Дети учатся в школах, и нам, старикам, краснеть приходится, они как бы на другом языке говорят, мы их не понимаем. Эльмар зимой тоже бегал в школу твоей Мирдзы. Иногда прямо из леса. Я говорю: эту сосенку мы еще могли бы свалить. А он — нет, нельзя опаздывать в школу. Все сидит за книгами, видишь, какой бледный стал.
— Ничего, на солнышке порозовеет, — успокоил Озол.
— Вот мы недавно с Эльмаром говорили, — продолжал Лауск, — как-то странно получается. Кое-кто из новохозяев начал батраков нанимать. Я говорю — что ж это, новые господа разведутся.
— Товарищ Озол, — неожиданно вмешался Эльмар, — я уже давно хотел с вами поговорить.
— Почему же молчал? — улыбнулся Озол.
Эльмар растерялся. Видно было, что он не привык разговаривать запросто с людьми, которых считает в чем-либо выше себя. А ведь он хотел говорить не только о себе лично и боялся, что не сумеет как следует высказаться.
— Ну, говори, говори, — подбадривал Озол.
— Я думаю, что пора бы и нам создавать колхозы, — эта фраза пулей сорвалась с губ Эльмара.
— Почему ты так думаешь? — Озол пытливо посмотрел на бледного юношу. Эльмар, сказав это, осмелел и готов был отстаивать свое предложение.
— Иначе земля останется необработанной. Людей маловато. Лошадей тоже не хватает, — доказывал Эльмар.
— Это правильно, — подтвердил Озол. — Но ведь не только поэтому надо создавать колхоз.
Эзер испуганно посмотрел на Озола, видимо, подумав, что тот не хочет его понять. Но раз он уже начал говорить, то не хотел уступать.
— Да ведь Ленин говорил, что при мелком хозяйстве крестьянам из нужды не выбраться.
— Это очень хорошо, что ты читаешь Ленина, — оживился Озол. — Но тогда ты должен также знать, что для создания колхозов необходимо желание крестьян.
— Если бы вы им разъяснили, что в колхозе будет лучше, они пожелают, — настаивал Эльмар.
— Не надо это упрощать, — возразил Озол. — У тебя молодая голова и молодое сердце. Ты сам только получил землю, еще не успел привязаться к своему клочку, еще своей лошади не вырастил. А поговори-ка со старыми крестьянами, тогда узнаешь, как некоторые думают.
— Ты парня не брани, — вмешался Лауск. — Он все это не один придумал. Работая вместе, мы иногда толкуем: быть может, на самом деле легче было бы артелью.
— Само собой, легче, — перебил его Эльмар с жаром. — Тогда все обрабатывали бы машинами.
— Ну, не совсем. По крайней мере, в первое время, пока не все поля вместе, и в колхозе хватило бы работы, — заметил Озол.
— Работа нас не пугает, — сказал Лауск. — Если бы мы рассуждали, как в былые годы, то спокойно копались бы себе в своей земле, потихоньку да помаленьку. Чего в этом году не поспели бы, сделали бы в следующем, постепенно, как наши прадеды новину поднимали. Но нынче — другие времена, и сами мы стали другими, просто смотреть больно, если поле остается невозделанным или сорняком поросло. Идешь мимо, глядеть не хочется. Стыдно смотреть, хотя и не виноват. И тогда мне тоже приходит в голову мысль, что надо нам сообща взяться за эту землю, больше машин и тракторов пустить, тогда мы, право, одолеем ее.
— Конечно, одолеем, — подтвердил Озол. — Только много ли найдется таких, которые рассуждают, как вы?
— Мне кажется, что Гаужен и Мария Перкон тоже были бы согласны, — поторопился сообщить Лауск. — Я как-то раз упомянул. Совсем согласны!
— Маловато, чтобы организовать колхоз, — Озол покачал головой. — Если бы, по крайней мере, дворов пятнадцать согласились, тогда можно говорить. Подумаем еще, обсудим, быть может, удастся. Давайте условимся — вы потолкуйте кое с кем из соседей, и если заинтересуются, то соберетесь все, и я расскажу подробнее о колхозах.
В тот вечер Озол долго не мог уснуть, думая о новом человеке, который рождается и вырастает вместе со своей эпохой. Этот рост происходит незаметно и проявляется не в громких фразах и декларациях, а в простом замечании бывшего батрака Лауска, ставшего теперь хозяином новой жизни: «Больно смотреть, если поле остается невозделанным». Так не сказал бы человек прошлого, живший по поговорке: «Не мой конь, не мой воз». С такими, как Лауск, уже можно строить социализм и в латвийской деревне. Первым шагом является сельскохозяйственная кооперация, крупным значительным шагом, который покажет, что общими силами можно достичь бо́льшего благополучия.
Но люди уже думают о будущем, они начинают догадываться, что раздробленность на мелкие хозяйства является главной помехой в преодолении материальных трудностей и культурной отсталости крестьян. Они даже чувствуют новую опасность — возможное пробуждение собственнических, эксплуататорских стремлений у недавних батраков, у тех, кто почему-либо не может своими силами обрабатывать свою землю и нанимает батрака. Сегодня эти новохозяева считают батраков только помощниками, но постепенно начнут считать своими слугами, стараясь извлечь из них как можно больше пользы; каждый оторванный кусок — выгода, каждый недоданный батраку рубль жалования набивает хозяйский кошелек.
Чтобы ускорить дело восстановления, чтобы пятилетка подняла жизнь на еще большую высоту, нужен хлеб, нужно все, что дает земля, и поэтому она должна давать гораздо больше, чем до сих пор. Эльмар Эзер прав, что рабочих рук не хватает и лошадей мало. В коллективном хозяйстве более тяжелую работу выполняли бы машины, что невозможно на мелких земельных участках. Человек перестал бы быть рабом своего клочка земли и постепенно вырос бы в хозяина больших просторов, повелевающего землей — нынче ты должна мне дать ржи и пшеницы, молока и мяса на столько-то больше, чем в прошлом году.
Борьбу с землей, с природой, борьбу с человеческой психикой, с вкоренившимися в нее в течение столетий отсталостью и рутиной нужно вести одновременно, ибо победу в борьбе со стихией нельзя выиграть без людей, а человека нельзя перестроить без победы над землей и природой, не доказав, чего могут добиться свободный человек и созданные им машины.
Наступила первая годовщина Дня победы. На коннопрокатный пункт стекались люди, чтобы прослушать доклад Озола. Крестьяне еще с зимы привыкли приходить сюда каждое второе воскресенье на вечера и лекции. Помещение оказалось слишком тесным, и пришедшие попозже толпились в дверях зала.
— Зента, строй скорее Народный дом, — смеялась Мирдза, здороваясь с подругой.
— Я уж не знаю, как быть, — жаловалась Зента. — Не могу найти мастеров. Сколько их в волости было, всех прибрал Петер на строительство маслобойни.
— Значит, начинается? — весело пошутила Мирдза.
— Что начинается? — не поняла Зента.
— Начинают сбываться предсказания моего отца на вашей свадьбе. Помнишь?
— Ругаться-то мы еще не ругаемся, но немножко я все же сержусь, у него только и разговоров о своей маслобойне, прямо влюбился в нее. А когда я начинаю о Народном доме, он словно не слышит.
— Давай обставим твоего Петера, — сказала Мирдза с решимостью. — Вызовем его на соревнование и построим первыми.
— Как же построишь, раз не хватает рабочих?
— Построим сами.
— Тебе все шутки, — начала сердиться Зента.
— Что же особенного? Одного плотника найдем в волости. А нет — так заберем у Петера. А в помощники пойдем все: комсомольцы, молодежь — вот увидишь, что и старики не откажутся. Вот те же, что сейчас не могут попасть в зал, — пояснила Мирдза.
Начался доклад. Озол напомнил слушателям о суровых событиях Отечественной войны, о героической победе Советской Армии. Учитель рисования с помощью учеников срисовал с газеты схему боевого пути Советской Армии, наглядно показывавшую, в какой опасности была наша родина и сколько потребовалось самоотверженности, мужества и военного мастерства, чтобы освободить страну и разгромить фашизм в его логове.
От побед на фронте Озол перешел к трудовым победам в первый послевоенный год. Двое школьников вывесили новый плакат, придуманный учителем. На нем были показаны достижения республики в восстановлении народного хозяйства. Учитель в самом деле постарался, ибо за этим последовал плакат с диаграммами пятилетки, но самый большой интерес вызвал последний плакат, относившийся непосредственно к волости.
Здесь был нарисован зелено-желтый квадрат — площадь земли, засеянной в прошлом году, а вокруг него все увеличивающиеся квадраты, показывающие, насколько нужно расширить посевы за пятилетку. Точно так же нарисованные лошади, коровы, овцы и свиньи разной величины наглядно показывали, как увеличится поголовье скота.
В перерыве Мирдза, выйдя в соседнюю комнату, столкнулась с Эриком.
Всю зиму он сидел дома и нигде не показывался, но сегодня пришел на вечер. Мирдза вздрогнула и на мгновение растерялась, не зная, улыбнуться ли ей Эрику, как хорошему знакомому, или же притвориться, что не заметила его. Но Эрик поклонился первым, без улыбки, и Мирдза, быстро ответив ему, нырнула в толпу молодежи. Она почувствовала, что покраснела, и сердилась на себя, что эта встреча испортила ей хорошее настроение. «Краснею и бледнею, словно гимназистка», — ругала она себя. Но Эрик поздоровался так спокойно и сдержанно, словно они когда-то случайно познакомились и больше никогда не встречались.
Зента снова разыскала Мирдзу и предложила воспользоваться тем, что собралось так много народу, — поговорить о постройке Народного дома.
— Ну, что ж, поговори, — согласилась Мирдза.
— Может быть, ты начнешь? — просила Зента. — У тебя лучше получится.
— Ишь какая, любишь кататься, люби и саночки возить, — к Мирдзе вернулось хорошее настроение. — А потом весь почет достанется тебе — в соревновании ты будешь победительницей!
— Нет, Мирдза, бери себе и почет. — Зента была щедрой. — Мы выгравируем твое имя на доске и установим ее в Народном доме над сценой.
— Знаешь, это идея. Я сегодня же оповещу, что имена всех участников строительства будут занесены на доску почета с указанием, сколько каждый отработал дней.
После перерыва должны были начаться выступления. Перед этим на сцену вышел Стасик и от имени рабочих коннопрокатного пункта сообщил, что они уже засеяли свои поля и теперь со всеми лошадьми смогут пойти на помощь новохозяевам.
— Слишком рано, слишком рано! — крикнул кто-то из зала. — Еще могут быть заморозки. Ячмень померзнет.
— Позаботимся, чтобы не померз! — крикнул Казимир в ответ.
— Пиджаками укроете, что ли? — спросил противник раннего сева.
Но этот эпизод все забыли, когда на сцену вышел молодежный квартет, спевший под аккомпанемент аккордеона «Песню о родине». После этого Стасик объявил, что Янина Цекулане прочтет свое стихотворение. Но сцена довольно долго пустовала — ребятам никак не удавалось вытолкнуть Янину. Она сердилась, что Стасик поступил так предательски — обещался не объявлять, кто автор стихотворения, которое она будет читать, но слова не сдержал. Она так разволновалась, что не могла вспомнить первых слов — кому-то пришлось ей подсказать из-за сцены. Зато после заключительных строк:
— Дельный парень, — похвалил Озол. — Выучится на тракториста, вспашет всю волость.
— Так-то оно так, — согласился Лауск. — Но скажу тебе по совести, трудновато приходится одному. Я не привык лентяйничать, мне работа костей не ломит. Но не знаю, день ли слишком короток, или что другое. Только вижу — одна работа другую погоняет. Осенью думал — ну, еще вот этот клочок вспашу. Никак не собрался! Так и замерзла земля невспаханной. Теперь вот — тороплюсь с хлевом, а глаза все на поле глядят. Говорю — оставлю хлев на осень, да жена тормошит: «Знаю я эту осень, опять в подойник дождь капать будет». И верно, не может же скотина стоять в этом наспех сделанном сарайчике, — он показал на жалкую хибарку, которую сколотил еще в довоенную весну.
— И общественные обязанности тоже требуют времени, — заметил Озол.
— В том-то и дело, — подхватил Лауск. — Веришь или нет, но хочется и в книжку заглянуть. Ты сам нам говоришь, что надо учиться, а стоит начать, так уж не оторвешься, нельзя ведь во тьме жить. Дети учатся в школах, и нам, старикам, краснеть приходится, они как бы на другом языке говорят, мы их не понимаем. Эльмар зимой тоже бегал в школу твоей Мирдзы. Иногда прямо из леса. Я говорю: эту сосенку мы еще могли бы свалить. А он — нет, нельзя опаздывать в школу. Все сидит за книгами, видишь, какой бледный стал.
— Ничего, на солнышке порозовеет, — успокоил Озол.
— Вот мы недавно с Эльмаром говорили, — продолжал Лауск, — как-то странно получается. Кое-кто из новохозяев начал батраков нанимать. Я говорю — что ж это, новые господа разведутся.
— Товарищ Озол, — неожиданно вмешался Эльмар, — я уже давно хотел с вами поговорить.
— Почему же молчал? — улыбнулся Озол.
Эльмар растерялся. Видно было, что он не привык разговаривать запросто с людьми, которых считает в чем-либо выше себя. А ведь он хотел говорить не только о себе лично и боялся, что не сумеет как следует высказаться.
— Ну, говори, говори, — подбадривал Озол.
— Я думаю, что пора бы и нам создавать колхозы, — эта фраза пулей сорвалась с губ Эльмара.
— Почему ты так думаешь? — Озол пытливо посмотрел на бледного юношу. Эльмар, сказав это, осмелел и готов был отстаивать свое предложение.
— Иначе земля останется необработанной. Людей маловато. Лошадей тоже не хватает, — доказывал Эльмар.
— Это правильно, — подтвердил Озол. — Но ведь не только поэтому надо создавать колхоз.
Эзер испуганно посмотрел на Озола, видимо, подумав, что тот не хочет его понять. Но раз он уже начал говорить, то не хотел уступать.
— Да ведь Ленин говорил, что при мелком хозяйстве крестьянам из нужды не выбраться.
— Это очень хорошо, что ты читаешь Ленина, — оживился Озол. — Но тогда ты должен также знать, что для создания колхозов необходимо желание крестьян.
— Если бы вы им разъяснили, что в колхозе будет лучше, они пожелают, — настаивал Эльмар.
— Не надо это упрощать, — возразил Озол. — У тебя молодая голова и молодое сердце. Ты сам только получил землю, еще не успел привязаться к своему клочку, еще своей лошади не вырастил. А поговори-ка со старыми крестьянами, тогда узнаешь, как некоторые думают.
— Ты парня не брани, — вмешался Лауск. — Он все это не один придумал. Работая вместе, мы иногда толкуем: быть может, на самом деле легче было бы артелью.
— Само собой, легче, — перебил его Эльмар с жаром. — Тогда все обрабатывали бы машинами.
— Ну, не совсем. По крайней мере, в первое время, пока не все поля вместе, и в колхозе хватило бы работы, — заметил Озол.
— Работа нас не пугает, — сказал Лауск. — Если бы мы рассуждали, как в былые годы, то спокойно копались бы себе в своей земле, потихоньку да помаленьку. Чего в этом году не поспели бы, сделали бы в следующем, постепенно, как наши прадеды новину поднимали. Но нынче — другие времена, и сами мы стали другими, просто смотреть больно, если поле остается невозделанным или сорняком поросло. Идешь мимо, глядеть не хочется. Стыдно смотреть, хотя и не виноват. И тогда мне тоже приходит в голову мысль, что надо нам сообща взяться за эту землю, больше машин и тракторов пустить, тогда мы, право, одолеем ее.
— Конечно, одолеем, — подтвердил Озол. — Только много ли найдется таких, которые рассуждают, как вы?
— Мне кажется, что Гаужен и Мария Перкон тоже были бы согласны, — поторопился сообщить Лауск. — Я как-то раз упомянул. Совсем согласны!
— Маловато, чтобы организовать колхоз, — Озол покачал головой. — Если бы, по крайней мере, дворов пятнадцать согласились, тогда можно говорить. Подумаем еще, обсудим, быть может, удастся. Давайте условимся — вы потолкуйте кое с кем из соседей, и если заинтересуются, то соберетесь все, и я расскажу подробнее о колхозах.
В тот вечер Озол долго не мог уснуть, думая о новом человеке, который рождается и вырастает вместе со своей эпохой. Этот рост происходит незаметно и проявляется не в громких фразах и декларациях, а в простом замечании бывшего батрака Лауска, ставшего теперь хозяином новой жизни: «Больно смотреть, если поле остается невозделанным». Так не сказал бы человек прошлого, живший по поговорке: «Не мой конь, не мой воз». С такими, как Лауск, уже можно строить социализм и в латвийской деревне. Первым шагом является сельскохозяйственная кооперация, крупным значительным шагом, который покажет, что общими силами можно достичь бо́льшего благополучия.
Но люди уже думают о будущем, они начинают догадываться, что раздробленность на мелкие хозяйства является главной помехой в преодолении материальных трудностей и культурной отсталости крестьян. Они даже чувствуют новую опасность — возможное пробуждение собственнических, эксплуататорских стремлений у недавних батраков, у тех, кто почему-либо не может своими силами обрабатывать свою землю и нанимает батрака. Сегодня эти новохозяева считают батраков только помощниками, но постепенно начнут считать своими слугами, стараясь извлечь из них как можно больше пользы; каждый оторванный кусок — выгода, каждый недоданный батраку рубль жалования набивает хозяйский кошелек.
Чтобы ускорить дело восстановления, чтобы пятилетка подняла жизнь на еще большую высоту, нужен хлеб, нужно все, что дает земля, и поэтому она должна давать гораздо больше, чем до сих пор. Эльмар Эзер прав, что рабочих рук не хватает и лошадей мало. В коллективном хозяйстве более тяжелую работу выполняли бы машины, что невозможно на мелких земельных участках. Человек перестал бы быть рабом своего клочка земли и постепенно вырос бы в хозяина больших просторов, повелевающего землей — нынче ты должна мне дать ржи и пшеницы, молока и мяса на столько-то больше, чем в прошлом году.
Борьбу с землей, с природой, борьбу с человеческой психикой, с вкоренившимися в нее в течение столетий отсталостью и рутиной нужно вести одновременно, ибо победу в борьбе со стихией нельзя выиграть без людей, а человека нельзя перестроить без победы над землей и природой, не доказав, чего могут добиться свободный человек и созданные им машины.
Наступила первая годовщина Дня победы. На коннопрокатный пункт стекались люди, чтобы прослушать доклад Озола. Крестьяне еще с зимы привыкли приходить сюда каждое второе воскресенье на вечера и лекции. Помещение оказалось слишком тесным, и пришедшие попозже толпились в дверях зала.
— Зента, строй скорее Народный дом, — смеялась Мирдза, здороваясь с подругой.
— Я уж не знаю, как быть, — жаловалась Зента. — Не могу найти мастеров. Сколько их в волости было, всех прибрал Петер на строительство маслобойни.
— Значит, начинается? — весело пошутила Мирдза.
— Что начинается? — не поняла Зента.
— Начинают сбываться предсказания моего отца на вашей свадьбе. Помнишь?
— Ругаться-то мы еще не ругаемся, но немножко я все же сержусь, у него только и разговоров о своей маслобойне, прямо влюбился в нее. А когда я начинаю о Народном доме, он словно не слышит.
— Давай обставим твоего Петера, — сказала Мирдза с решимостью. — Вызовем его на соревнование и построим первыми.
— Как же построишь, раз не хватает рабочих?
— Построим сами.
— Тебе все шутки, — начала сердиться Зента.
— Что же особенного? Одного плотника найдем в волости. А нет — так заберем у Петера. А в помощники пойдем все: комсомольцы, молодежь — вот увидишь, что и старики не откажутся. Вот те же, что сейчас не могут попасть в зал, — пояснила Мирдза.
Начался доклад. Озол напомнил слушателям о суровых событиях Отечественной войны, о героической победе Советской Армии. Учитель рисования с помощью учеников срисовал с газеты схему боевого пути Советской Армии, наглядно показывавшую, в какой опасности была наша родина и сколько потребовалось самоотверженности, мужества и военного мастерства, чтобы освободить страну и разгромить фашизм в его логове.
От побед на фронте Озол перешел к трудовым победам в первый послевоенный год. Двое школьников вывесили новый плакат, придуманный учителем. На нем были показаны достижения республики в восстановлении народного хозяйства. Учитель в самом деле постарался, ибо за этим последовал плакат с диаграммами пятилетки, но самый большой интерес вызвал последний плакат, относившийся непосредственно к волости.
Здесь был нарисован зелено-желтый квадрат — площадь земли, засеянной в прошлом году, а вокруг него все увеличивающиеся квадраты, показывающие, насколько нужно расширить посевы за пятилетку. Точно так же нарисованные лошади, коровы, овцы и свиньи разной величины наглядно показывали, как увеличится поголовье скота.
В перерыве Мирдза, выйдя в соседнюю комнату, столкнулась с Эриком.
Всю зиму он сидел дома и нигде не показывался, но сегодня пришел на вечер. Мирдза вздрогнула и на мгновение растерялась, не зная, улыбнуться ли ей Эрику, как хорошему знакомому, или же притвориться, что не заметила его. Но Эрик поклонился первым, без улыбки, и Мирдза, быстро ответив ему, нырнула в толпу молодежи. Она почувствовала, что покраснела, и сердилась на себя, что эта встреча испортила ей хорошее настроение. «Краснею и бледнею, словно гимназистка», — ругала она себя. Но Эрик поздоровался так спокойно и сдержанно, словно они когда-то случайно познакомились и больше никогда не встречались.
Зента снова разыскала Мирдзу и предложила воспользоваться тем, что собралось так много народу, — поговорить о постройке Народного дома.
— Ну, что ж, поговори, — согласилась Мирдза.
— Может быть, ты начнешь? — просила Зента. — У тебя лучше получится.
— Ишь какая, любишь кататься, люби и саночки возить, — к Мирдзе вернулось хорошее настроение. — А потом весь почет достанется тебе — в соревновании ты будешь победительницей!
— Нет, Мирдза, бери себе и почет. — Зента была щедрой. — Мы выгравируем твое имя на доске и установим ее в Народном доме над сценой.
— Знаешь, это идея. Я сегодня же оповещу, что имена всех участников строительства будут занесены на доску почета с указанием, сколько каждый отработал дней.
После перерыва должны были начаться выступления. Перед этим на сцену вышел Стасик и от имени рабочих коннопрокатного пункта сообщил, что они уже засеяли свои поля и теперь со всеми лошадьми смогут пойти на помощь новохозяевам.
— Слишком рано, слишком рано! — крикнул кто-то из зала. — Еще могут быть заморозки. Ячмень померзнет.
— Позаботимся, чтобы не померз! — крикнул Казимир в ответ.
— Пиджаками укроете, что ли? — спросил противник раннего сева.
Но этот эпизод все забыли, когда на сцену вышел молодежный квартет, спевший под аккомпанемент аккордеона «Песню о родине». После этого Стасик объявил, что Янина Цекулане прочтет свое стихотворение. Но сцена довольно долго пустовала — ребятам никак не удавалось вытолкнуть Янину. Она сердилась, что Стасик поступил так предательски — обещался не объявлять, кто автор стихотворения, которое она будет читать, но слова не сдержал. Она так разволновалась, что не могла вспомнить первых слов — кому-то пришлось ей подсказать из-за сцены. Зато после заключительных строк:
 — Как это ты, сосед, позволяешь хлебу осыпаться? — спросил Лауск, зайдя к Густу.
— Это мой хлеб, а не твой, — резко ответил Дудум.
— Пусть и твой, но разве поэтому ему надопропадать? — спокойно ответил Лауск вопросом. — У меня, постороннего человека, и то сердце ноет, как же ты сам можешь на это смотреть? Я позову бригаду — разом все будет в скирдах.
— Никого ты не позовешь, и никому на моем поле не позволю распоряжаться, — закричал Густ, рассердившись. — Тебе захотелось почестей добиться твоими большевистскими соревнованиями? Хочешь, чтобы о тебе в газете написали?
— Ты смотри, Дудум, как бы о тебе в газете не написали, — ответил Лауск сдержанно, но строго. — Придется еще бумагу изводить, на такого, человека, как ты.
— Не боюсь! — куражился Густ.
— Баран в лесу тоже хвалился, что волк ему не страшен, но, когда волк спросил его: «Ты что сказал?» — так у того сразу душа в пятки, — усмехнулся Лауск. — Так и с тобой, Густ. Надолго ли хватит твоей смелости? Я тебе вот что скажу — или ты завтра уберешь перезревшую рожь, или мы будем считать ее бесхозной и зачислим в государственный фонд, — сказал Лауск, сам сомневаясь, правильно ли поступил он, следовало ли так говорить. Но слишком он был зол на. Густа. Государству каждое зерно дорого, а этот, словно издеваясь, оставляет рожь несжатой! Пусть самому убыток, лишь бы другим напакостить.
Рожь Густ все же убрал, но точно так же заупрямился при молотьбе. Гаужен разработал точный маршрут для молотилок и заблаговременно, через сельсоветы, сообщал каждому хозяину, к какому дню он должен быть готов к молотьбе. Когда комсомольцы зашли к Густу предупредить, он ответил, что еще не перевез хлеб с поля и завтра молотить не будет. Машина проехала мимо усадьбы Густа, но в тот же день батраки Густа быстро переправили рожь и пшеницу в сарай. Вечером он позвал работников к себе, поставил на стол бутылку водки и после нескольких рюмок начал:
— Вы знаете, что в этом году в России страшный голод?
— Да, говорят, засуха, — ответил старший батрак.
— Да какая еще! Если они сами не скрывают — значит, не на шутку погорело, — Густ от удовольствия пошевелил усами и наполнил рюмки.
— Да, пришла беда, не сказавшись, — вздохнул батрак.
— Поэтому мы должны быть поумнее, а то и нас несчастье постигнет. За ваше здоровье! — Густ чокнулся.
— У нас урожай неплохой. Пусть и не очень богатый, но все же неплохой.
— В том-то и дело. И знаете, что теперь будет? Латвию заставят кормить всю большую русскую страну! — важно сказал Густ, стукнув рюмкой о стол.
— Ну, куда там! Хорошо, если нам самим хватит, — сомневался батрак.
— Ты увидишь, что так будет! За ваше здоровье! — снова чокнулся Густ. — Поэтому я думаю вот что: я — латыш, и вы — латыши, нам, латышам, надо держаться вместе. Пей, Екаб! Руди, пей! — подбодрял он.
— Мы, латыши, еще хотим жить, — продолжал Густ, опрокинув рюмку. — Вот мы и сговоримся и не дадим ничего большевикам. Не дадим! Умники нашлись — будут мне указывать, когда молотить. Да разве я не знаю, что у них за машинами эти молокососы, комиссары ходят! Каждое зерно записывают. А потом, будь добр, отвози им все! А что я весь год есть буду и из чего я вам уплачу? Это их не касается. Мы вот что сделаем — обмолотим бо́льшую часть цепами, и пусть ищут-свищут. Нет у меня больше — и все. Мне-то одному много не надо, но чем я вам заплачу? Раз обещал платить натурой — слово надо сдержать! Пусть меня сажают в тюрьму, пусть ссылают! — Густу хотелось выдавить слезу, но это ему не удалось.
— Да что говорить, хозяин! — успокаивал Екаб. — Свою долю можем обмолотить и цепами, мука посуше будет. А вам в тюрьму лезть незачем! На полях Дудумов всегда родилось. Моя старуха не зря говорит: «У хозяина нашего, наверно, сами ангелы поля удобряют, даже в этом году такие колосья, что солома ломится». Вы поставки сдадите шутя.
Екаб говорил это, желая утешить хозяина и угодить ему, но Густу вовсе не по душе были такие речи. Ему бы нравилось, если бы батрак скулил вместе с ним, что угрожает голод, что надо хлеб попрятать.
— Пей, Екаб! — он сердито налил рюмки. — Пей и молчи! Латыши должны держаться вместе. За обмолот цепами вам добавлю. Для латыша мне не жаль, а этим большевикам — кукиш! Выпейте еще, а утречком, затемно, насадим ригу.
Думини также отказались от молотилки. Когда машина приближалась к их двору, Ирма выбежала навстречу и, размахивая руками, закричала:
— Не заезжайте, не заезжайте! У нас еще не свезено.
— А почему не свезли? — резко спросил Эльмар Эзер, сопровождавший молотилку.
— Ну, не смогли. Хозяин накрыл скирды слишком толстыми шапками, не высохло, — озабоченно объяснила Ирма, — Поезжайте к другим, у кого свезено, мы еще не готовы.
Что ж поделаешь? Раз не перевезен хлеб — молотить нельзя. И машина уехала, не завернув в «Думини». Вечером Ирма сказала мужу:
— Ну, рожь совсем сухая. Начнем?
— Как будто можно.
В темноте они вышли в поле, каждый нес по охапке мешков. Подойдя к скирдам, они снимали покрышки, засовывали колосья в мешки и колотили по ним деревянными вальками. После полуночи, когда мешки были полны, Думинь сходил за лошадью, отвез зерно домой и укрыл на гумне. Утром неблагонадежную батрачку Майю отослали пасти скот и за это время провеяли рожь. Когда накопилось около двадцати пур высушенного в риге зерна, отец Майи выкопал за погребом, в желтом песке, яму, выложил ее досками, и туда опустили мешки.
После этого снова молотили в поле и в риге, веяли и сушили хлеб, копали и наполняли им все новые ямы, пока Думинь не сказал:
— Ну, хватит. Надо и меру знать. Теперь можно звать с машиной.
Когда прибыла молотилка, все удивлялись, почему это у Думиней такой низкий умолот. Машинист разглядывал обмолоченные колосья, не остаются ли там зерна, и ничего не мог понять — пустые, даже голодной мышке тут нечем было поживиться. После этого они принялись за необмолоченные снопы и в недоумении только головами покачивали — какая у Думиней скудная рожь.
— В этом году нам так не повезло, так не повезло, — причитала Ирма, вертясь около машины. — Во время цветения ржи выпал дождь, и она совсем не успела опылиться. А когда жали — осыпалось остальное. Сколько беды нам эта война наделала! Самому ногу оторвало! Такой он теперь работник, потому все и пропадает. Другим исполком помогает, даже таким, кто совсем не пострадал, а на нас взъелись за то, что раньше земли имели немного больше других. Что тут государству сдавать, что сами будем есть? Придется детям торбу на шею повесить, пусть идут побираться.
— Ирма, Ирма, не греши! — воскликнула Балдиниете, выгребавшая из-под машины мякину. — Если тебе в жизни какую-нибудь торбу и приходилось носить, то это — бремя чрезмерного богатства.
— Тебе хорошо говорить, — жалобно ответила Ирма, — русские мальчишки даром скот пасут, сын тоже вернулся. Только что дом сгорел, а земля вся цела, ничего не отобрали, как у нас.
— Не пойму, Ирма, глупая ты или только прикидываешься, разумный человек не стал бы так говорить, — ответила Балдиниете и замолчала. Ирма, видимо, поняла, что этими разговорами у соседей сочувствия не вызовет, и быстро убралась на кухню.
Когда молотьба подходила к концу, в «Думини» прибыла грузовая автомашина кооператива, на которой этой осенью перевозили зерно на ссыпной пункт. На машине приехал агент по заготовкам Лайвинь.
— Ну, хозяин, вам ведь трудновато возить — лошадь убило, сами хромаете, вот приехали подсобить.
Из кухни сейчас же выскочила Думиниете и принялась подмигивать Лайвиню, приглашая зайти в дом, но агент сделал вид, что не замечает, желая высказать при свидетелях все, что у него накопилось на душе.
— Посмотрите, как мало мы нынче намолотили, — Ирма повела Лайвиня и парторга в клеть. — Нельзя ли нам в этом году вместо ржи сдать овес? Хотя бы ради детей оставьте нам немного хлеба.
— У вас как будто градом рожь не побило и другого ничего не случилось? — спросил Лайвинь.
— Ах, боже, что же мы можем сделать, если не уродилось? — Ирма уже собиралась всплакнуть. — Семена тоже нужны, что же вы в будущем году возьмете, если в этом не засеем. Неужто нельзя овсом?
— Не можем. Рабочим нужен хлеб, — твердо сказал Озол.
— Ну, берите, берите все, разоряйте нас, раз у вас нет сердца в груди! — наконец Ирме удалось выдавить слезу.
— Хозяюшка, не тратьте понапрасну слез! А то не хватит их, когда в самом деле надо будет плакать, — подтрунивал Лайвинь. — Лучше сдавайте свою норму, иначе получится, как у хозяина «Дудумов». У него в этом году тоже не уродилось, но когда мы хотели поковырять вилами подсохшие бугорки возле гумна, то стал божиться, что «займет» у соседей и завтра же все сдаст.
— Ну уж берите, берите кровь нашу, — услышав о Густе, Ирма насторожилась и стала более сговорчивой.
Хлеб взвесили, но не оказалось и половины нужного количества.
— Остальное придется «занять» и в течение десяти дней свезти самим на пункт, — сказал Лайвинь.
После этого Ирма весь вечер не переставала причитать:
— Видели, как клеть вымели! Даже семян не оставили. Ах, боже мой, боже мой!
— Как это ты, сосед, позволяешь хлебу осыпаться? — спросил Лауск, зайдя к Густу.
— Это мой хлеб, а не твой, — резко ответил Дудум.
— Пусть и твой, но разве поэтому ему надопропадать? — спокойно ответил Лауск вопросом. — У меня, постороннего человека, и то сердце ноет, как же ты сам можешь на это смотреть? Я позову бригаду — разом все будет в скирдах.
— Никого ты не позовешь, и никому на моем поле не позволю распоряжаться, — закричал Густ, рассердившись. — Тебе захотелось почестей добиться твоими большевистскими соревнованиями? Хочешь, чтобы о тебе в газете написали?
— Ты смотри, Дудум, как бы о тебе в газете не написали, — ответил Лауск сдержанно, но строго. — Придется еще бумагу изводить, на такого, человека, как ты.
— Не боюсь! — куражился Густ.
— Баран в лесу тоже хвалился, что волк ему не страшен, но, когда волк спросил его: «Ты что сказал?» — так у того сразу душа в пятки, — усмехнулся Лауск. — Так и с тобой, Густ. Надолго ли хватит твоей смелости? Я тебе вот что скажу — или ты завтра уберешь перезревшую рожь, или мы будем считать ее бесхозной и зачислим в государственный фонд, — сказал Лауск, сам сомневаясь, правильно ли поступил он, следовало ли так говорить. Но слишком он был зол на. Густа. Государству каждое зерно дорого, а этот, словно издеваясь, оставляет рожь несжатой! Пусть самому убыток, лишь бы другим напакостить.
Рожь Густ все же убрал, но точно так же заупрямился при молотьбе. Гаужен разработал точный маршрут для молотилок и заблаговременно, через сельсоветы, сообщал каждому хозяину, к какому дню он должен быть готов к молотьбе. Когда комсомольцы зашли к Густу предупредить, он ответил, что еще не перевез хлеб с поля и завтра молотить не будет. Машина проехала мимо усадьбы Густа, но в тот же день батраки Густа быстро переправили рожь и пшеницу в сарай. Вечером он позвал работников к себе, поставил на стол бутылку водки и после нескольких рюмок начал:
— Вы знаете, что в этом году в России страшный голод?
— Да, говорят, засуха, — ответил старший батрак.
— Да какая еще! Если они сами не скрывают — значит, не на шутку погорело, — Густ от удовольствия пошевелил усами и наполнил рюмки.
— Да, пришла беда, не сказавшись, — вздохнул батрак.
— Поэтому мы должны быть поумнее, а то и нас несчастье постигнет. За ваше здоровье! — Густ чокнулся.
— У нас урожай неплохой. Пусть и не очень богатый, но все же неплохой.
— В том-то и дело. И знаете, что теперь будет? Латвию заставят кормить всю большую русскую страну! — важно сказал Густ, стукнув рюмкой о стол.
— Ну, куда там! Хорошо, если нам самим хватит, — сомневался батрак.
— Ты увидишь, что так будет! За ваше здоровье! — снова чокнулся Густ. — Поэтому я думаю вот что: я — латыш, и вы — латыши, нам, латышам, надо держаться вместе. Пей, Екаб! Руди, пей! — подбодрял он.
— Мы, латыши, еще хотим жить, — продолжал Густ, опрокинув рюмку. — Вот мы и сговоримся и не дадим ничего большевикам. Не дадим! Умники нашлись — будут мне указывать, когда молотить. Да разве я не знаю, что у них за машинами эти молокососы, комиссары ходят! Каждое зерно записывают. А потом, будь добр, отвози им все! А что я весь год есть буду и из чего я вам уплачу? Это их не касается. Мы вот что сделаем — обмолотим бо́льшую часть цепами, и пусть ищут-свищут. Нет у меня больше — и все. Мне-то одному много не надо, но чем я вам заплачу? Раз обещал платить натурой — слово надо сдержать! Пусть меня сажают в тюрьму, пусть ссылают! — Густу хотелось выдавить слезу, но это ему не удалось.
— Да что говорить, хозяин! — успокаивал Екаб. — Свою долю можем обмолотить и цепами, мука посуше будет. А вам в тюрьму лезть незачем! На полях Дудумов всегда родилось. Моя старуха не зря говорит: «У хозяина нашего, наверно, сами ангелы поля удобряют, даже в этом году такие колосья, что солома ломится». Вы поставки сдадите шутя.
Екаб говорил это, желая утешить хозяина и угодить ему, но Густу вовсе не по душе были такие речи. Ему бы нравилось, если бы батрак скулил вместе с ним, что угрожает голод, что надо хлеб попрятать.
— Пей, Екаб! — он сердито налил рюмки. — Пей и молчи! Латыши должны держаться вместе. За обмолот цепами вам добавлю. Для латыша мне не жаль, а этим большевикам — кукиш! Выпейте еще, а утречком, затемно, насадим ригу.
Думини также отказались от молотилки. Когда машина приближалась к их двору, Ирма выбежала навстречу и, размахивая руками, закричала:
— Не заезжайте, не заезжайте! У нас еще не свезено.
— А почему не свезли? — резко спросил Эльмар Эзер, сопровождавший молотилку.
— Ну, не смогли. Хозяин накрыл скирды слишком толстыми шапками, не высохло, — озабоченно объяснила Ирма, — Поезжайте к другим, у кого свезено, мы еще не готовы.
Что ж поделаешь? Раз не перевезен хлеб — молотить нельзя. И машина уехала, не завернув в «Думини». Вечером Ирма сказала мужу:
— Ну, рожь совсем сухая. Начнем?
— Как будто можно.
В темноте они вышли в поле, каждый нес по охапке мешков. Подойдя к скирдам, они снимали покрышки, засовывали колосья в мешки и колотили по ним деревянными вальками. После полуночи, когда мешки были полны, Думинь сходил за лошадью, отвез зерно домой и укрыл на гумне. Утром неблагонадежную батрачку Майю отослали пасти скот и за это время провеяли рожь. Когда накопилось около двадцати пур высушенного в риге зерна, отец Майи выкопал за погребом, в желтом песке, яму, выложил ее досками, и туда опустили мешки.
После этого снова молотили в поле и в риге, веяли и сушили хлеб, копали и наполняли им все новые ямы, пока Думинь не сказал:
— Ну, хватит. Надо и меру знать. Теперь можно звать с машиной.
Когда прибыла молотилка, все удивлялись, почему это у Думиней такой низкий умолот. Машинист разглядывал обмолоченные колосья, не остаются ли там зерна, и ничего не мог понять — пустые, даже голодной мышке тут нечем было поживиться. После этого они принялись за необмолоченные снопы и в недоумении только головами покачивали — какая у Думиней скудная рожь.
— В этом году нам так не повезло, так не повезло, — причитала Ирма, вертясь около машины. — Во время цветения ржи выпал дождь, и она совсем не успела опылиться. А когда жали — осыпалось остальное. Сколько беды нам эта война наделала! Самому ногу оторвало! Такой он теперь работник, потому все и пропадает. Другим исполком помогает, даже таким, кто совсем не пострадал, а на нас взъелись за то, что раньше земли имели немного больше других. Что тут государству сдавать, что сами будем есть? Придется детям торбу на шею повесить, пусть идут побираться.
— Ирма, Ирма, не греши! — воскликнула Балдиниете, выгребавшая из-под машины мякину. — Если тебе в жизни какую-нибудь торбу и приходилось носить, то это — бремя чрезмерного богатства.
— Тебе хорошо говорить, — жалобно ответила Ирма, — русские мальчишки даром скот пасут, сын тоже вернулся. Только что дом сгорел, а земля вся цела, ничего не отобрали, как у нас.
— Не пойму, Ирма, глупая ты или только прикидываешься, разумный человек не стал бы так говорить, — ответила Балдиниете и замолчала. Ирма, видимо, поняла, что этими разговорами у соседей сочувствия не вызовет, и быстро убралась на кухню.
Когда молотьба подходила к концу, в «Думини» прибыла грузовая автомашина кооператива, на которой этой осенью перевозили зерно на ссыпной пункт. На машине приехал агент по заготовкам Лайвинь.
— Ну, хозяин, вам ведь трудновато возить — лошадь убило, сами хромаете, вот приехали подсобить.
Из кухни сейчас же выскочила Думиниете и принялась подмигивать Лайвиню, приглашая зайти в дом, но агент сделал вид, что не замечает, желая высказать при свидетелях все, что у него накопилось на душе.
— Посмотрите, как мало мы нынче намолотили, — Ирма повела Лайвиня и парторга в клеть. — Нельзя ли нам в этом году вместо ржи сдать овес? Хотя бы ради детей оставьте нам немного хлеба.
— У вас как будто градом рожь не побило и другого ничего не случилось? — спросил Лайвинь.
— Ах, боже, что же мы можем сделать, если не уродилось? — Ирма уже собиралась всплакнуть. — Семена тоже нужны, что же вы в будущем году возьмете, если в этом не засеем. Неужто нельзя овсом?
— Не можем. Рабочим нужен хлеб, — твердо сказал Озол.
— Ну, берите, берите все, разоряйте нас, раз у вас нет сердца в груди! — наконец Ирме удалось выдавить слезу.
— Хозяюшка, не тратьте понапрасну слез! А то не хватит их, когда в самом деле надо будет плакать, — подтрунивал Лайвинь. — Лучше сдавайте свою норму, иначе получится, как у хозяина «Дудумов». У него в этом году тоже не уродилось, но когда мы хотели поковырять вилами подсохшие бугорки возле гумна, то стал божиться, что «займет» у соседей и завтра же все сдаст.
— Ну уж берите, берите кровь нашу, — услышав о Густе, Ирма насторожилась и стала более сговорчивой.
Хлеб взвесили, но не оказалось и половины нужного количества.
— Остальное придется «занять» и в течение десяти дней свезти самим на пункт, — сказал Лайвинь.
После этого Ирма весь вечер не переставала причитать:
— Видели, как клеть вымели! Даже семян не оставили. Ах, боже мой, боже мой!