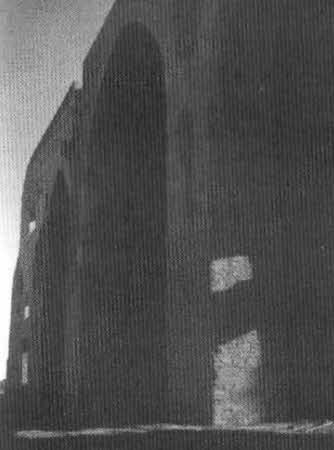ХЬЮ КЕННЕДИ
Двор халифов
ВЗЛЕТ И ПАЛЕНИЕ
ВЕЛИЧАЙШЕЙ ИСЛАМСКОЙ ДИНАСТИИ

*
Hugh Kennedy
THE COURT OF THE CALIPHS
Перевод с английского H. Тартаковской
Серийное оформление А. А. Кудрявцева
Компьютерный дизайн В. С. Петрова
© Hugh Kennedy, 2004
© Перевод. Н. Тартаковская, 2007
© ООО «Издательство АСТ», 2007
ОТ РЕДАКЦИИ
Так получилось, что мировая история в первую очередь ассоциируется с историей европейской. Современная цивилизации выводит свое происхождение от античной и средневековой Европы, находя в них зачатки того, что стало основой современного общества — философию, юриспруденцию или представительную демократию. Правда, при более глубоком исследовании выясняется, что многие весьма знакомые нам общественные структуры и явления куда раньше и куда прочнее укоренились в далеком Китае — сюда можно отнести и прессу, и систему научных степеней, и развитую государственную бюрократию. Однако выросший в последнее время интерес к культуре и истории Дальнего Востока во многом заслонил от нас другую великую цивилизацию — арабский Средний Восток.
Ныне мусульманский мир принято воспринимать как отсталый по отношению не только к Европе, но даже ко многим странам Азии, живущий исключительно нефтью и терроризмом. Однако в первом тысячелетии нашей эры именно принявшие ислам арабы основали величайшую на тот момент империю (по размерам не уступавшую Китайской) и куда более активно использовали вершины античной культуры (в первую очередь греческой), нежели нищая и дикая Европа.
Книга английского историка Хью Кеннеди посвящена расцвету арабского мира — времени правления династии Аббасидов, когда халифат с центром в Багдаде простирался от Туниса до границ Индии, объединяя мусульман всего мира. Именно этот период породил множество легенд, позднее оформившихся в сказки «Тысячи и одной ночи», он стал временем подъема искусства, науки и культуры. Но одновременно это была эпоха гаремных интриг, дворцовых переворотов и гражданских войн, которые к началу X века подкосили халифат, вызвав его распад и возникновение множества отдельных мусульманских государств. Через историю двора халифов автор показывает нам не только взлет и падение династии — он дает яркую, живую картину жизни великой империи, как в ее расцвете, так и в годы кризиса.
Надо заметить, что кризису династии и халифата Хью Кеннеди уделяет заметно больше внимания, чем описанию периода его расцвета. Он анализирует причины неурядиц и мятежей, дает подробную хронику событий и характеристики людей, в них участвовавших, при этом стараясь весьма критически подходить к использованным письменным источникам. В результате возникает картина, во многих аспектах до боли напоминающая современность: развитая и коррумпированная бюрократия, трусливые и жадные управляющие, заботящиеся не столько о благополучии страны, сколько о личном кармане, беспринципные политики и ощутившие сладость власти военные. Даже народные массы, на которые периодически пытается опереться та или другая сторона, состоят вовсе не из тех, кто производит материальные блага, а из столичных торговцев и попрошаек, в лучшем случае— из строителей очередного грандиозного дворца, привлеченных сюда высокой оплатой. Тех же, кто действительно обеспечивал богатство я благополучие халифата — земледельцев Междуречья и ремесленников из провинций, — мы в книге почта не видим.
Автор, пусть вскользь, но наглядно демонстрирует нам то пренебрежение, какие борющиеся за власть вожди испытывали к мусульманам-земледельцам, настоящим источникам своего процветания. Такая ситуация не была случайной — члены правящей династии, как правило, рожденные от неарабских матерей, не воспринимали арабский мир и арабский стереотип поведения как свой. Они в свою очередь брали в наложницы привезенных из дальних стран невольниц, окружали себя наемниками из других земель и просто не ведали, откуда исходит богатство страны — например, что при разрушении ирригационной системы, произведенном в военных целях, орошаемые е
ю земли засыпаются песком либо засоляются навсегда.
Безусловно, у книги есть свои недостатки. Увы, автор не сумел вплести рассказ о культуре, пауке и придворных обычаях описываемой эпохи в хронологическое повествование о судьбе арабской империи и ее властителей. В результате ему пришлось уделять этим темам отдельные главы — то и дело сбиваясь с хронологии и забегая вперед, либо возвращаясь к изложению уже описанных событий. Таким образом, повествование получилось чересчур рваным, но при этом читатель долго остается в неведении относительно многих аспектов раскрывающегося перед ним мира. Не исключено, что главы V, VII и IX должны были вообще идти в начале книги или сразу же за главой I. Тогда у читателя сразу сложилось бы более цельное восприятие описываемой эпохи, ее культуры, экономики, обычаев и норм поведения — а в результате стали бы лучше понятны побудительные мотивы исторических персонажей и обстановка, в которой принимались те или иные решения.
Можно также посетовать, что автор слишком мало внимания уделяет повседневной жизни арабского мира и арабского города, а также практически ничего не говорит о цивилизации, из которой вырос арабский халифат. Это значительно обедняет книгу — но, в конце концов, не стоит требовать от нее невозможного. Исследование Хью Кеннеди называется «Двор халифов» и посвящено достаточно узкому периоду арабской истории и довольно узкому социальному слою этого мира. Другое дело, что именно этот период и этот слой дали миру одну из самых ярких культур и породили одну из самых интереснейших эпох в истории последних двух тысячелетий.





БЛАГОДАРНОСТИ
Это такое удовольствие — благодарить за помощь и поддержку коллег и друзей. Прежде всего я должен высказать благодарность Джудит Херрин, которая первая упомянула имя Джорджины Кейпел. В свою очередь, именно Джорджина убедила меня взяться за книгу, которую я ранее вовсе не предполагал писать. Мне хотелось бы также поблагодарить команду издательства «Уэйденфельд и Николсон» — особенно Пенни Гардинер, чей редакторский опыт и энтузиазм так сильно помогали мне, а также Тома Грейвза за его работу над иллюстрациями. Я испытываю огромную благодарность переводчикам «Истории» Табари, чье прочтение так часто вело меня по тексту, Джулии Брей за свежие и остроумные переводы арабской поэзии, Летиции Ости, которая помогала мне своим глубоким пониманием классической арабской прозы и культуры двора десятого века нашей эры. Я очень благодарен Ребекке Фут за то, что она рассказала мне о своих раскопках в Хумайме, а Джорджине Херман — за предоставленную мне возможность посетить Мере. Также приношу свои благодарности Хелен и Роберту Ирвинам за их гостеприимство в Лондоне и долгие часы плодотворных бесед о различных аспектах востоковедения. И, наконец, я благодарен моей семье, которая всегда принимала мое отсутствие, как физическое, так и в мыслях, с должным терпением и тактом. Именно ей с любовью посвящается эта книга.
ДАТЫ
632 Смерть пророка Мухаммеда
632–661 Праведные халифы (Рашидун)
661–750 Халифы Омейяды
75 °Cаффах
751 Войско мусульман разбило китайцев в битве при Таласе (совр. Казахстан)
751 Пипин, первый из Каролингов, коронован королем франков
752 Основание царства Раштракута в Южной и Центральной Индии
754 Мансур
758–796 Оффа, король Мерсии
762 Основание Багдада
775 Махди
785 Хади
786 Гарун аль-Рашид
789 Смерть Хайзуран
793 Викинги грабят монастырь Линдисфарн
800 Коронация Карла Великого, основание Священной Римской империи
802 Основание Ангкора в Камбодже
803 Падение Бармакидов
809 Амин
813 Мамун
814 Смерть Карла Великого
811–819 Великая гражданская война Лббасидов
812–813 Первая осада Багдада
831 Смерть Зубейды
833 Мутасим
836 Халифат переезжает в Самарру
838 Разграбление Аморнона
84 °Cуд и казнь Афшина
842 Васик
845 Смерть Абд Аллаха ибн Тахира в Хорасане
846 Заговор Ахмеда ибн Насра в Багдаде
847 Мутаввакиль
849 Казнь Итаха
860 Первое нашествие викингов на Константинополь
861 Мунтасир
862 Мустаин
865 Вторая осада Багдада
866 Мутаз
869 Мухтади
869–883 Восстание зинджей в южном Ираке
870 Мутамид
871–899 Альфред Великий, король Англии
882 Киев становится столицей Руси
885–886 Осада Парижа викингами
892 Мутадид
892 Халифат возвращается в Багдад
893 Смерть писателя ибн Аби Тахира
902 Муктафи
907 Падение династии Тан в Китае
908 Муктадир
911 Ролло основывает герцогство Нормандия
923 Смерть историка Табари
932 Кахир
934–940 Ради
935 Ибн Раик провозглашает себя Эмиром Эмиров
ПРЕДИСЛОВИЕ
Со времени восстания 750 года, которое привело династию к власти, и до ее падения в 930-х годах халифат
[1] Аббасидов обладал наивысшей политической властью в исламском мире. Но в нем присутствовало и нечто большее — сама по себе долгая жизнь огромного халифата, который был создан Абу Бекром и его единомышленниками сразу же после смерти пророка Мухаммеда в 632 году и просуществовал в различных видах и в разных местах вплоть до отречения последнего оттоманского халифа в 1925 году.
В более поздние века халифы превратились в чисто декоративную фигуру, без власти и с невысоким статусом. Но триста лет, начиная с 632 года, халифы — сначала четверо «праведных», затем с 661 года Омейяды, и наконец с 750 года Аббасиды — обладали реальной властью и были правителями мусульман всего мира. Они осуществили объединение
уммы (мусульманского сообщества). Двор халифов сформировал стиль поведения всех мусульманских правителей и административную систему, которая послужила моделью для всех успешных режимов.
Задача этой книги — рассказать историю жизни халифов из рода Аббасидов и их двора за двести лет, которые составили их золотой век. Я намеренно использую слово «история» и умышленно излагаю содержание повествовательно, чтобы сосредоточиться на людях и событиях. Это сделано не потому, что историческое значение состоявшихся перемен, социальные и экономические факторы не имеют значения; ясно, что они важны, и я всюду об этом упоминаю. Но при написании научной и академической истории исламского Среднего Востока мы (я имею в виду нашу маленькую группу ученых, которые работают над этой темой) с недоверием относились к сюжетным рассказам и явным выдумкам, поэтому избегали их. Поступая так, мы не делали скидок ни себе, ни своему предмету исследования. Для входящих в наш особый мирок посторонних людей мы сделали нашу область деятельности трудной, проблематичной и достаточно скучной.
В некотором роде мы предали наши источники, ибо арабские хронисты, на сведениях которых строилась наша реконструкция прошлого, сплошь и рядом используют рассказы и анекдоты, чтобы заострить повествование и расцветить личности. Конечно, бюрократия Аббасидов создавала огромное количество документов — сначала на папирусе, а затем, с конца восьмого века, и на бумаге. Однако все они, по существу, потеряны, и нет надежды на их восстановление. В основном мы должны опираться на литературные источники, дабы воссоздать черты этой цивилизации, а большая часть этой литературы — художественная по своей форме. И насколько высоко художественная! В ней честно отразилось течение событий (например, военных кампаний) — но они редко оказываются такими простыми, как кажутся на первый взгляд. Это истории смешные, истории трагические, истории, которые кажутся слегка созерцательными, истории, чей реальный смысл уже потерян для нас.
Если мы хотим понять, как набиралась армия, как собирались налоги, как украшалась комната или каким человеком в действительности был Гарун аль-Рашид, то можем сделать это лишь благодаря тем рассказам и анекдотам, которые мы должны отбрасывать как историки. Спорна надежность этих повествований, под большим сомнением находится их правдивость, сложно отделить факты от выдумки. Даже относительно ключевых событий, например, неожиданной смерти халифа Хади в 786 году, у нас имеются различные мнения, которые противоречат друг другу. Но все они принадлежат современникам или почти современникам — а значит, отражают то, что люди думали о случившемся, то, что, по их мнению, могло случиться именно так.
Поэтому эта книга полна рассказов, и я не прошу за них прошения. Я всего лишь смиренно и нерешительно следую по стопам великих арабских историков девятого и десятого веков.
Эта работа — не полномасштабное рассмотрение ранней исламской истории, потому что последнее прекрасно сделано более квалифицированными учеными, чем я
{1}. Однако важно представить некоторых писателей, за которыми я тянулся.
Мухаммед ибн Джарир аль-Табирн (Muhammad ibn Jarir al-Tabari) происходил, как свидетельствует его имя, из провинции Табаристан на южной оконечности Каспийского моря. По происхождению он был иранцем, но в то же время являлся набожным мусульманином, глубоко почитающим арабскую историю и традиции. В основном он работал в Багдаде, где жил во второй половине девятого века, и таким образом оказался современником многих событий, описанных в его книгах. Он активно поддерживал режим Аббасидов, но не был придворным историком, зависящим от благосклонности и покровительства. Он жил на доходы со своих имений в Табаристане, которые каждый год доставляли ему паломники из его родных мест, проходящие мимо. Он вел аскетический образ жизни и, похоже, не был женат и не имел детей, не участвовал активно и в политике. Он был религиозен и разделял недоверие богачей к простым людям, веря в порядок и иерархию.
А еще аль-Табари был человеком поистине удивительного трудолюбия. Его огромная «История пророков и царей» недавно переведена на английский язык. Она насчитывает тридцать восемь печатных томов, в каждом из которых много больше двухсот страниц — в общей сложности, вероятно, десять тысяч страниц. И это еще не предел его стараний — он написал также комментарии к «Корану», которые ненамного короче. Обе работы, и комментарии, и «История», являются классикой в своих областях. Табари особо ценен как историк, потому что включал в свои описания более ранние работы, целыми книгами или фрагментами, почти дословно. Это не было плагиатом, так как он не пытался претендовать на авторские права и показывал это совершенно явно. Некоторым образом «История» Табари — скорее целая библиотека, чем обычная книга; но сам факт сохранения такого материала означает, что ее автор близко передает многие подлинные голоса и является свидетелем высказывания этих мнений. «История» формирует фундамент моей работы точно так же, как она является фундаментом для всех остальных работ по ранней истории ислама.
Абу’ль-Фарадж аль-Исфахани (Abu’l Faraj al-Isfahâni, умер в 967 г.), «человек из Исфагана», несмотря на свое имя, являлся арабом по происхождению; он действительно был потомком халифов Омейядов, которые правили до прихода в 750 году Аббасидов. Однако он не был приверженцем старой династии, его политические симпатии принадлежали скорее потомкам Али. Он создал грустное, но очень точное описание гибели членов дома Али от рук пришедших к власти Аббасидов. Именно его великой «Книге песней» я во многом следую в этой работе. Как и «История» Табари, она огромна: ее никогда не переводили на английский язык, но арабские издания насчитывают более двадцати больших томов. Работа Табари не лишена легковесных отрывков, но в основном посвящена серьезным вопросам политики и войны. Напротив, Исфахани интересовался только песнями, певцами и поэтами. Хотя его труд и научен, он все же более беззаботен, и автор сохраняет многочисленные эпизоды — информативные, смешные, скабрезные, — открывающие окно в повседневную жизнь тою времени. Как и Табари, он старается дословно сохранить передаваемый рассказ и уважает свои источники; благодаря ему мы можем ознакомиться с манерой изложения таких писателей девятого века, как ибн Аби Тахир (Ibn Abi Tahir), несмотря на то, что большая часть подлинников утеряна.
Еще одна важная работа по истории Аббасидов — это «Золотые луга» Масуди (Mas'üdï). Данная книга представляет собой общую историю исламскою мира, отражая примерно тот же период, что и «История» Табари. Однако во многих отношениях это более приглаженное литературное произведение. Она соединяет исторический рассказ с очаровательными описаниями жизни и обычаев при дворе. Более литературный стиль делает се в некотором роде менее живой, чем более грубые дословные пересказы Табари, и иногда кажется, что рассказы Масуди отражают восприятие его собственного времени, а не более раннего периода эпохи Аббасидов. Но Масуди все-таки создал замечательное произведение. Существует английский перевод тех частей «Золотых лугов», которые относятся к эпохе Аббасидов. Перевод этот сокращенный, но живой и надежный; быть может, он лучше всего способен познакомить неспециалиста с арабскими историческими традициями.
Я использовал множество других источников для накопления деталей, углубления в тему и понимания; специалисты найдут их в примечаниях и библиографии.
Эта книга не является общей историей халифата Аббасидов. Она фокусируется на халифах, их дворе и придворной жизни. Включено также несколько историй из провинциальной жизни. Я сознаю, что не затронул огромные пласты культурной жизни того периода. Я игнорировал становление исламских законов и теологии этого периода, которые заложили фундамент для развития этих предметов на все последующие времена — именно в этот период собирались и эволюционировали заветы Пророка. Но я не отвел места этому процессу, поскольку за несколькими исключениями эти ценные инициативы не были производной культуры двора или увлечениями халифов. Они шли скорее от здравомыслящих и трудолюбивых горожан Багдада и других городов, чей образ жизни во многих отношениях являлся противоположностью очаровательному, но иногда морально сомнительному миру двора. Мой анализ поэзии и литературы эпохи Аббасидов лишь иллюстративен и вовсе не исчерпывающ; он рассматривает искусство как часть более широкой культуры двора и сосредоточен на жизни писателей и их работе.
Я сознаю, что мои более строгие и образованные коллеги могут счесть эту книгу чересчур фривольной. При концентрации на драматических событиях, выдающихся личностях и мелочах повседневной жизни народа может показаться, что она идет вразрез со многими последними тенденциями в исторических работах. Но я не прошу прощения за попытку представить более широкой аудитории темп, волнение, обаяние, страхи и опасности жизни при дворе Аббасидов.
Я также понимаю, что некоторые читатели-мусульмане могут увидеть в этой книге некую непочтительность к славным дням Аббасидов. Халифам и их советникам не оказывается подобающее почтение. Честно говоря, книга содержит заметную долю описаний возлияний и секса. Тот факт, что вино пилось в больших количествах и лилось весьма щедро, может сильно раздражать набожных людей. Однако тут нет ничего сверх того, что присутствует в оригинальных арабских источниках. Писатели девятого и десятого веков знали, что их правители имеют человеческие слабости, и с удовольствием их описывали. Создание стерильной, отмытой добела версии не послужит пониманию сущности Халифата. Мой рассказ лишь отражает богатство и разнообразие человеческой натуры; храбрость и преданность, ум и расчетливость, жестокость и продажность, глупость и доверчивость — все описано тут.
В некоторых местах читателя может удивить язык. Арабским авторам этого периода, включая благочестивого Табари, не запрещалось использовать вульгарную, непосредственную речь, которая приводила в замешательство более поздних авторов. Когда великий историк тринадцатого века ибн аль-Асир (Ibn al-Atlïïr) кратко излагал историю Табари, то был поражен, что «такой богобоязненный человек, каким тот являлся», мог воспроизвести скабрезную поэму о сексуальных наклонностях халифа Амина и доставил себе удовольствие процитировать пару вполне невинных строчек. Но критик девятого века в сфере культуры Джахиз (Jâhiz) писал: «Некоторые из разделяющих идеи аскетизма и самоотречения чувствуют неловкость и смущение при употреблении слов «влагалище», «член» и «половой акт». Но большинство таких мужчин не обладают ни знаниями, ни честью, ни благородством, ни достоинством»
{2}. Я намеренно не убирал такие моменты в рассказе и не пытался спрятать их в «скромной неясности мертвого языка», ибо они являются неотъемлемой чертой этой живой и здоровой культуры.
Эта книга — попытка представить неспециализированной аудитории богатую историю и культуру того периода, а также тех мужчин и женщин, которые ее создавали. Халифат Аббасидов в восьмом и девятом веках был таким же центром мировой не горни, как Римская империя в нервом и втором веках. Как и в Римской империи, результатом стало политическое влияние и развитие общества следующих поколений. И все-гаки людские характеры и события золотого века Халифата в основном неизвестны вне (а зачастую и внутри) границ мусульманского мира. Я надеюсь, что эта книга немного продвинет нас к тому, чтобы сделать халифов Аббасидов частью мироощущения образованных людей таким же образом, как в него вошли миры Древней Греции и Рима.
Заметки о транслитерациях и именах
Неарабский читатель этой работы столкнется со многими страшными и непривычными именами, которые могут оказаться трудно воспринимаемыми и плохо запоминающимися. Я попытался сделать имена насколько возможно более простыми, но знаю, что проблемы все-таки остались.
В настоящее время существуют стандартные и вполне приемлемые
пути транслитерации арабских букв в римскую письменность. Я не принял целиком ни один из них. Неарабисту не очень поможет возможность различать два типа
b, s или
I, а читатели, которые знают язык, как-нибудь разберутся сами. Арабский язык имеет и длинные, и короткие гласные звуки, это в большинстве случаев я указываю. Мне кажется, полезно знать, что имя халифа Рашида произносится скорее как «Рашимд», но отнюдь не как «Раашид». Простое стоящее
ā произносится как долгое «аа»,
ī — как «ии», a
ÿ — как «уу», и ударение падает на эти долгие звуки.
Я также отметил арабскую букву «айин»
(ауп) как «
с»,
[2] когда она находится в середине слова. «Айин» — это характерный для арабского языка согласный звук, произношение коего можно выучить только со слуха, повторением. Вероятно, более разумно считать его продлением с запинкой предыдущего гласного звука. Символ
‘ (по-арабски
hamza) — это просто горловая остановка.
Сами имена можно разделить на отдельные труппы. Халифы Аббасиды имели данные при рождении имена — но, как и их отцам, когда они вступали на трон, им давались официальные титулы, под которыми они обычно и известны. Со времен Мутасима эти титулы почти всегда становились активной частицей имен на «Му-», что дает определенное единообразие при титуловании.
Данные имена отдельных личностей иногда имели библейское происхождение: Ибрахим
(Ibrāhīm) — это Авраам, Исхак
(Ishāq) — Исаак, Юсуф
(Yūsuf) — Иосиф, Муса
(Mūsa) — Моисей, Гарун
(Нārūп) — Аарон, Яхья
(Yahya) — Иоанн, а Иса
(Isā) — Иисус. Некоторые имена, такие, как Мухаммед и Али, имеют чисто исламское религиозное значение. Существовали также имена, определяющие носителя как раба Бога
(абд) под любым из его имен, чаще всего Абд Аллах, — но также Абд аль-Малик (раб царя).
Людей называли также по их отцам, например, ибн Фулан
(Fulān означает попросту «какой-то») или по их сыновьям, например, Абу Фулан. Мы даже наталкиваемся на людей, которых звали ибн Аби Фулан, «сын отца какого-то». Женщин именовали бинт Фулан, «дочь какого-то», — или, что более обычно, Умм Фулан, «мать какого-то».
Однако многие имена, особенно не арабские, например, тюркских солдат в девятом и десятом веках, не укладываются в данные примеры, и иногда из-за причуд арабской орфографии мы не можем быть уверены в том, что они означали и как произносились.
Монеты, веса и длины
В период правления Аббасидов в обращении ходили две основные монеты. Самым ценным был золотой
динар — маленькая монетка примерно сантиметр в диаметре. Вместе с ним существовал более крупный
дирхем, — тонкая серебряная монета чуть больше двух сантиметров в диаметре и весящая около трех грамм. Все монеты имели надпись, но, за исключением редких случаев, были лишены изображения. Соотношение между двумя монетами не было постоянным, но в девятом веке динар стоил примерно двадцать дирхемов. Обычно монеты весили не одинаково, и часто динар был единицей счета, а не настоящей монетой. В восьмом веке существовала модная монета, называвшаяся
даник, но, похоже, к середине девятого века она ушла из обращения.
Главной единицей веса был
ратл (от греческого
литрон то есть литр). Он сильно разнился при переходе из одного района исламского мира в другой, но в Ираке в девятом веке обычно был равен примерно 400 граммам — то есть немного меньше фунта английской системы мер.
Корот кие длины измерялись в локтях
(дхира), которые примерно равнялись половине метра. Более длинные расстояния измерялись в
милсах (римские мили) или в персидских
фарсахах (парсанг).
Я давал большинство размеров в современных эквивалентах — и конечно, они приблизительны.
Глава I
РЕВОЛЮЦИЯ
Это случилось около 720 года нашей эры. Странствующий продавец благовоний обходил небольшие деревеньки в полупустынной местности южного Иордана. Ходил он в стороне от главных путей, средн мелких деревень и стоянок бедуинов, вдали от центров власти — в 400 километрах к югу от Дамаска и в 640 километрах к северо-западу от Медины. В его появлении не было ничего необычного, и его принимали как одну из черт местной жизни. Именно это ему и было нужно, потому что Букайр ибн Махан выполнял миссию, цели которой простирались намного дальше, чем просто заработать на жизнь ремеслом странствующего коробейника в этой удаленной части мусульманского мира.
Начнем с того, что в своей родной Kyфe в южном Ираке он был довольно зажиточным человеком. Он много путешествовал, служа наемником в мусульманских армиях, покорявших горные районы Джурджана
[3] на южном берегу Каспийского моря; он ходил в Хорасан — огромную необжитую провинцию на северо-востоке Ирана, которая являлась границей мусульманского мира в Центральной Азии. Перед тем, как покинуть дом, он узнал, что в далеком Синде (южный Пакистан) умер его брат, оставив значительное состояние, и он должен спешить туда, чтобы уберечь свое наследство. Но он отказался, так как в уме у него были гораздо более важные мысли.
Для человека его положения путешествие не было трудным. Мусульманская империя, которой с 661 года правила династия Омейядов, имела мало внутренних границ. Коптские христиане, жившие на границе с египетскими землями, были обязаны носин, на шее свинцовые печати и иметь при себе написанный паспорт, если хотели переехать из одного города в другой. Но на Букайра, который был мусульманином и представителем не бедноты, а нового правящего класса, никто даже не покосился с подозрением, когда он приехал из Ирака в сирийскую столицу Дамаск, купил осла, нагрузил его благовониями и отправился на юг.
Когда он провел в районе достаточно времени, чтобы его привыкли считать простым торговцем, Букайр пришел в поселение Хумайма. Он спросил, где можно остановиться, и его направили в гостиницу. Там он переоделся, сняв с себя одежду путешественника, и приступил к реальному делу.
Сегодня Хумайма — это засыпанные песком руины на выжженной равнине южного Иордана; ныне она известна как Хисма. Город находится всего в одном дне пути от окаймленного пальмами берега Красного моря у Акабы, но бриз не долетает так далеко в глубь континента. Окружающие горы каменисты
и бесплодны, а на юго-восточном горизонте, сквозь дрожащее марево жары внезапно и драматически проявляются пики гор Рум, неожиданно высоко торчащие на краю плоской песчаной равнины.
В наши дни Хумайма необитаема, но в древности ома выглядела совсем по-другому. Этот поселок основали еще набатайцы. Тщательнейшая экономия воды и собирание в специальные цистерны того, что пролилось с неба зимой, сделали возможным ведение здесь сельского хозяйства. Под управлением римлян поселок расцвел, тут были построены даже термы, сами по себе ставшие вторым чудом гидравлической инженерной мысли в этой пустыне.
Но Букайр прошел свой длинный путь не для того, чтобы любоваться системой орошения. Он пришел повидаться с хозяит ном самого богатого дома в Хумайме. Мухаммед ибн Али вел жизнь тихого провинциального джентльмена. Он владел фруктовым садом примерно из трехсот деревьев, за которым сам и ухаживал и в котором уединялся для молитвы; вероятно, в основном это были оливы. Дом его состоял из нескольких одноэтажных построек, окруженных прямоугольной оградой. В середине восточной стены находились ворота в усадьбу, в нескольких ярдах на юго-восток от них стояла маленькая мечеть с бросающейся в глаза нишей для молитвы, обращенной в сторону Мекки. Именно к этой мечети собирались мужчины семьи, чтобы разделить совместную трапезу, поговорить о религии и обсудить дневные дела.
Дом не обладал великолепием дворцов правящей семьи Омейядов с их прекрасной работой по камню и богатыми украшениями, но стены некоторых комнат были покрыты фресками, которые придавали гипсу вид мрамора. Мебель украшали пластины из слоновой кости, хотя в основном люди сидели и спали на небольших матах и так называемых
фарш — набивных войлочных тюфяках, комбинации матраса и подушки, которые являются самой типичной вещью традиционного арабского домашнего обихода.
Для всего внешнего окружения Мухаммед ибн Али был просто верующим человеком и скромным землевладельцем. Но, насколько было известно Букайру, у хозяина дома имелось одно свойство, делающее его особым человеком: он был членом семьи пророка Мухаммеда.
Сам Мухаммед умер примерно за девяносто лет до того, как Букайр отправился в путь. Его собственный статус посланца Господа был неоспорим — но он оставил слишком мало указаний на то, как должна жить мусульманская община после его смерти. Споры начались, когда тело Пророка еще только обмывали, готовя к похоронам. Его товарищи под началом Абу Бекра и Омара, которые находились с ним в Мекке с давних дней, считали, что у них есть представление и опыт, чтобы вести мусульман и стать естественными лидерами. Другие, особенно люди из города Медины, которую Мухаммед сделал своим домом и базой для деятельности в последние десять лет своей жизни, были не так в этом уверены и надеялись, что осуществлять главенство сможет семья Пророка.
У Мухаммеда не было выживших сыновей, но он оставил взрослую дочь Фатиму. По местному обычаю она вышла замуж за своего двоюродного брата, Али ибн Аби Талиба. Они породили двух сыновей, Хасана и Хусейна, внуков Мухаммеда, которых пророк очень любил и часто качал на коленях.
В конечном счете в борьбе победили соратники Пророка, хотя Анн все же удалось недолго и трудно поцарствовать в качестве халифа с 656 по 661 годы. Когда власть халифов перешла к Омейядам из Дамаска, семья Пророка оказалась в оппозиции. Но их статус в среде верующих только укрепился, когда в 680 году Хусейна с семьей убили солдаты халифа Омейяда Язида; это событие все еще широко отмечается проявлениями народного горя и самобичеванием в Иране и других шиитских регионах.
Семья Пророка оставалась последней надеждой для всех тех старых и новообращенных мусульман, которые чувствовали, что исламское государство Омейядов (не принадлежавших к семье Пророка) предает идеи ислама — или, если выражаться более прозаично, не дает этим людям того благополучия и статуса, которых, но их мнению, они заслуживают. Их довод звучал так: «Если бы только мы могли восстановить роль семьи Пророка, несправедливость и зло были бы изгнаны навсегда». Эти люди стали известны как
Шийа, или партия Али.
Но Мухаммед ибн Али, землевладелец из Хумаймы, не был потомком ни Мухаммеда, ни Али. Его предком был Аббас, дядя Пророка по отцовской линии. В некотором роде Аббас являлся весьма престижной фигурой: дядя со стороны отца играл главную роль в жизни огромной семьи, и Аббас защищал своего племянника от его врагов на ранней стадии борьбы. Но с другой стороны, наследование было проблематичным; никуда нельзя было уйти от того факта, что Аббас так и не стал мусульманином и наверняка будет горсть в аду. Кроме того, потомок дяди Пророка никогда не сможет получить тот же статус, ведь в жилах его не течет кровь Мухаммеда.
Поэтому во многих отношениях Мухаммед ибн Али вряд ли представлялся Букайру интересной фигурой. Сам Букайр происходил из гарнизонного города Куфа в Ираке, стратегического пункта, основанного мусульманскими завоевателями в месте, где орошаемая Савад (Черная Земля) иракской аллювиальной равнины граничит на северо-востоке с арабскими пустынями. Большинство куфанцев ненавидело Омейядов, которые унизили их город до статуса провинциального и прислали надменных и властных сирийских солдат править ими. Здесь существовала давняя традиция верности семье Пророка, которая время от времени проявлялась в гибельных попытках восстать. Букайр принадлежал к маленькому кружку политически активных людей, насчитывающему, вероятно, не более тридцати приверженцев. Он верил в притязания семьи, но решил не выказывать свою преданность никому из прямых потомков Мухаммеда. Он предпочитал сам распоряжаться собственными действиями, чем быть во власти чьих-то поступков.
Он пришел к Мухаммеду ибн Али, чтобы предложить ему свою преданность и уговорить его принять активное участие в политике. Букайр явился не с пустыми руками. Они с товарищами собрали 190 золотых динаров, а одна из женщин послала золотое кольцо и халат, вышитый собственными руками
{3}. Во время пребывания в Хумайме Букайр напомнил своему хозяину о его принадлежности к семье Пророка и удивился, почему тот остается в уединении в этой далекой деревушке, когда многие в мусульманском мире ждут вождя родом из этой семьи. Он сам много путешествовал и говорил с большим количеством таких людей. Букайр отдельно упомянул иранского мусульманина, который заявил ему (по-персидски): «Я никогда не видел более бестолковых людей, чем арабы. Когда их Пророк, да будет с ним мир, умер, они передали его власть кому-то из совершенно иного рода». И Букайр описал, как персиянин рыдал от горя из-за сложившейся ситуации, и сам он при этом не мог сдержать слез.
В такой весьма эмоциональной атмосфере Букайр уговорил Мухаммеда оставить свое уединение в пустыне; они вдвоем покинули Хумайму, направившись в Дамаск. Тут им пришлось расстаться: Мухаммед ибн Али пошел на север, чтобы биться как
гази (воин) в очередной священной войне на византийской границе, в то время как Букайр направился на восток, в Ирак. Прежде чем расстаться, они договорились поддерживать связь, и под конец Букайр театральным жестом взял руку Мухаммеда и формально заверил его в верности ему как лидеру мусульман. Это был первый человек, давший клятву верности члену семьи Аббасидов. Затем Мухаммед предупредил Букайра, чтобы тот хранил происшедшее в секрете, но последний лишь рассмеялся. Он сказал: «Я не так глуп», — и ушел, чтобы продолжить свое путешествие
{4}.
Этот рассказ пришел к нам из истории движения Аббасидов, написанной неизвестным автором в первые годы после того, как семья Пророка пришла к власти в Халифате; подобно историям об истоках любого крупного политического движения, он расцвечен мифами и легендами. Ни Мухаммед, ни Букайр не дожили до триумфа их тайного сговора, начало которому было положено в Хумайме. Однако зерно рассказа безусловно правдиво: маленькая группка активистов в Куфе связалась с Аббасидами в Хумайме и подстрекала их ввязаться в выяснение настроений в пользу семьи Пророка в Хорасане.
Хорасан протянулся от великих пустынь Центральной Персии за границы современного Прана вплоть до самых границ Китая. Это была территория драматических географических контрастов. Богатые города в оазисах, такие, как Бухара, Самарканд и Нишапур, были разделены огромными пространствами песчаных степей с низкорослым кустарником. Могучая река Окс
[4], бегущая с гор Памира вдоль северной границы того государства, которое сейчас называется Афганистаном, извивала свое основное русло между пустынями Кара-Кум (Черные Пески) и Кызыл-Кум (Красные Пески), пока не разворачивалась в дельту в оазисе Хорезм, где впадала в Аральское море. Вдали от пустынь и оазисов вздымались громадные горы Памира и Гиндукуша (Хинду Куш — «индийский убийца»), ниже по их склонам расположились деревни и укрепленные городки. Мужчины там все еще соблюдали древние обычаи и помнили, что пришли с плоских равнин, ими правили князья, потомки гордых и древних предков.
В различных местностях обитало абсолютно разное население. Там жили иранцы, расселившиеся в городах и деревнях, особенно на западе; жили согдийские купцы, которые веками умудрялись поддерживать торговлю с Бухарой и Самаркандом и водить караваны далеко в пустынную Центральную Азию и еще дальше в Китай, по Великому шелковому пути; здесь обитали охотники-тюрки, бродившие по степям нынешнего Казахстана и горам Киргизии, — необычайно выносливые люди, которые так и жили верхом на своих лошадках и были мастерами стрельбы из лука с седла, самой трудной и самой смертоносной формы войны верхом. Тут имелась и местная аристократия из иранцев и тюрков. Иногда появлялись правители из оазисных поселений, например, владыки Бухары, но чаще власть местных царьков ограничивалась лишь горными крепостями.
К юго-востоку от Самарканда поднимались крутые горы Фан, которые дали приют княжеству Ушрусана, чьи наследные цари, Афшины, противились любым попыткам мусульман оказывать давление на их древние традиции и образ жизни.
Царский двор здесь сохранял аристократическую культуру. Песни и стихи, основанные на древних иранских преданиях, исполнялись бродячими поэтами; эта литературная традиция стала основой для «Шах-Намэ», персидского народного эпоса, созданного около 1000 года нашей эры. В нем излагались предания о старых царях, Джемшиде и Кай Хосрове, о могучем герое Рустаме, который убил собственного сына Сухраба на берегу Окса. Это предание, одно из самых великих трагических повествований на свете, стало известно в читающем по-английски мире благодаря поэту викторианской эпохи Мэтью Арнольду. Картины из жизни этих владык представлены на стенных росписях и серебряных блюдах. Мы видим их пьющими на праздниках, на охоте верхом, на слонах во время процессий. В длинных халатах, с монголоидной внешностью, они сильно отличались от арабских мусульман. Их богатая аристократическая культура явно оказала влияние на двор Аббасидов.
В эту мешанину языков и людей арабские мусульмане начали вторгаться с середины седьмого века и далее уже неудержимо. Арабские племена растекались через долины, закрепляясь в деревнях и в степи. Они встретили упорное сопротивление со стороны как тюрков, так и иранцев: основная часть арабов просачивалась из Ирака, и эти удаленные земли на северо-восточном краю халифата вскоре стали одними из самых сильно исламизированных областей вне Аравии.
Арабские захватчики смогли управлять городами долин, но им пришлось добиваться тяжелых компромиссов с тюркскими охотниками и иранскими князьями. Часто случалось, что на пришельцев сильно влияли обычаи и язык тех, кого они завоевали и с кем роднились. В Хорасапе появилась арабо-иранская элита — мусульмане по религии, но говорящие на персидском языке и с персидским образом жизни.
Столицей этой провинции был древний город Мерв
[5]. Он лежит на низменной равнине, где очень жарко летом и часто неимоверно холодно зимой. Дождей там практически не бывает, и город теперь, как и тогда, существует лишь потому, что река Мургаб, которая течет с Афганских гор на север, образует в глубине территории дельту. Любой урожай тут можно получить лишь с помощью орошения. Издревле здесь находился центр выращивания хлопка и производства полотна; кроме того, место славилось замечательными дынями, которые разрезали на полоски, сушили и экспортировали вплоть до самого Ирака.
Названный Александром Великим Маргианой, Мерв был крупным городом уже к тому времени, когда Александр завоевал его в 329 году до нашей эры. Когда же в 650 году нашей эры сюда пришли арабы, они нашли
гигантский, разбитый на прямоугольники город, окруженный высокой глиняной оградой — не аккуратными вертикальными стенами классических греческих или римских укреплений, а огромными наклонными крепостными валами Средней Азии. Валы завершались стенами из обожженного кирпича с галереей поверху и башнями, расположенными на некотором расстоянии друг от друга. С одной стороны располагалась массивная овальная цитадель из глиняного кирпича — таких же огромных размеров и насчитывающая ко времени завоевания более тысячи лет.
Мерв был пограничным форпостом персидских царей Сасанидов в этом районе, а арабы переделали его в свой оплот. Именно отсюда ежегодные экспедиции уходили покорять и грабить богатые оазисы Трансоксании (земли за Оксом), и имен, сюда, в Мере, привозилась для продажи добыча. Именно тут арабские солдаты получали свои деньги, и тут же их тратили. Купцы и ищущие работу мужчины толпами прибывали сюда из других областей Хорасана; вскоре здесь появились кварталы бухарцев, согдийцев и людей из далекого Тохаристана в верховьях Окса Правитель Бухары выстроил здесь свой дом, чтобы поддерживать связь с арабскими властями. Возникло производство железа для обеспечения армии военным снаряжением. Вскоре город выплеснулся за древние стены, и вдоль канала Маджан на запад протянулись новые богатые кварталы. Именно тут был построен новый дом правителя, и в этом жилом районе собрались первые приверженцы Аббасидов, чтобы окрасить свои одежды в черный цвет как знак преданности избранной ими династии. Два века спустя дом еще показывали посетителям в числе местных достопримечательностей
{5}.
Именно среди мусульман этого развивающегося мегаполиса первые посланцы Аббасидов, пришедшие из Ирака, нашли своих последователей. Как во многих городах «третьего мира» наших дней, быстрый рост Мерва привел к сильному нарушению равновесия между накопленными богатствами и статусом. Многие мусульмане — и арабские иммигранты, и недавно обращенное местное население — чувствовали, что халифы Омейяды из Дамаска, лежащего в двадцати днях пути на запад, находятся очень далеко даже для самого быстрого посланца. Местные правители, назначенные Омейядами, часто не учитывали интересов набожных и смиренных мусульман провинции. Посланцы Аббасидов, которые вскоре после визита Букайра в Хумайму начали прибывать в эту область, имели простую установку: если все мусульмане поддержат выбранного члена семьи Пророка (эмиссары тщательно избегали называть имя Аббасидов, дабы те как можно дольше оставались одними из многих), то правление Омейядов можно будет сбросить, создать истинно исламское государство и гарантировать соблюдение интересов всех мусульман.
Посланцы Аббасидов создали тайную сеть единомышленников. Конечно, между первым ядром в Иране, семьей Аббасидов и их растущей армией сторонников в Хорасане возникало множество трудностей и напряженных моментов — но члены движения держались более-менее сплоченно, и оно набирало силу. В пего вовлекалось все больше сторонников из различных областей и социальных слоев. Меры Омейядов по укреплению своей власти были жестокими, по неэффективными. Наконец в начале лета 747 года черные стяги Аббасидов были открыто подняты в одной из деревень оазиса Мерв. Переворот начался.
Повстанческое движение имело сторонников во многих слоях общества. Арабов и неарабов одинаково привлекала харизма семьи Пророка. Детали идеологии предусмотрительно оставались непроработанными, но простое упоминание о возрождении ислама было тогда столь же сильно действующим средством, как и сейчас. Военный лидер нового движения не был ни членом семьи Аббасидов, ни одним из круга заговорщиков в Куфе; эту таинственную фигуру звали Абу Муслим. Во времена Аббасидов ходило много различных слухов о его происхождении. Его имя — «Отец мусульман» — было явным псевдонимом, ни о чем не говорящим. Он был, вероятно, низкого происхождения, может быть, даже бывшим рабом, который сделал себя необходимым в качестве тайного связного между группой из Куфы и их единомышленниками в Хорасане. Он с готовностью принял на себя командование движением, пропагандируя полнейшую преданность в среде соратников и жестоко устраняя любого, включая и некоторых зачинателей движения в поддержку Аббасидов, кто вставал на его пути.
Вероятно, любое революционное движение нуждается в безжалостном насильственном исполнении единой воли, если ему требуется выжить после первичной эйфории от захвата власти. Абу Муслим играл для Аббасидов как раз эту роль, и говорили, что за время пребывания у власти он хладнокровно убил шестьдесят тысяч человек
{6}. Цифры эти вполне могут быть преувеличены, но в самом факте репрессий сомнений нет: Абу Муслим был не из тех, с кем можно шутить.
Пока в Мервс бушевало восстание, семья Аббасидов оставалась в стороне, в Хумайме. Так происходило либо потому, что группа в Куфе, после смерти Букайра руководимая человеком по имени Абу Салама, не хотела рисковать, ставя потомков Аббаса в центр событий, либо потому, что хотела сама сохранить контроль над движением. Но даже так режим Омейядов смог добраться до Аббасидов. Однажды в Хумайме появился агент Омейядов, искавший Ибрахима, который считался потомком Мухаммеда ибн Али. Последнего немедленно арестовали и увезли к халифу Мервану в Харран далеко на севере, где обосновался этот последний правитель из дома Омейядов. Там, в тюрьме, Ибрахима вскоре казнили.
Выжившие Аббасиды знали, что им нужно быстро исчезнуть. Четырнадцать человек с сопровождающими покинули Хумайму, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Они перебрались в Ирак по кружной южной дороге, через пустынный оазис Думат аль-Джандал
{7}, чтобы не попасться властям, и прибыли в Куфу измотанные, без монетки денег: они не могли наскрести даже ста динаров, нужных, чтобы расплатиться с нанятыми погонщиками верблюдов. Их тайно спрятали в безопасном доме местные сторонники и наказали никуда не выходить. Может быть, Омейяды и теряли власть — но они все еще были опасны.
Тем временем Абу Муслим укрепил свои позиции в Мерне и выслал войска на запад. После ряда блистательных побед его армия вытеснила силы последнего из Омейядов в Иран и вскоре уже спускалась в долины Ирака, продвигаясь все ближе к Куфе. Сочувствующие Аббасидам горожане организовали переворот, и восставшие войска вошли в город. Аббасидов, в пользу которых они сражались, все еще не было видно. Повстанцы расспросили местное население, нашли тот безопасный дом, и группа хорасанцев принесла клятву верности своему новому предводителю, Абу’ль-Аббасу, который взял имя Саффах.
Для Абу Саламы и группы из Куфы этот момент оказался весьма трудным, поскольку они надеялись сами стать распорядителями в этой игре — или даже, как утверждали их противники, поставить у власти своего халифа, члена дома Али. По Абу Саламе пришлось смириться. В настоящий момент победу праздновало семейство Аббасидов и его приверженцы. Новый халиф, хотя его в это время трясла лихорадка, появился перед народом в мечети, произнес речь, подтвердив факт переворота, и ушел, оставив сцену своему более красноречивому дяде Дауду. Затем население Куфы, и жители, и солдаты армии Хорасана, прошли мимо него гуськом, чтобы выказать свою верность новому халифу и повой династии.
В исламе нет церемонии коронации. Вместо этого люди приходят подтвердить свою преданность, беря руку нового халифа или его представителя и произнося клятву. В начале эры Аббасидов церемония была публичной, ее проводили в главной мечети города халифа, и длилась она семь дней. Позднее, в более скрытные времена, клятва давалась быстро, во дворце, небольшой группкой солдат и чиновников, а более широкое мусульманское общество просто ставили в известность о том, что произошло.
За триумфом в Куфе последовали дальнейшие победы. Халиф Омейяд сам повел свою армию против войска Аббасидов, которое пел дядя Саффаха, Абд Аллах. Войска встретились в феврале 750 года в битве на реке Заб, к югу от Мосула в северном Ираке. Мерван был опытным полководцем, и многие из шедших с ним сирийцев закалились за годы битв с византийцами
в суровых горах Анатолии. Но хорасанцы тоже были испытанными воинами, получившими опыт в боях на северо-восточных границах мусульманского мира. А еще их поддерживал дух побед над армиями Омейядов на пути через Иран и во время взятия Куфы. Используя тактику, которую изобрели их сирийские противники, они образовали стену из копейщиков, в которой первый ряд опускался на одно колено в боевой цепи, выставив острия на врага. Кавалерия Омейядов атаковала цепь солдат Абд Аллаха, но копейщики устояли.
В конце концов Мерван и его армия обратились в бегство; многие утонули в реке, многие пропали под зимними дождями, когда пробирались с места битвы. Последний халиф из дома Омейядов сначала бежал в северный Ирак, затем направился на юг в Сирию — мимо Харрана, который был его опорным пунктом, мимо Дамаска, традиционной столицы династии. Сирийские армии были разбиты, земли страны опустошили землетрясение и эпидемия, и нигде не нашлось людей, готовых оказать сопротивление. Халиф бежал перед хорасанскими войсками все дальше и дальше, покуда в августе они не догнали его в маленьком городишке Бусир в дельте Египта. Здесь в короткой, но жестокой битве Мерван был убит. Началась эра Аббасидов
{8}.
Глава II
МАНСУР И ЕГО НАСЛЕДНИКИ
Клятвы верности, данные в мечети в Куфе, стали формальной инаугурацией новой династии, битва на реке Заб уничтожила военную силу Омейядов, а смерть Мервана обозначила конец их власти над халифатом.
Однако положение новой династии было все еще непрочным. Ни один член семьи Аббасидов не сражался в восставших армиях, а новый халиф был абсолютно никому не знаком — без репутации и последователей, которые поддержали бы его. Правда, армии хорасанцев и куфанцев принесли ему присягу как халифу, но огромное число мусульман не поддерживало Аббасидов.
Не станет ли путч в Куфе лишь прелюдией к развалу мусульманской империи? Даже среди тех, кто жаждал установления правления семьи Пророка, большинство ожидало увидеть в качестве своего вождя и вдохновителя потомка Али и Фатимы, а не непонятного отпрыска неверующего Аббаса — дяди Пророка. Сторонники, собравшиеся в Куфе, могли принести присягу верности, но дадут ли они новым халифам реальную власть или просто используют их как марионеток, чтобы придать внешнюю легитимность собственному правлению? Победа оказалась быстрой, по за нею последовали сомнения и страх.
После переворота борьба началась почти немедленно. Как и во времена французской и русской революций, ведущие действующие лица вскоре ополчились друг против друга. Первым исчез Абу Салама, лидер группировки в Куфе — к гибели его привела медлительность в деле признания Аббасидов. Однажды вечером его пригласили в резиденцию халифа, чтобы вручить ему почетный халат. Он оставался там довольно долго, ведя беседу, но когда он один направился домой по пустынным улицам, на пего напали и убили. Власти объявили, что с ним расправились террористы из секты хариджитов, которая одинаково не признавала ни халифа из Омейядов, ни халифа из Аббасидов; но каждый знал, что это ложь, призванная скрыть роль военных из Хорасана, которые не доверяли честолюбивым устремлениям Абу Саламы
{9}.
Саффах, первый из халифов Аббасидов, правил очень недолго, он умер естественной смертью в июне 754 года. Ему было немногим больше тридцати, и хотя он стал халифом, но был слаб здоровьем, и предположений о его насильственной смерти даже не высказывалось. До самой смерти он был халифом, но его короткое правление не решило ни одной из основных проблем наследования и власти, которые угрожали новому режиму.
Саффаха сменил его брат, Абу Джафар, названный Мансуром Победоносным и ставший самой замечательной личностью за всю историю Аббасидов. Очень трудно воссоздать характер человека, который умер более 1200 лет тому назад, к тому же средневековые источники редко обсуждают черты личности человека, хотя именно этого хотелось бы современным биографам. Однако в случае Мансура имеется его портрет в старой арабской литературной традиции, который согласуется с другими свидетельствами и звучит весьма правдиво. Этот портрет не принимает форму грандиозного описания — скорее это серия зарисовок, коротких рассказов и анекдотов, рисующих причудливую и сложную личность, в то же время производящую сильное впечатление, чьи особенности могли проявляться и комически, и пугающе, в зависимости от точки зрения рассказчика.
У нас нет рисованного портрета Мансура или кого-либо другого из деятелей его времени, но имеется несколько словесных описаний. Он был высоким и стройным, с темной обветренной кожей, но больше всего наблюдателей поражала его негустая топкая бородка
{10}. Неотъемлемым атрибутом мужественности мусульманина была густая борода. Однако Мансур не подходил под этот стереотип: когда он рыдал во время проповеди в мечети
[6], его борода становилась такой жиденькой, что слезы стекали на землю. Волосы на голове у него тоже были жидкими. Когда Мансур начал седеть, то красил их шафраном, поскольку они не принимали хну, которой пользовалось большинство мужчин. Его гнев был ужасен, но обычно он его контролировал и использовал умышленно. Он часто был задумчив и подолгу сидел или замирал на корточках, размышляя и строя планы, царапая землю тростинкой или прутиком в попытке понять, что нужно делать
{11}, или покусывая указательный палец и обдумывая, как оформить какое-нибудь официальное заявление
{12}.
Мансур был гениальным политиком. Имея трезвое суждение, он точно знал, кого можно купить, а кого нельзя, умел настроить одного потенциального врага против другого. Он не был великим военачальником и, похоже, никогда не водил армию лично, но мог использовать военную силу, когда это было необходимо. Этот человек не был рожден для легкой жизни и роскоши. Он вырос в семейном поместье в Хумаймс и в молодые годы много путешествовал. Один раз в суровых горах Загрос в западном Иране он даже присоединился к неудавшемуся восстанию против Омейядов.
Когда Мансур стал халифом, некоторые люди из самого близкого окружения, которые оказывали ему услуги или давали приют, приходили к его двору просить награды. Один из них, по имени Азхар, с которым Мансур разделял свои скитания, стал слишком усердно доить свою удачу. В первый визит ему дали 4000 дирхемов, чтобы он смог погасить свой долг и отпраздновать свадьбу сына, но велели больше не приходить и ничего не просить. Вскоре Азхар появился снова, говоря, что пришел пожелать халифу удачи, и снова ему дали денег и велели больше не приходить — ни с просьбой о деньгах, ни с добрыми пожеланиями. Когда Азхар появился в третий раз, он заявил, что пришел выучить молитву, которую произносит халиф. «Не утруждай себя, — ответил халиф, — ибо она не была исполнена. Я молил Господа избавить меня от твоих приставаний, но Он этого не сделал»
{13}.
Мансур был искренне, а не формально верующим человеком. Он регулярно молился. За его столом не подавалось вино, как обнаружил к своему разочарованию знаменитый доктор Бухтишу. Так как доктор был христианином, у него не было религиозного запрета на выпивку, и он заявил, что никогда не ест без вина. Однако за столом халифа ему пришлось пить воду Тигра, которая, как он тактично заявил, была так же хороша, если не лучше; чем вино
{14}.
Мансур также не одобрял музыку. Один из его приближенных слуг, тюрк по имени Хаммад, рассказал историю
{15} о том, как, когда он был с халифом, они услышали в другой части дворца шум. Хаммада послали выяснить, в чем дело, и он обнаружил одного из евнухов, сидящего с девушкой-рабыней и играющего на
тунбуре — инструменте, родственном мандолине. Он доложил хозяину, и тот спросил — совсем в манере известного британского судьи, который заявил, что не знает, кто такие «Битлз», — что такое
тунбур? Хаммад описал и, так как его расспрашивали дальше, сказал, что видел инструмент в Хорасане до того, как поступил на службу к халифу. Тогда халиф потребовал сандалии и тихонько пошел к ничего не подозревающей веселящейся парочке. Когда он взорвался гневом, те в панике убежали, но евнуха поймали. Халиф приказал, чтобы инструмент разбили о его голову, а самого убрали вон, продав на обычном рынке рабов.
Еще одна черта его характера проявляется в эпизоде, рассказанном одним из слуг двора, Саламом аль-Абрашем (Рябым). Позднее, когда он стал старшим в администрации, Салам вспоминал, как в бытность его молодым слугой они с товарищем всегда ожидали возвращения халифа, когда тот покидал дом и выходил показаться на публике. Он рассказывал, что при личном общении Мансур был дружелюбен и доброжелателен, терпим к играм детей и шуму. Когда же он давал аудиенцию и надевал свои официальные халаты, его поведение менялось — он делался нетерпимым и раздраженным. Однажды, когда он вернулся, слуги, как обычно, ждали его в коридоре, и халиф сказал Саламу: «Мой мальчик, если ты видишь, что я надеваю халаты или возвращаюсь с приема, знай, что никто из вас не должен близко подходить ко мне, чтобы я не причинил ему зла»
{16}.
Также Мансур был великим проповедником. Красноречие всегда высоко почиталось среди арабов, и Мансур был единственным халифом династии, имевшим репутацию крупного публичного оратора. В мечети по пятничным молитвам он призывал аудиторию жить праведной жизнью и лично извинялся за свое правление. Он имел готовые ответы на выкрики тех, кто иногда осмеливался возразить ему
{17}. Позднее арабские монархи вынуждены были отказаться от публичных выступлений, но во времена Мансура халифа мог увидеть и услышать любой, кто в пятницу приходил на молитву в большую мечеть столицы.
Мансур был организованным и методичным до занудливости. Его день
{18} начинался задолго до рассвета, когда он поднимался и шел в свою личную молельню. С восходом солнца он присоединялся к молитве своих домашних перед тем, как отправиться в
иван[7], чтобы занять место для утренней аудиенции, которая была самой важной и публичной частью дневной работы. После сиесты
{19} в полдень остаток дня проходил в расслабляющих беседах с членами семьи. Когда заканчивались вечерние молитвы, он просматривал свою корреспонденцию и обсуждал дела с советниками, прежде чем отправиться отдыхать примерно в десять часов вечера.
[8]
Его внимание к деталям при строительстве новой столицы в Багдаде было типичным для него. Халиф яро сражался за экономию средств и, вероятно, доводил строителей до отчаяния постоянным вмешательством в их дела. Когда он находил что-то, что ему нравилось, он требовал, чтобы эту деталь или прием повторили, но гораздо дешевле. На каждый свод отдельно он просчитывал стоимость кирпичей и штукатурки, заставляя работников приходить к нему и сообщать точно, сколько материалов они израсходуют. Когда один строитель сказал ему, что не может сделать точной оценки, халиф ответил, что он поможет:
Он послал за обожженным кирпичом и растворам, необходимыми для возведения свода. Затем начал добавлять те материалы, которые понадобятся дополнительно. Он не отходил от строителей полтора дня, пока они не закончили работу. Когда свод был сделан, он послал за Мусайябом [прорабом] и велел заплатить за труд и материалы. Строителю выдали пять дирхемов, но халиф решил, что это слишком много, и давил на Мусайяба до тех пор, пока не снизил цену до одного дирхема. Затем он тщательно осмотрел все остальные своды и сравнил их с тем, который уже знал. Мусайяба заставили вернуть халифу более шестисот тысяч дирхемов, которые тот уже получил ранее, ему не позволяли покинуть дворец, пока он этого не сделал{20}.
Большая часть его времени проходила в чтении и осмыслении отчетов разведки. Он целиком доверял организации под названием
барид. Обычно это слово переводится как «почта», но хотя донесения содержали также официальные материалы, их сообщения были намного шире. Агенты
барида действовали в каждом городе и в провинции как некая структура, альтернативная правительственной, они напрямую сообщали халифу о поступках управляющих,
кади, то есть судей, а также о таких мирских, но весьма важных делах, как изменения цен на основные предметы потребления. О любых волнениях и проблемах немедленно сообщалось халифу
{21}. Мансур придавал огромное значение хорошей разведке и считал наличие агентов
барида одним из устоев своего режима
{22}.
Его любовь к систематизации простиралась и в более зловещих направлениях. Женщина по имени Джамра, которая была косметологом Мансура и знала многие темные секреты дворца, рассказала леденящую кровь историю, которая могла бы стать одним из самых страшных эпизодов «Тысячи и одной ночи»
[9]{23}. Перед тем, как отправиться в паломничество в Мекку, в котором он умер, Мансур оставил очень четкие инструкции своей невестке Рите, жене своего сына и наследника Махди, который находился в это время в Иране. Мансур отдал ей ключи от всех кладовых, но одним из них она имела право воспользоваться, лишь будучи абсолютно уверена в его смерти. И даже тогда право войти в эту комнату имели только она или ее муж. Когда Махди узнал, что отец умер, то поспешил в Багдад, чтобы вступить в права наследства, и Рита рассказала ему о ключе в особую комнату. Молодые отправились открывать эту кладовую. Они оказались в огромной сводчатой камере без окон, в которой были сложены тела всех казненных членов семьи Али, превратившиеся в мумии в сухом месопотамском воздухе. Их было много, всех возрастов, от детей до стариков. К уху каждого трупа была прикреплена бирка с аккуратно выписанным именем и степенью родства жертвы. Зачем покойный халиф хранил эту мрачную коллекцию, непонятно. Может быть, он напоминал этим себе, что все потенциальные претенденты на его трон мертвы — а может быть, не мог придумать, как их похоронить и избежать вероятности того, что могилы превратятся в центры поклонения народа.
Махди, который надеялся, что сумеет уладить размолвку с Алидами (прямыми потомками Али и Фатимы) и тем самым с самим Мухаммедом, был в шоке от того, что увидел. Он приказал, чтобы трупы тайно убрали и захоронили в общей могиле, а над этим местом построили тюрьму.
И во все рассказы и легенды о Мансуре вошла его главная слабость. Вероятно, еще тогда, когда он был жив, и наверняка после его смерти его называли Абу’ль-Даник, «отец копейки», потому что он тщательно пересчитывал каждый грош. Правда, он мог быть щедрым для членов своей семьи и для преданных слуг — но арабские историки любили противопоставлять жадного старого отца и его щедрого, доброжелательного сына Махди. Вот два типичных эпизода. В одном из них
{24} рабыня по имени Хализа, которая была служанкой наложницы Махди
[10], а позднее ею жены Хайзуран, пошла к халифу, потому что у того болели зубы. Услышав ее голос, Мансур велел ей войти, и она увидела, что он сжимает голову руками. Какое-то время он молчал, но в конце концов спросил: «Хализа, сколько у тебя денег?» — и она ответила, что у нее есть тысяча динаров. Тогда он велел рабыне положить руки ему на голову и поклясться в этом, поэтому ей пришлось признаться, что на самом деле у нее десять тысяч динаров. «Принеси их мне», — приказал он. Когда она вернулась к Махди и Хайзуран, последний добродушно шлепнул ее и спросил: «Зачем ты пошла к отцу? С его зубами все в порядке. Просто вчера я попросил у него немного денег, и он сделал вид, что заболел. Но все-таки лучше иди, отнеси ему деньги». Она сделала, как велел Махди, и на следующий день, когда Махди зашел навестить отца, старый халиф упрекнул сына, что тот просит денег, когда даже его рабыня имеет так много.
А вот другой эпизод: Мансур откладывал изношенную одежду, чтобы отдать сыну, и когда последний приходит, он видит, что отец занят починкой. Махди усмехнулся и сказал, что люди будут издеваться над его убожеством, но халиф ответил, вероятно, вспомнив свою нищую юность и стараясь объяснить сыну, который знал лишь богатство и процветание: подходит зима, понадобится одежда для домочадцев и детей. Махди открыто рассмеялся и сказал, что он об этом позаботится. «Как хочешь», — ответил старик
{25}.
Еще в одном рассказе Махди пришел к отцу в новом черном халате. Когда он поднялся, чтобы уходить, старик проводил его взглядом, полным обожания и любви к красивому доброжелательному сыну. Выходя в галерею, Махди споткнулся о свою саблю и порезал халат. Оправившись, он пошел дальше, будто ничего не случилось. Отец остановил его и упрекнул, что тот принимает божье благоволение как должное. Тогда Махди вернулся и извинился
{26}.
Когда Мансур летом 754 года сменил своего брата, положение новой династии было далеко не безоблачным. Его должность правителя немедленно была оспорена дядей Абд Аллахом. Мансур понимал также, что не может долго быть хорошим правителем халифата, пока Абу Муслим правит в Хорасане и большей части Ирана, словно тот — его владение. Кроме того, имелась скрытая угроза со стороны Алидов и их многочисленных сторонников. Несмотря на все усилия по пропаганде Аббасидов, многие чувствовали, что семья Али, будучи прямыми потомками Пророка, имеет больше прав быть халифами, чем Аббасиды. Поэтому неизбежно существовало множество таких людей, которые чувствовали, что переворот отнюдь не вынес на поверхность то исламское сообщество, на приход которого они надеялись. Когда-нибудь и где-нибудь возникнут попытки насильственных перемен.
Первый вызов правлению Мансура был брошен изнутри его собственной семьи. В исламе нет системы первородства или хотя бы устоявшейся традиции, что новый халиф должен быть из числа детей предшествующего. У Саффаха имелись собственные сыновья, но они еще были малы, поэтому он и предложил в наследники своего брата Мансура. Несмотря на это, его дядя, как один из старших мужчин в семье, имел хорошие шансы считаться в ней лидером. Более того, так как он любил отдавать приказы, именно он изменил свою жизнь и повел войско Аббасидов против Омейядов в битве при Забс.
Его притязания были весьма серьезными. Когда в июне 754 года Саффах умер, Мансур совершал паломничество в Аравию, и Абд Аллах решил использовать свой шанс. Он как раз собирался начать летнюю кампанию против Византии и имел при себе армию из хорасанцев. Он призвал также значительное количество сирийских солдат. Большая их часть была из тех, кто поддерживал Мервана и Омейядов. Теперь, оставшись не у дел, они были рады снова стать военными. Получив письмо с сообщением о смерти Саффаха, Абд Аллах собрал командиров своей армии, сирийцев и хорасанцев, и объявил, что претендует на халифат. Похоже, никто ему не возразил.
Тем временем Мансур вернулся из паломничества и усиленно уговаривал Абу Муслима, который ходил с ним, повести хорасанцев против дяди. В конце концов, испытывая все-таки некоторые опасения, Абу Муслим согласился. Когда армии встали друг против друга возле древнего города Нисибии к западу от Мосула, в среде сторонников Абд Аллаха начало расти напряжение. Он сам относился с подозрением к своим хорасанским сподвижникам, боясь, что они могут присоединиться к землякам и перейти на сторону Абу Муслима. Сирийцы, которые всего четыре года назад были разбиты армией Абд Аллаха в битве при Забе, испытывали неловкость из-за того, что именно он их возглавляет. Абу Муслим заявил, что он не ссорился с Абд Аллахом, что его послали просто как правителя Сирии. Сирийцы сразу же решили, что тут кроется какой-то замысел, и пока они будут стоять у Нисибина, Абу Муслим опустошит их земли. Собранная второпях коалиция Абд Аллаха начала распадаться из-за подозрений и взаимных обвинений. Хорасанцы присоединились к Абу Муслиму, сирийцы поспешили домой, а самому Абд Аллаху пришлось удирать по пустынной дороге в далекую Басру, где его брат Сулейман принял его и предложил убежище. Опасность миновала, Абу Муслим исполнил свою последнюю службу для династии.
Теперь он стал для Мансура самой близкой и реальной опасностью. До тех пор, пока Абу Муслим оставался при власти, халиф не был полновластным монархом в своей собственной земле. С другой стороны, Абу Муслим занимал очень сильную позицию. Он распоряжался сердцами и умами многих в восточном Иране, включая некоторых из тех, кто тайно или открыто хотел выдворить отсюда всех арабов, отказаться от ислама и восстановить старые законы Сасанидов. Более того, существовали и моральные соображения: Аббасиды были обязаны Абу Муслиму необычайно многим — в конце концов, именно он первым поднял черные флаги в их честь и собрал армию, которая привела их к власти. Брат Саффах и другие члены семьи советовали проявлять осторожность, но Мансур, более жестокий и прагматичный, знал, что обязан действовать.
Отличная, может быть даже единственная, возможность представилась сама собой. Абу Муслим уехал на запад в Ирак посмотреть своими глазами, как работает новый режим, оставив большинство своих приверженцев в гарнизонах по длинным дорогам через Иран. Мансур понимал, что это шанс, который нельзя упускать, но все-таки дело было нелегким. После победы над Абд Аллахом ибн Али Абу Муслим решил возвратиться на свою базу в Хорасан, отказавшись от приглашения посетить халифа. И он, и его иранские советники знали, что вызовы халифа могут превратиться в ловушку. И все-таки, вопреки здравому смыслу, он изменил свое решение. От халифа приезжали люди, которым он верил, привозя теплые приглашения; он не мог до конца поверить в то, что халиф способен причинить ему вред после всех услуг, оказанных им династии.
Драма разыгралась по сценарию театральной трагедии
{27}. Много раз Абу Муслим колебался и много раз менял свое решение, возвращаясь назад, в безопасный для него Иран. Когда он приехал навестить халифа, который остановился в простой палатке во временной столице возле Куфы, казалось, что все складывается отлично. У нас имеется множество рассказов предположительных свидетелей о том, что случилось потом — несмотря на то, что, как часто случается
с рассказами свидетелей даже совсем недавних событий, они несколько расходятся в деталях. Одним из свидетелей, который безусловно присутствовал на месте происшествия, был главный секретарь или визирь Мансура, Абу Айюб аль-Мурьяни. Абу Айюб знал, что замышляет его хозяин, и очень тревожился. Он понимал, что сторонники Абу Муслима придут в ярость и вряд ли пощадят Мансура и всех связанных с ним. Но он не смог отговорить халифа.
Однажды вечером Абу Муслим прибыл в лагерь и пошел к палатке. Перед его приходом Мансур приказал Абу Айюбу, чтобы того убили, как только он появится — но Абу Айюб стал настаивать на осторожности, говоря, что сторонники Абу Муслима немедленно в ярости убьют самого Мансура. В действительности, как он потом признавался, он страшно испугался и все еще надеялся, что проблему можно решить другим путем. Поэтому когда Абу Муслим прибыл, халиф, сидя на коврике для молитвы на полу своей палатки, рассыпался в любезностях и предложил Абу Муслиму принять ванну, чтобы отдохнуть после долгого путешествия.
На следующее утро халиф был в отвратительном настроении и поносил несчастного Абу Айюба за проявленную им осторожность. Абу Муслим собирался прийти к нему позднее этим утром, поэтому Мансур вызвал к себе несколько самых доверенных стражников. Он спросил их начальника
{28}, выполнит ли тот era приказ. Естественно, начальник ответил согласием. Тоща халиф продолжил: «Ты убьешь Абу Муслима?» Повисла долгая пауза, во время которой начальник стражи смотрел в землю. «В чем дело? — спросил Абу Айюб. — Почему ты не отвечаешь?» Наконец начальник ответил севшим голосом, что он сделает это.
Теперь сцена была подготовлена для выполнения замысла, но халиф не чувствовал ситуации. Он отправил Абу Айюба в лагерь, чтобы проверить, какие там настроения. По дороге секретарь встретил Абу Муслима, который улыбнулся и поздоровался с ним. Это был последний раз, когда Абу Айюб видел его живым. Абу Муслим провел раннее утро, посещая друга, троюродного брага халифа но имени Иса ибн Муса; по Иса остался дома, чтобы помыться перед визитом ко двору, поэтому Абу Муслим пошел одни.
Халиф сам потом рассказал Абу Айюбу, что случилось. Все произошло очень быстро. Когда Абу Муслим встал перед ним, халиф начал оскорблять его, и затем, по оговоренному заранее сигналу — хлопку ладоней, — стражники кинулись на Абу Муслима и сбили его с ног, а потом по приказу хозяина перерезали ему горло. Тело завернули в плащ и положили в угол палатки.
Дело было сделано, но сторонники убитого и его друзья все еще представляли серьезную опасность. Когда Иса ибн Муса пришел к халифу, он спросил об Абу Муслиме. «Он завернут там», — ответил халиф, указывая на труп в углу. Потрясенный Иса ответил традиционными арабскими словами смирения: «Мы все от Бога, и к нему мы вернемся».
Сложную загадку заметши на сдержанные подозрения
{29}. Людям было сообщено, что Абу Муслим останется с халифом.
Добавили еще одну секцию к палатке правителя, принесли ковры и подушки, чтобы обставить ее. Тем временем тело тайно сбросили в Тигр, поэтому у Абу Муслима нет даже могилы. На следующий день было распространено известие о его гибели. Мансур разослал великолепные подарки старшим начальникам Абу Муслима, и кто раньше, кто позже, но большинство приняло предложения и пошло к нему на службу. Но некоторые сторонники убитого из простых людей уходили со словами: «Мы продали своего хозяина за горсть серебра»
{30}.
Убийство Абу Муслима было опасной игрой. И политически, и морально халиф подвергался огромному риску. Он это знал, но он также знал, что, не утвердив свой авторитет, никогда не сможет стать истинным повелителем мусульманского мира. Он продемонстрировал свою дальновидность и жестокость — и рассчитал верно. Разрозненное сопротивление со стороны войск Абу Муслима, оставленных на хорасанской дороге, было подавлено. Слабые воспоминания об Абу Муслиме сохраняются у жителей восточного Ирана как символ того, что может случиться, а его деяния вошли в эпическую поэзию и легенды.
После смерти Абу Муслима Мансур смог посвятить себя укреплению власти над своими громадными территориями. Несколько следующих лет прошли практически без особых событий, и халиф начал готовиться к строительству новой постоянной столицы в Багдаде. Тем временем его старший сын Махди, уже получивший царский титул, был послан в Иран в качестве наместника, чтобы набраться опыта правления. Он создал свой собственный двор в городе Рее (на юге от современного Тегерана), откуда мог следить за событиями в Хорасане, на востоке.
Однако оставалась одна проблема, которая сидела занозой в голове халифа. Он знал, что существуют потомки Али и Фатимы, которые никогда не смирятся с правом Аббасидов править от имени семьи Пророка. Он понимал, что они могут рассчитывать на поддержку значительной части населения, особенно в Ираке. Правление Мансура, укрепившись окончательно, выглядело так же, как и правление Омейядов, которое оно сменило, лишь с другими людьми у власти. Те, кто хотел более глубокого соблюдения исламских канонов, вскоре непременно будут разочарованы. Для халифа проблема заключалась в том, что он не мог предвидеть, кто из множества потомков Пророка поднимется, чтобы бросить ему вызов, и где это будет сделано.
Мансур попытался действовать и кнутом, и пряником. Он хотел, чтобы члены семьи Пророка жили в безопасности при дворе, получая обеспечение от государства, а он мог бы следить за ними. Многие из наследников Али приняли его предложение и выбрали комфортную жизнь. Однако к 756 году, вскоре после установления единовластного режима, Мансур был обеспокоен известиями о том, что два молодых члена семьи Али, Мухаммед ибн Абд Аллах и его брат Ибрахим, исчезли.
Бунт Мухаммеда, известного под именем аль-Иафс аль-Закия («Чистая Душа»), и его брата Ибрахима стал одним из определяющих моментов в истории халифата Аббасидов. Мы много знаем об этом — точнее, нам об этом много рассказывают авторы, которые в основном симпатизировали Мухаммеду
{31}. Как обычно в арабских источниках этого периода, нас знакомят не с последовательностью действий, а с рядом зарисовок, выбранных для иллюстрации некоторых черт характера, или с общим направлением событий. Несмотря на фрагментарность и слепую веру наших информаторов в точность их источников, мы можем построить живую картину бунта, надежд и страхов участников с обеих сторон. Образ справедливого человека, поднявшего бунт в безнадежной ситуации и с самого начала чувствующий, что он обречен, но не испытывающий страха в преддверии мук, необыкновенно убедителен.
Мухаммед Чистая Душа был крупным, дородным, довольно неуклюжим человеком с очень темной кожей и заметным заиканием
{32}. Когда он поднимался на деревянную кафедру в мечети, вспоминал один свидетель, та вся дрожала. В то же время у своих сторонников он вызывал чувство глубокой преданности. Он очень ясно нарисовал себе путь следования дорогой своего предка, пророка Мухаммеда, чье имя он носил. Он был также удивительно мягким и щедрым: Риях, правитель Медины при Аббасидах, ответственный за большинство преследований, переносимых семьей Пророка, был лишь заключен повстанцами в тюрьму и выжил бы, если бы перевозбужденные последователи Мухаммеда не убили его в тот момент, когда подавляли бунт
{33}. Даже командующий войском Аббасидов, возглавивший преследование, во время которого умер маленький сын Мухаммеда, тоже был всего лишь заключен в тюрьму и пережил события.
Мухаммед оставался доброжелательным и доступным дюке после того, как взял Медину под свой контроль. Один человек вспоминал, что видел пятнадцатая ста им мальчиком: «мы подошли к нему, присоединившись к собравшейся поглазеть на него толпе. Никого от него не отгоняли. Я подошел к нему совсем близко, так что мог его хорошенько рассмотреть. Он был верхом, в белом стеганом халате и белом тюрбане. Это был широкоплечий человек с мелкими шрамами от оспы на лице»
{34}. Его поведение очень отличалось от замкнутою образа жизни, который из соображений безопасности вели халифы Аббасиды.
Можно предполагать, что, согласно своему прозвищу Чистая Душа, Мухаммед был одновременно и романтичным, и весьма наивным человеком. Жесткий мир реальной политики Медины был не тем местом, где поднимают восстание. Она находилась слишком далеко от центра скопления богатств и власти, зависела от поставок продуктов питания, ввозимых из Египта, которые легко можно было отсечь. Но для Мухаммеда Медина была лишь местом начала создания мусульманского государства, которое первоначально выстроил Пророк. Это была мечта, которая плеснула в лицо современной реальности — но Мухаммед оказался идеалистом, для которого символы значили больше, чем практический смысл.
Считалось, что Мухаммед и его брат, жившие в Медине, отправились на охоту, а потом куда-то пропали. На самом деле они много путешествовали по мусульманскому миру, перебираясь из одного безопасного дома в другой, стараясь не наткнуться на агентов Мансура. В конце концов Мухаммед вернулся в Хиджаз — местность около Медины, где он хорошо ориентировался и мог рассчитывать на большое количество симпатизирующих. Несколько раз он чуть не попался. Однажды он прятался в ущелье возле Янбу к северу от Медины, когда заметил правительственные войска, и ему пришлось бежать через бесплодные горы. При нем была наложница, которая только что родила сына, но ребенок выскользнул у нес из рук и разбился о скалы
{35}. В другой раз он притворился простым бедуином и простоял, склонившись между опорными стойками колодца, пока мимо проезжал наместник Аббасидов
{36}. А однажды он шел вместе с другом по имени Осман к мечети в Медине, когда увидел, что навстречу идет правитель города. Осман решил, что игра окончена, но Мухаммед приказал: «Иди вперед!» Осман продолжил путь, «хотя, — как он рассказывал потом, — ноги едва несли меня». Мухаммед уселся прямо в пыль спиной к дороге, накинув на голову плащ, и правитель прошел мимо, приняв его за женщину, которая не хочет, чтобы видели ее лицо
{37}.
Так Мухаммед играл в кошки-мышки с властями и ждал момента, чтобы начать действовать. Он хотел дать брату Ибрахиму время сплести сеть поддержки в Ираке, чтобы они могли нанести удары одновременно. Но Аббасид изменил тактику поведения, и это заставило Мухаммеда поспешить
с выступлением. В марте 762 года Мансур прибыл в Медину лично — и в качестве паломничества, и чтобы возглавить поиски Мухаммеда. На всех, кто мог знать, где находится вождь заговорщиков, было оказано давление. Один знатный мединец, Зияд ибн Убсйд Аллах, среди ночи был разбужен шумом: какие-то люди пытались ворваться в его дом. Это была хорошо известная во все времена тактика службы безопасности — арестовывать подозреваемых в ранний утренний час, когда они наиболее уязвимы. Зияд выскочил из постели в одной набедренной повязке, разбудил слуг и евнухов, которые спали в портике, и велел им молчать.
Через какое-то время пытавшиеся ворваться в дом люди ушли, но вскоре вернулись с железным тараном и снова начали выбивать дверь. Тогда Зияд открыл калитку, чтобы они не разнесли весь дом; его схватили и лягушачьими прыжками (арабский вариант этого выражения — «по-страусиному») отволокли во
дворец правителя, где остановился халиф. В прихожей перед комнатой с куполом, где находился халиф, задержанного встретил управляющий двором, Раби, который обругал его за то, что он доставил властям столько хлопот. Затем занавес отдернули. Комната освещалась свечами, стоявшими по углам, возле каждой свечи застыл слуга. В зыбком свете Зияд разглядел сидящего на корточках на ковре халифа — ни подушки, ни молельного коврика, чтобы устроиться поудобнее. Голова Мансура была склонена, он водил перед собой по полу железным прутом.
Раби сообщил Зияду, что халиф находится в таком состоянии весь вечер. Зияду казалось, что он стоит тут уже несколько часов, когда халиф наконец поднял голову и резко спросил: «Где Мухаммед и Ибрахим? Отвечай, сукин сын!» Потом он снова опустил голову и продолжил водить прутом. Наконец он повторил свой вопрос, добавив: «Пусть поразит меня Господь, если я не убью тебя!» Зияд, сохранив самообладание, смог ответить халифу, что это вторжение его людей спугнуло заговорщиков. «Убирайся!» — выкрикнул халиф, и Зияд исчез — без сомнения, испытав огромное облегчение, так как остался жив и не подвергся пыткам
{38}.
Тогда халиф приказал, чтобы всех родственников Мухаммеда мужского пола, включая его старика-отца, арестовали и вывезли в Ирак. Схваченных собрали в мечети правителя, туда вызвали кузнеца и приказали ему изготовить для всех ножные кандалы. Длинный путь через пустыню пленники преодолели в носилках с цепями на шее и на ногах. Некоторых били, и всех без исключения прилюдно унижали
{39}. Когда их поместили в тюрьму, мать Мухаммеда, Хинд, решила навестить мужа (женщин никогда не арестовывали и, похоже, оставляли им свободу передвижения), чтобы привезти послание от сына с сообщением, что он готов сдаться, чтобы старика освободили — но отец настойчиво посоветовал сыну продолжать прятаться и вести работу по сбору сторонников
{40}.
Первичный план братьев заключался в том, что они одновременно поднимут восстания в Медане и в Басре, раздробив силы Аббасида. Но гонения на семью и постоянная угроза ареста заставили Мухаммеда проявить преждевременную активность. В ночь на 23 сентября 762 года он повел сторонников на штурм мечети Пророка в Медине. Одев желтый халат и желтую
калан-суву (высокую круглую шапку), он объявил себя халифом и призвал последователей никого не убивать. Дворец правителя, соединенный с мечетью, был заперт, но повстанцы подожгли дверь со стороны мечети, а кто-то положил свой щит, так что люди смогли перейти через горящие угли. Слуги правителя удрали, а его самого заметили за деревянной решеткой в окне верхнего этажа. Ею привели вниз и посадили под арест
{41}. Никто не был убит
{42}.
Вскоре Медина оказалась в руках восставших. Новость быстро дошла до халифа. Человек из Медины проскакал тысячу с лишним километров до Куфы, где находился Мансур, за девять дней. Прибыв туда ночью, он громко потребовал, чтобы его впустили. Раби, управляющий, запротестовал из-за того, что слишком поздно, но человек настаивал, и закончилось все тем, что он рассказал халифу о восстании Чистой Души и о тех, кто был с ним. Его щедро наградили за действительно важные для халифа новости. Когда Мансур спросил мнение старого сирийского солдата, который участвовал во многих кампаниях халифа Мервана из Омейядов, тот ответил: «Слава Аллаху! Он поднял восстание там, где нет денег, нет людей, нет оружия и нет фуража. Пошли кого-нибудь из тех, кому веришь, в Вади Курра
[11], чтобы перекрыть поступление провизии из Сирии, и он начнет голодать там, где находится»
{43}. Мансур немедленно послал небольшую, но хорошо вооруженную армию под командованием своего кузена Исы ибн Мусы, чтобы тот пересек пустыню и отбил город.
Более реалистично настроенные люди в Медине понимали, что город не подходит для создания центра власти. Они сопротивлялись общему энтузиазму и отстранялись от мятежа
{44}. Когда приблизились силы Мансура, сторонники Мухаммеда уговаривали его уехать в Египет, где он найдет продовольствие и поддержку, или уйти в пустыню и доверить свою жизнь Бану Сулейм Бедуину, у которого больше лошадей, чем у любого племени в западной Аравии. Чистая Душа воспротивился: его предок и вдохновитель, Пророк, выкопал ров для защиты Медины от врагов, и он последует его примеру
{45}. Ров превратился в символ. Мухаммед выехал на место верхом, в белом подпоясанном халате, и начал копать голыми руками. Когда он нашел несколько глиняных кирпичей подлинного рва Пророка, его со- ратники сказали: «Велик Аллах! Это ров твоего деда, пророка Господа»
{46}.
Эта последняя вспышка энтузиазма не выстояла против реальности войны. Когда силы Аббасидов подошли к городу, Мухаммед вышел навстречу с огромной толпой меднпцев. Когда же враги придвинулись ближе, он с характерной для него широтой души заявил своим боннам, что любой из тех, кто хочет спастись, освобождается от клятвы верности. Несколько человек ушли сразу, за ними потянулись другие, и поток стал неудержим — толпа вернулась в город и начала бросать оружие. Иса со своими людьми легко преодолел ров: сорвав двери с ближайшего дома, он перекинув их через ров и перешел его вместе с лошадьми. 6 декабря Мухаммед Чистая Душа с горстью слабо вооруженных последователей остался перед лицом вооруженных войск Аббасида. К вечеру все было кончено. Мухаммед, как говорят, отказался от всех предложений бежать и спрятаться. Один человек, утверждавший, что видел все своими глазами,
рассказал, что он храбро бился мечом
Пророка, точно так же, как дядя Пророка, Хамза, во времена первого рва. «Он не был ранен до тех пор, пока кто-то не выпустил в него стрелу. Я и сейчас вижу голубую сталь и красную кровь. Затем на нас понеслись лошади, и он прижался к стене… там его и настигла смерть»
{47}. Говорят, когда сражение закончилось и войска Аббасида вошли в Медину, на город обрушился страшный ливень, какого никто не помнил
{48}. Голову Мухаммеда отвезли Мансуру, который положил ее на серебряное блюдо и выставил на всеобщее обозрение
{49}. Семье позволили захоронить тело. Брат Мухаммеда Ибрахим поднял восстание в Басре, но слишком поздно, чтобы заставить Аббасида раздробить свои силы; в свою очередь, он тоже погиб в сражении.
После победы в 762 году над Алидамн Мансур ликвидировал основную угрозу, которая маячила перед ним с тех пор, как восемь лет назад он стал халифом. Он создавал халифат Аббасидов на твердом фундаменте оплачиваемой профессиональной армии, в основном состоявшей из хорасанских солдат, и эффективной системы налогообложения, чтобы собирать деньги на ее содержание. Не все одобряли его политику. Многие мусульмане чувствовали себя отстраненными от государственных дел, лишенными гражданских прав, обиженными тем, что сообщество верующих стало такой же империей, какая существовала раньше. По стабильность и растущее благосостояние — по крайней мере, в Багдаде — убеждали многих колеблющихся терпеть новый режим. Мансур посвятил жизнь укреплению собственной власти, а созданные им в это время административные системы обрели и закрепили свое абсолютное влияние не только при последующих халифах Аббасилах, но и в их государствах-преемниках вплоть до настоящего времени.
Во многом Мансур был обязан успехом членам своей огромной семьи, и весь восьмой век чем крупнее была царская семья, тем больше цепных сторонников оказывалось у халифа. Переворот, который привел Аббасидов к власти, начался не во имя одного отдельного человека, а скорее во имя всей семьи; лозунги восстания декларировали, что новый правитель обязан быть «избран из семьи Пророка». При перевороте, как мы видели, в качестве правителей выдвинулись сначала Саффах, а затем, в 754 году, Мансур. Но было естественно, что они лишь разделяют новообретенную удачу своего рода, и их семья стала бы возражать самым яростным образом, если бы они этого не делали.
Семья Аббасидов была очень обширной. Саффах и Мансур являлись сыновьями Мухаммеда ибн Али, который владел имением в Хумайме. У них было четыре брата, двое из которых умерли до переворота; ни один из двух оставшихся не предпринимал попыток участвовать в политике или в жизни при дворе. Гораздо более значительной была роль дядей Мансура, братьев Мухаммеда: как старшее поколение мужчин, они хотели играть главные роли в правительстве.
Насколько мы знаем, во время переворота были живы семеро из них — хотя один, Дауд, вскоре умер. Некоторые из дядей оказались сильными личностями, которые ожидали уважительного к себе отношения. Они сильно разнились по возрасту: например, Абд ас-Самад был гораздо моложе своего племянника Мансура, он дожил до правления своего праправнучатого племянника Гаруна. По временам дяди сообща оказывали сильное давление на халифа, чтобы отстоять интересы одного из них, попавшего в немилость
{50}. Мансур, обычно чрезвычайно осторожный с деньгами, был очень щедр с дядями: вероятно, их старшинство в семье заставляло его нервничать.
Дяди были очень могущественными, но их нечасто можно было видеть во дворце. Дауд умер еще до того, как власть Аббасидов упрочилась, а Абд Аллаха даже держали под домашним арестом из-за его опрометчивой попытки получить халифат после смерти Саффаха. Казнь члена царской семьи как простого мятежника подорвала бы статус их всех, и дяди сомкнули ряды, чтобы защитить своего. Рассказывали истории о том, как халиф пытался избавиться от Абд Аллаха, устроив «случайное» обрушение дома, а когда тот действительно умер, многие считали, что его убили
{51}.
Другим братьям было позволено иметь в провинции собственные дворы. Самым влиятельным из них был Салих, который правил в Сирии. Там он унаследовал огромную собственность, которой ранее владели члены семьи Омейядов, к тому же женился на вдове последнего халифа Омейядов — Мервана. Поговаривали, что его сын Абд аль-Малик, который унаследовал большую часть власти отца и стал ключевой фигурой в политике при режиме Гаруна, в действительности был по происхождению Омейядом. Но у Абд аль-Малика было много врагов при дворе, которые не любили его старомодного аскетизма и консерватизма, и его спорное происхождение вполне могло быть не более чем злобной сплетней. Семья Салиха проводила большую часть времени в сирийских поместьях, в пригороде Алеппо и в Манбидже, на северо-востоке от Алеппо, где Абд аль-Малик построил великолепный замок, которого домогался сам Гарун. До конца восьмого века семенные связи сохранялись путем браков между различными ветвями семьи Аббасидов, но к девятому веку потомки Салиха стали всего лишь крупным землевладельческим кланом северной Сирии. Без сомнения, они сознавали свое славное происхождение, но не являлись более членами двора халифа.
Из других братьев Сулейман обосновался в Басре, где собрал огромные богатства и имущество, унаследованное со временем его сыном Мухаммедом. Племянник Мансура, Иса ибн Муса, расположил свой двор в Куфе. Исмаил устроил одну из ветвей своей семьи в Мосуле, где та выстроила рынок, мечеть и баню, занявшие собой четвертую часть города. Они тоже стали частью местной городской верхушки, но потеряли все контакты с двором халифа. Похоже, единственные дяди, которые остались при дворе, это Иса и Абд ас-Самад; они были совсем молодыми и являлись чем-то вроде паршивых овен в стаде.
Иса начинал многообещающую политическую карьеру. Сразу же после переворота его послали захватить для Аббасидов Фарс на юго-западе Ирана. Однако Абу Муслим, обосновавшийся в Хорасане, счел, что этот город находится в сфере его влияния, и послал туда своего эмиссара, жесткого и опытного солдата
{52}. Столкнувшись с безжалостным соперником, Иса сумел благополучно уйти, сохранив свою жизнь. В ответ он поклялся, что никогда больше не вступит в правление снова и никогда не вытащит меч, кроме как для священной войны.
Иса оказался столь же порядочен, как и эти слова. В отличие от других братьев, он остался при дворе. Его любили как Саффах, так и Мансур, и когда был основан Багдад, он стал владельцем большей части собственности в новом городе. Ему первому в семье Аббасидов после самого халифа был здесь выстроен дворец. Иса прорыл новый канал, названный его именем, который соединялся с Тигром в порту, откуда речные суда уходили в Васит и Басру. Местоположение его дворца, смотрящего на реку, было замечательным, по и опасным: вскоре после смерти Исы на кораблях в nopiy вспыхнул страшный пожар, сгорело много людей и судов, все их содержимое погибло
{53}. Иса также рыл каналы в своих пригородных поместьях и строил на них водяные мельницы. До самой смерти весной 780 года
{54} он оставался при дворе как старейшина. Он был одним из тех очень немногих людей, кто мог удержать Мансура во время его вспышек ярости, и многие молодые люди с благодарностью вспоминали его вмешательства, которое спасали им жизнь
{55}. Однако похоже на то, что с Махди у Исы не сложилось столь же тесных отношений, как с его отцом — несмотря на подагру, после смерти Мансура он проводил все больше и больше времени на византийской границе, сражаясь с неверными.
Поколение детей Мансура не имело такой же возможности создавать свои субдинастии. Кроме его сына и наследника Махди, у халифа было еще одиннадцать сыновей, Некоторые из них вели приятную жизнь. Пятеро, судя по всему, умерли в молодости, так и не заведя семей; один сломав шею, когда упал с лошади во время паломничества в 789 году, а другой погиб, когда по необъяснимой причине перепрыгивал с одной крыши на другую и упал между зданиями. Выжившие иногда возглавляли паломничество — привилегия правящей семьи при Аббасидах; иногда на короткие периоды они направлялись управлять провинциями
{56}.
Не будучи похожи на предыдущее поколение, дети Мансура неизменно обосновывались в Багдаде, некоторые были активны при дворе. Трое — Джафар, Салих и Сулейман — выстроили впечатляющие дворцы на западном берегу Тигра, рядом с Дворцом Вечности, где почти постоянно жили халифы. Джафар владел имением и речным портом в этой местности. Известный как Джафар Старший (чтобы отличать его от более молодого брата, который родился после его ранней смерти), он завел собственный дом в Багдаде и покровительствовал поэтам — хотя, конечно, истинные звезды притягивались ко дворцу самого халифа, где получали главные награды. В литературных источниках его представляют как простого и доверчивого человека, которого легко можно было сбить с толку. У него случались судороги, и какое-то время считали, что его сглазила женщина-джинн, чтобы он женился на ней
{57}.
Джафар умер раньше отца, в 767 году;
{58} он стал первым, кого похоронили на новом, только что открытом кладбище Ку-рейш. Двое его детей стали важными персонами при дворе Гаруна. Сын Иса был близким другом халифа и часто разделял с ним носилки на верблюде, путешествуя на второй стороне горба — хотя, так как он был весьма солидным человеком, на сторону Гаруна приходилось для равновесия подкладывать камни или другие тяжелые предметы. Близость к халифу означала, что он был важным источником придворных слухов и разговоров в придворных кругах
{59}. Какое-то время он служил правителем Басры и провинции Арабского залива, но так и не стал политической фигурой высшего ранга
{60}. С другой стороны, его дочь Зубейда стала любимой женой Гаруна и женщиной с необычайной властью и влиянием.
В следующем поколении у Махди было семь сыновей, включая халифов Хади и Гаруна. Остальные братья тоже принимали более активное участие в делах государства, чем их дяди, сыновья Мансура: Убсйд Аллах был правителем печально известной и необычайно сложной приграничной провинции Армения
{61}, а также более спокойной провинции в Египте. Впоследствии ему дали для ведения сельского хозяйства огромные земельные поместья в плодородном районе Ахваз
{62}, он владел дворцом на восточном берегу реки Тигр в Багдаде
{63}. Его брат Мансур сражался в армии Гаруна против византийцев и играл плавную роль в политике Ирака во время великой гражданской войны Аббасидов. Третий брат, Ибрахим, пошел в совершенно ином направлении и стал одним из самых прославленных поэтов своего времени.
Младшие члены семьи Аббасидов в последний период правления Мансура и во времена Махди и Гаруна образовали влиятельную при дворе социальную группу. Владея в Багдаде дворцами на берегу реки, примыкающими к резиденции халифа, они принадлежали к самым богатым членам придворного общества. У них были свои семьи с управляющими и веселыми собутыльниками — что-то вроде миниатюрного варианта собственного двора халифа
{64}. Все младшие Аббасиды претендовали на то, что певцы, которым покровительствуют они, — самые лучшие из всех, которых можно купить за деньга. Источники постоянно возвращаются к рассказам о том, насколько стиль жизни этой «золотой молодежи» находился в резком контрасте
с аскетизмом старшего поколения. Пишут, что и Мансур, и Махди старались держать певцов подальше от своих легко поддающихся влиянию детей, в то время как сама
Jeunesse dorée[12] рвалась к модной музыке и песням. Такие люди старшего поколения, как Иса ибн Али или Иса ибн Джафар ибн Мансур из более молодых, может быть, и были политическими верхоглядами, но они составили поколение, важное для формирования культуры, норм поведения и морали при дворе.
Каждодневный уход за двором находился в руках дворцовых слуг, которые занимали разные должности — от дворцового управляющего до скромных спальников и уборщиков. Повсюду крутились юные мальчики-слуги, ожидая, чтобы их послали с поручением. Многие из них были рабами или освобожденными (бывшие рабы). С течением времени они часто становились евнухами. Евнухи были частью дворцовой жизни Сасанидов, многие знатные люди при дворе византийских императоров того времени тоже были евнухами. Халифы Омейяды редко держали евнухов, но когда двор при Аббасндах разросся и стал более упорядоченным, евнухи стали образовывать более крупную, к тому же растущую часть придворного общества, пока в начале десятого века евнуха Муниса не назначили даже командующим армией.
Во главе этой иерархии слуг стоял управляющий, руководивший повседневной жизнью двора. Это был человек, который вел публичные аудиенции — и, что самое важное, контролировал доступ к халифу. Без его содействия увидеть халифа и лично пообщаться с ним было чрезвычайно трудно, а порой такая аудиенция была жизненно необходимо для успеха дела. В сущности, весь ранний период правления Аббасидов место управляющего занимали Раби ибн Юнус и его сын Фадл.
Происхождение Раби вряд ли могло быть менее подходящим. Его отец Юнус вышел из семьи с очень скромными возможностями, живущей в Хиджазе возле Медины. Будучи молодым человеком, Юнус сделал беременной одну из рабынь отца, но яростно отрицал свое отцовство. Ребенка продали в другую семью и дали кое-какое образование — но он совершил нечто дурное (мы не знаем, что именно) и был отослан в пустынное имение, принадлежащее семье, чтобы до конца дней работать на водяном колесе. Очевидно, что такая карьера не являлась дорогой к успеху. Однако вскоре его вновь продали, и случайно его купил правитель Медины, один из многочисленных родственников Мансура. Попутно Раби приобрел хорошее литературное образование — во всяком случае, согласно «Книге Песен», именно его интерес к арабской поэзии привлек к нему внимание халифа
{65}.
Раби начал свою жизнь рабом, но Мансур даровал ему свободу. Тогда он стал
мавла халифа. В арабском языке это слово имеет много значений, но в данном контексте означает «освобожденный». Статус
мавла самого халифа дал Раби возможности, которых не обеспечило ему его воспитание, и надежно присоединил к правящей династии. Он по очереди был
мавла Мансура, Махди и Хади. Его сын и наследник Фадл, который, конечно, никогда не был рабом, также называется
мавла Гаруна, и в конце своей жизни, когда структуру двора ранних Аббасидов разрушила гражданская война, он описывается как вообще последний
мавла{66}.
У халифа на службе было много других
мавла: некоторые служили на совсем низких лакейских должностях, другие работали высокопрофессиональными личными слугами или администраторами. Они образовывали при дворе могущественную группу, иногда даже входя в конфликт с военными и секретарями, и очень следили за соблюдением всех своих привилегий и статуса. Раби и его сын фактическими являлись лидерами этой группы.
Ко времени основания Багдада в 762 году Раби уже был одним из самых доверенных слуг Мансура. Ему дали большую полосу земли к югу от города, где были созданы огромные рынки Карха. Он сладил за возведением торговых рядов —
суков, а платил за строительство его хозяин. Затем Раби было выделено настоящее поместье для строительства собственного дома
{67}. Кроме того, ниже по течению Тигра он построил — скорее в качестве распорядителя, нежели архитектора — Дворец Вечности, который стал любимой резиденцией Мансура и его преемников.
Раби извлек огромную прибыль из своего поместья и бурного развития Багдада, но место в истории ему обеспечило положение при дворе. Множество рассказов описывает, как он допускал или не допускал людей до халифа. Когда он захотел подорвать положение визиря халифа, в котором узрел соперника, он позволил врагам этого человека посетить халифа для тихой и долгой передачи злонамеренных слухов
{68}.
Его величайшим триумфом стала гарантия мирного вступления Махди на престол халифа, когда во время паломничества осенью 775 года умер Мансур. После такой услуги по обеспечению преемственности не удивительно, что Махди оставил его в качестве управляющего. Раби, безусловно, был умным и сильным человеком, но также непреклонным и скромным. Он редко покровительствовал поэтам и не держал салона для писателей и интеллектуалов, как это делали Бзрмакиды, о которых мы услышим позднее; может создаться впечатление, что он не одобрял более фривольные черты двора Махди. И у него, и у его хозяина Мансура молодые годы были трудными, и эти люди понимали, что у молодого поколения мало опыта за пределами окружающего их придворного мира с его привилегиями
{69}.
Его преданность Мансуру и династии была неоспорима, но Раби мог быть жесток и мстителен с соперниками, если чувствовал, что они пытаются подорвать его положение или просто не оказывают ему подобающего уважения. Когда первый визирь Махди оскорбил его, заставив ждать во время визита, а затем усадил на обычный ковер, а не на молельный коврик, Раби в ответ практически разрушил его судьбу. Не найдя ничего, что он мог бы использовать против самого визиря, он атаковал сбившегося с пути сына этого человека, обвинив его в ереси
(зандака) и устроив при дворе вселяющую ужас сцену. Молодому человеку начали задавать вопросы на знание Корана, и когда открылось его полное невежество, его осудили как неверующего. Затем вызвали отца — но не для того, чтобы заставить его отказаться от сына, а чтобы тот лично его казнил. Когда отец не смог этого сделать, на его судьбе был поставлен крест; его удалили от дел и от двора
{70}. Мир двора с его интригами не предназначен для слабонервных.
Наследование трона халифа в 785 году сыном Махди Хади стало последней услугой династии, которой Раби так верно служил; в тот же год управляющий умер своей смертью. Его сын Фадл унаследовал статус отца при дворе. Говорят, что Хади назначил его управляющим, потому что Фадл умудрился найти игривого поэта ибн Джами, которого Махди изгнал за дурное влияние, и вновь привез его ко двору
{71}. Гарун доверил ему распоряжаться своей личной печатью
{72} — хотя похоже, что Фадл всс-таки не занимал поста управляющего до 795 года
{73}. Как и отец до него, он был одним из самых могущественных людей при дворе и мог контролировать доступ к халифу; тому, кто хотел получить аудиенцию у Гаруна, приходилось иметь дело с Фадлом ибн Раби
{74}. Если Гарун хотел, чтобы кого-либо привели к нему тайком или желал организовать кому-нибудь проверку на верность, он мог быть уверен, что Фадл выполнит эту работу
{75}. Управляющий был также тюремщиком для высокопоставленных заключенных
{76}. Во многих историях о дворе Гаруна он появляется как антитеза Бармакидам. Как и отец, Фалл имел репутацию тупоголового, практичного и прозаическою администратора, хотя сеть сведения, что он «немного» писал стихи
{77} — впрочем, стихи в то время писали почти все. Как и отец, он был по-собачьи предан династии и присутствовал при смерти Гаруна в 809 году — так же, как его отец присутствовал при смерти Мансура
{78}.
При дворе крутилось огромное количество более неопределенных фигур, которые играли в происходящих событиях роли, похожие на роли Розенкранца и Гильденстерна, часто появляясь в критические моменты, но никогда не занимая центр сцены на продолжительное время. Мы уже сталкивались с Саламом аль-Абрашем, когда тот был молодым слугой, ожидавшим возвращения Мансура с публичной аудиенции. Говорят, он был евнухом, и это давало ему возможность посещать те уголки дворца и домашних покоев, которые были запретны для мужчин
{79}. В то же время статус его пола не запрещал ему выступать в публичной сфере. Будучи взрослым, он получил назначение организовывать заседания мазалши
{80} — учреждения, куда народ мог приносить халифу жалобы на плохое управление, — и наверняка помогал отдельным просителям. Он был товарищем Махди по попойкам, и халиф приказывал ему пороть поэтов, которыми был недоволен
{81}.
Как у многих придворных, карьера Салама аль-Абраша имела свои провалы. Став халифом, Гарун арестовал его — вероятно, потому, что тот был близок с его умершим братом Хади; но к 803 году Салам определенно вновь завоевал доверие халифа и был назначен управлять домом и имуществом Яхьи Бармакида после того, как семья того потеряла благоволение. К моменту его приезда занавесы уже были сняты, и добро собрано для вывоза, а Яхья печально наблюдал за этим пришествием конца
{82}.
В хрониках того времени Салам появляется то тут, то там, но постоянно в качестве актера на ролях не выше статиста. Вне прелестного круга придворной жизни все выглядело совсем иначе
{83}. Когда нищий поэт ибн Джами прибыл в Багдад без гроша и без знакомств, он направился в одну из мечетей. Там, усталый и голодный, он сидел, наблюдая, как верующие расходятся по томам. Наконец остался всего один человек, продолжавший молиться. Позади него толпилась свита слуг и рабов, терпеливо дожидающихся, пока он закончит. Мужчина дочитал молитву, а когда выпрямился, то заметил ибн Джами и начал расспрашивать его, кто он и откуда пришел. Случайного знакомого пригласили по дворец, и ибн Джами со временем поднялся до славы и богатства. Человек со свитой оказался не кем иным, как Саламом аль-Абрашем. Для поэта, только начинающего пробиваться, он был образцом богатства и власти, недосягаемым по положению для всех, с кем поэт встречался раньше. Хотя Салам начал жизнь рабом, теперь у него была собственная свита; один из его поваров, Птах, позднее, во времена халифа Мутасима, стал знаменитым военачальником
{84}. Более того, Салам сделался человеком, который мог организовать жизненно необходимую встречу, мог открыть дверь, ведущую к славе и богатству.
Салам имел еще одну, чрезвычайно неожиданную черту характера. Пишут, что он одним из первых перевел греческие научные тексты на арабский язык — может быть, под руководством семьи Бармакидов. Это позволяет предположить, что сам он происходил из греков, и мальчика захватили во время одной из приграничных войн между мусульманами и Византией
{85}.
При Мансуре халифат Аббасидов быстро создал впечатляющую бюрократию. Как ни одно современное ему государство на христианском Западе, халифат имел целый штат оплачиваемых профессиональных чиновников
(куттаб), которые вели запись доходов и расходов, а также списки тех, кто служил в армии и учет их жалованья. Более того, чиновники, работавшие в конторах («диванах»)
[13], были мирянами, а ведь существовала еще и дублирующая, совершенно отдельная религиозная бюрократия начиная от учителей религии или улемов
(ulama). По схеме, которую так и не удалось воссоздать в паши дни, влияние чиновников проникало до самых, дальних границ империи. Уже к началу десятого века, на фоне хаоса и распада, один из чиновников, Кудама ибн Джафар (умер в 948 г.) написал руководство для администрации, которое описывало весь аппарат в тончайших деталях. Бюрократия также развила в себе чувство принадлежности к структуре и
esprit de corps (корпоративный дух); еще один чиновник, Джахшиярн (умер в 922 г.), написал историю развития бюрократии, восхваляя ее достижения и ее героев.
Халифы, как и наместники, и прочие важные персоны в государстве, имели собственных секретарей, которые составляли и писали их письма согласно установленным стандартам дипломатической формы, сложившейся к концу восьмого века. Это делалось вовсе не потому, что халифы и их ведущие вельможи были неграмотными. Напротив, совершенно исключено, чтобы халиф не умел читать и писать (еще один поразительный контраст при сравнении с западным образом жизни, так как до тринадцатого века читать на Западе умели лишь очень немногие монархи); многие из них были широко образованными людьми. Скорее это происходило из-за того, что написание официальных документов принимало все более формальный вид и обязано было соответствовать протоколу; оформить документ правильно входило в задачу профессионала.
Разрастание бюрократии и общей склонности к литературе было обусловлено появлением нового материала для письма — бумаги. До Аббасидов и в начале периода их правления документы создавались на папирусе, ввозимом из Египта, а книги писали на пергаменте, то есть выделанной коже животных. Бумага, которую изготавливали из тряпья (почти вся бумага вплоть до девятнадцатого века делалась из текстиля, а не из древесной массы), была и дешевле, и удобнее, чем то и другое. Бумагу много веков тому назад изобрели в Китае; согласно утвердившейся позднее традиционной версии, технология ее изготовления попала в мусульманский мир, когда группа китайских мастеров была захвачена в битве с арабскими войсками при Таласе в Казахстане в 751 году.
В этом виде данная история почти наверняка является мифом, но в администрации Аббасидов бумагу начали использовать именно при правлении Мансура. К девятому веку изготовление бумаги стало производительным и дешевым: Огромный выпуск литературных произведений в период Аббасидов был бы невозможен без появления этого нового материала для письма.
Халифы Омейяды имели секретарей, а в ранний период Аббасидов эти должности переродились в визирей
(wazir). Визири стали главными советниками халифов по политическим вопросам, а также возглавили гражданские службы. В качестве таковых они являлись важными фигурами при дворе. Первым визирем Мансура стал человек по имени Абу Айюб аль-Мурьяни из деревни Мурьян в Хузистане. Сначала он работал секретарем в администрации Омейядов, но был настолько умен, что вскоре после переворота Аббасидов привлек к себе внимание Мансура. Он быстро стал одним из самых близких советников халифа, его компетентность распространялась далеко за рамки простого составления писем. Именно Абу Айюб посоветовал Мансуру, как заманить Абу Муслима ко двору, чтобы изолировать и убить. Он находился рядом с Мансуром, когда тот выбирал место для строительства Багдада, и он же распоряжался распределением земель в одной четвертой части города
{86}.
Абу Айюб и его семья быстро разбогатели, приобретя огромные поместья в районе Басры в их родном Хузистане. В результате они обзавелись множеством врагов; простые люди считали их жадными и деспотичными, особенно когда те начали спекулировать зерном во время голода
{87}. Их мелкие чиновники были известны как взяточники
{88}. Айюбиды сделали большую ошибку, оттолкнув Халида Бармакида, который был потенциальным соперником в борьбе за пост визиря
{89}. В 770 году неожиданно пришла расплата. Один из их чиновников, человек по имели Абан ибн Садака, обвинил их в коррупции. Раби использовал свое положение управляющего, чтобы халиф наверняка услышал его заявление. Не предупреждая и не проверяя, визиря и его брата Халида арестовали. Они оба умерли в тюрьме, а на следующий год халиф приказал палачу взять сыновей Халида, отрубить им руки и ноги, а затем обезглавить.
Имущество, конфискованное у визиря и его семьи, было громадным — и по количеству земли в поместьях, и по деньгам. Место визиря буквально являлось лицензией печатать деньги. Но оно было также и чрезвычайно опасным. С нажитыми при дворе врагами, имея за плечами слишком опасные махинации, визирь и его семья могли по приказу халифа исчезнуть в мгновение ока. При Аббасидах такое случилось впервые— но этот случай оказался далеко не последним.
В истории чиновничества и во многих аспектах придворной жизни раннего периода Аббасидов господствовали Бармакиды. Их имя, единственное из множества чиновников и городских слуг этой поры, обессмертила «Тысяча и одна ночь», где Джафар Бармакид представляется преданным товарищем Гаруна во всех приключениях; их имя вошло даже в «Оксфордский словарь английского языка».
[14] Иизаму аль-Мульку (умер в 1092 году), великому визирю сельджукских султанов, писавшему тремя веками позже, Бармакиды были известны в основном своими аристократическими персидскими предками и политической проницательностью
{90}. Бармакиды были самой богатой и самой знаменитой семьей в Багдаде после Аббасидов. Конечно, их имя навсегда связано с этим городом, но их родина лежит далеко на востоке.
Они пришли из Балха в плодородной долине реки Оке — сейчас это северный Афганистан. В наше время Балх представляет собой чуть видные руины из бесформенных куч глины, но в древности и в начале средних веков он был одним из крупнейших городов Азии. Столица греческого царства Бактрия, после развала империи Александра он управлялся буддийской династией Кушанов; в первых веках нашей эры буддизм окончательно утвердился здесь. В соседнем Бамиане, до недавнего их уничтожения талибами, все еще стояли две громадных статуи Будды, памятники богатой культуры того времени.
Когда сюда пришли арабы, Балх являлся типичным много-конфессиоиальпым городом Центральной Азии. Он был окружен высокой стеной из глиняного кирпича; глядя на юг с крепостного вала, вы могли разглядеть за поразительно зелеными полями орошаемой равнины крутые и бесплодные подножиягор Гиндукуша, с поражающей, драматической внезапностью вздымавшиеся пал плоской землей. На равнине глаз выхватывал огромный купол гробницы — буддийской усыпальницы Цавбахара, духовного центра оазиса. Это был центр паломничества для буддистов из многих земель, мусульманский источник сравнивает его с Меккой. Строение было необыкновенно богато — и обширными землями, и людьми, которые их обрабатывали и которых считали рабами.
Семья Бармакидов традиционно оставалась опекуном великой гробницы и, купаясь в богатстве, имела соответствующий статус. Имя Бармак было наследственным титулом, и хотя после того, как семья перешла в мусульманство, оно превратилось лишь в первое имя, но все же род оставался известным именно как Бармакиды (араб.
Barāmikа). Они женились на женщинах из правящих семей горных княжеств верховий реки Оке: мать Халида ибн Бармака была принцессой из Согдианы в современном Таджикистане.
По причинам, о которых мы можем только гадать, Бармакиды решили перейти в ислам. Как и многие неарабские мусульмане в восточном Иране, они поставили на Аббасидов. Халид ибн Бармак, являвшийся в то время главой семьи, вскоре выделился среди других лидеров переворота. Он лично отвечал за распределение собранных денег и выдачу жалованья войску
{91}: может быть, именно прошлое семьи, некогда управлявшей огромными поместьями, как раз делало згу работу подходящей для него.
С того времени он продолжал свою карьеру при дворе и в среде чиновничества. Не существует письмешгых свидетельств, по он когда-либо возвращался в Балх, а крепость Навбахар вообще исчезает из исторических записей. Халид превращается в великого финансового деятеля раннего периода халифата Аббасидов. Это положение приносит новые награды. Халид был среди тех, кто давал Мансуру советы при планировке Баедада, а когда город стал распространяться на восточный берег Тигра, там оквзалась собственность, дворцы и рынки Халида и его детей; сто имения помнились также в районе Васры.
Обладая несомненным талантом финансиста, Халид не рвал старых персидских связей. Он наслаждался жизнью во время двух кратких периодов нахождения на посту губернатора провинции в Фарсе, который раньше был центром империи Сасанидов и где все еще были живы старые персидские обычаи, а также в Табарнстане. Эта гористая область на южном берегу Каспийского моря была районом, куда почти не проникли арабы, где задержались старые традиции. Говорят, что, будучи правителем провинции, Халид сотворил чудо, найдя сокровища старых персидских царей, которые они привезли с собой в это горное убежище, спасаясь от вторжения арабов. Он создавал полые рынки и, как знак уважения, местные жители украшали свои щиты его портретом, что было совершенно не характерно для ислама.
Связь со старым персидским прошлым подчеркивает история об арке Кисра (Хоеров). К югу от Багдада лежала старая персидская столица, известная на Западе под греческим именем Ктссифон, по в арабских источниках ее называли просто «город» (аль-Мадаин). Над городом возвышалась огромная арка-пеан, которая была воздвигнута Хосровом II. Этот громадный кирпичный пролет был много шире, чем умели строить арабские строители. Арка стояла как молчаливый свидетель превосходства древней культуры. Согласно рассказу, который несет в себе все отличительные признаки литературной выдумки, Мансур решил разрушить арку и использовать ее материал для строительства своего нового города, но Халид возразил, что наличие грандиозной арки среди необитаемых руин будет демонстрировать превосходство ислама, и ее сохранили для потомства
{92}. Огромным пролетом можно восхищаться и сегодня.
Даже для таких глубоко уважаемых придворных, как Халид, жизнь никогда не была полностью безопасной. Характер халифа иногда мог повернуться ужасной стороной, и этот
ira regis, царский гнев, для многих перечеркивал все их достижения и даже саму жизнь. Сын Халида Яхья доносит до нас историю
{93}, которая показывает как опасности того времени, так и нуги, с помощью которых большие люди пытались защитить себя от поворотов колеса фортуны. Мансур начал с подозрением относиться к богатству Халида и без предупреждения потребовал у него огромную сумму в три миллиона дирхемов. Даже Халид не располагал такими ресурсами и заподозрил, что халиф просто задумал разорить его. В страшной спешке он бросился к людям, к которым при дворе обращался дружественно «браг». Он послал своею сына Яхью, тогда еще молодого человека, обойти их дворцы и попросить взаймы.
Друзья Халида в основном были чиновниками — такими, как Салих, носивший официальный титул хранителя молельного коврика
(Shib al-Musalla); его обязанности простирались и на хранение цистерн с водой в готовности для паломничества халифа в Мекку, а также (по требованию) лишних папирусов из сокровищницы на продажу
{94}. Кроме того, Салих отвечал за распределение участков на восточном берегу Тигра в Багдаде. Большую их часть он сохранял для себя и использовал для создания коммерческих предприятий
{95}.
Салих и остальные согласились помочь — в конце концов, никто не мог предсказать, когда придет их черед и когда им понадобятся друзья. Однако многие сделали это тайно, отказавшись встречаться с Яхьей и выслав деньги позднее — было бы неразумно слишком открыто объявлять себя друзьями человека, который вскоре может быть полностью обесчещен. Самая сложная беседа состоялась у Яхьи с человеком по имени Умара ибн Хамза. Как и Салих, Умара был чиновником скромного социального происхождения, но необычайно разбогател в результате своих связей при дворе. Его описывали как одноглазого и бесформенно-толстого, но его щедрость соперничала только с его гордостью
{96}. Умару считали трудным в общении человеком, и Яхья не испытал облегчения после его первого ответа. Когда он пришел к Умаре, который наверняка понимал, зачем к нему явились, то нашел его сидящим во дворе дома лицом к стене. Хозяин не повернулся к Яхье, ограничившись тем, что сдержанно спросил его, как чувствует себя отец. Яхья объяснил свою миссию, но Умара не
ответил. Яхья чувствовал, как стены сдавливают его и что земля вот-вот поглотит его, но продолжал говорить. Наконец Умара, отправляя его прочь, пообещал сделать, что может. Яхью вывели из дома. Про себя он проклинал Умару за высокомерно и гордость. Но едва он вернулся к отцу и стал рассказывать ему о результатах визита, как появился посланец Умары с 100 000 дирхемов.
В конце концов осталось собрать лишь 300 000 дирхемов, но последний срок быстро приближался. Яхья пересекал лодочный мост через Тигр в Багдаде, когда наткнулся на предсказателя с вороной — по утверждению хозяина, эта птица открывала будущее. Человек закричал: «Птица может предсказать тебе!» Яхья проехал мимо, погруженный в беспокойные мысли, но человек побежал за ним, схватил коня за уздечку и сообщил, что Аллах рассеет его заботы, и завтра он будет проезжать этим же путем со знаменем в руке. Яхья пообещал человеку 3000 дирхемов, если это будет правдой, и поехал дальше, даже не представляя, как такое может случиться.
Тем временем двор получил весть, что курды опустошили земли вокруг Мосула, и халиф ищет кого-нибудь для разрешения возникшей проблемы. Начальник дворцовой стражи Му-сайяб, который был другом Халида, порекомендовал, чтобы назначили его. Таким образом, на следующий день Яхья с отцом действительно проехали мимо предсказателя будущего в сторону Мосула со стягом, и предсказатель получил свои деньги.
Многие истории рассказывают нам об опасностях жизни при дворе — но также и о важности придворных связей. Халид выжил только потому, что у него была группа друзей, которые (без сомнения, в основном по чисто личным мотивам) были готовы помочь ему деньгами и протекцией. Несчастный визирь Абу Айюб не имел таких связей, и его карьера закончилась ужасно.
Халид умер в 780 году после возвращения из похода, который молодой принц Гарун устроил против византийцев. Его сын Яхья уже создал себе место в администрации; безусловно, статус отца немало повлиял на его карьеру, но Мансур шутил, что в то время, как большинство мужчин порождают сыновей, Яхья породил отца
{97}.
Яхья ибн Халид отметился в истории двора Аббасидов при правлении Махди, по еще больше — при Гаруне. И все-таки трудно четко сформулировать суть его талантов и достижений. Многие рассказы о его жизни звучат скорее как примеры, написанные, чтобы показать, как должен вести себя хороший министр и бюрократ, что он должен делать в той или иной ситуации, а не как реальный исторический материал. Репутация Яхьи была идеализирована последующими поколениями секретарей, которые сделали из него образец для себя, и именно их глазами мы смотрим на героя. Несмотря на эти оговорки, существующие сообщения все-таки важны, поскольку они показывают нам, каким требовалось быть идеальному придворному и администратору, какие достоинства считались для него основными.
Ключом к успеху были отношения с царской семьей, которые у Яхьи сложились намного более тесно, чем у большинства других чиновников, а также крепкие связи с другими членами администрации. Кажется, что тесная дружба с правящей семьей возникает совершенно случайно. Мансур назначил Халида правителем горного Табаристана, где тот служил семь лет. Находясь там, Халид назначил своего сына Яхью, тогда еще очень молодого человека, своим представителем в городе Рее на юге. В 758 году Мансур послал своего сына Махди в Рей, назначив его своим наместником в Хорасане и на востоке — и Яхья, естественно, оказался у того на службе. Говорят, что их отношения стали близкими именно тогда. Когда у Махди и его любимой жены Хайзуран родился Гарун, жена Яхьи, Зубейда бинт Мунир, приняла к своей груди наследника Аббасидов, и Хайзуран вернула эту любезность сыну Яхьи, Фадлу, рожденному годом позже
[15]{98}. Судя по всему, в истории семьи Аббасидов нет других подобных примеров в отношении выхаживания детей, и если такое произошло на деле, то понятно, почему Бармакиды находились в фаворе. Хотя вполне возможно, что это была просто дружба между двумя молодыми матерями, возникшая в чужом для них обеих городе. Каковы бы ни были обстоятельства, история показательна для близких отношений, которые возникли между Яхьей и молодым Гаруном.
Эти отношения подтвердились, когда молодого Гаруна послали в 780 году в поход против византийцев. То была первая экспедиция под его независимым командованием, а он был еще молод и неопытен. Его отец, халиф Махди, назначил Яхью сопровождать сына. Под начало Бармакида был отдан контроль над расходами, секретариат и вся администрация войска. Раби ибн Юнус также был послан с армией, и Гарун обычно советовался с ними по всем вопросам. Там сцементировались близкие отношения между Яхьей и Раби — а это означало, что управляющий, поссорившись с предыдущими визирями, вполне мог тесно работать с Яхьей. К счастью, поход оказался успешным, хотя и довольно коротким. Небольшая византийская приграничная крепость Самалу была взята, армия вернулась с победой, и статус Яхьи под тверд идея
{99}.
Во весь остальной период правления Махди Яхья значил для Гаруна то же, что и отец. Вступление на престол халифа Хади в 785 году породило серьезную угрозу его положению. Хади ненавидел Гаруна как очевидного наследника и хотел заменить его собственным сыном. Яхья видел в этом явную угрозу своему положению: если Гарун утратит права наследования, то никто не сможет обеспечить статус Бармакида. Вместе с Хайзуран, которую он знал со времен их пребывания в Рее, и хитрым Раби он приложил все усилия, чтобы защитить интересы Гаруна. Весьма характерно, что там, где Хайзуран выступала против своего старшего сына, сам Яхья пытался смягчить обстановку, уговаривая Хади быть терпимым к младшему брату — а Гаруна учил противостоять угрозам Хади.
Поворот колеса фортуны, который посадил на трон Гаруна — в сущности, почти без сопротивления — означал, что Яхья оказался великолепным администратором. С самого вступления На престол Гаруна в 786 году и до драматического падения Бармакидов в 803 году Яхья и его сыновья, солидный Фадл и более легкий Джафар, властвовали при дворе халифа. В 794 году, как сообщают источники, «Гарун передал все свои дела Яхье Бармакиду»
{100}.
Во многих историях Яхья появляется как человек, наделенный всеми полномочиями власти. В нескольких рассказах люди подходят к нему, чтобы сказать, что соседнее с ними поместье в Саваде (нынешний Ирак) внезапно поступило на рынок, а у них нет денег купить его
{101}. Великий человек обещает посмотреть, что можно сделать, а когда они приезжают домой, деньги им уже доставлены. Другой рассказ показывает его помогающим коллеге, заваленному работой в конторе, некому Али. Человек посетовал, что у него так много жалоб, что он не справляется с потоком бумаг: «Рукава и туфли забиты ими до отказа». Яхья пригласил сто отдохнуть вместе, они немножко выпили и вымылись в бане, а пока его коллега спал, Яхья сам работал с бумагами, отделяя важные и подписывая их. На следующий день Али с упавшим сердцем вернулся к жалобам, боясь притронуться к ним и понимая, что не выполнил работу. Когда бумаги прибыли, он обнаружил, что они все обработаны за него
{102}. Иногда нам всем требуются такие коллеги, как Яхья Бармакид.
Зато Яхья был нетерпим к неумехам. Хотя он отвечал за письма, которые отсылались от имени халифа, личную печать халифа (во всяком случае, какое-то время) хранил другой чиновник, Абу’ль-Аббас аль-Туси. Яхыо раздражала медлительность Абу’ль-Аббаса при выполнении работы и задержки, которые возникали в результате. Он пожаловался халифу Гаруну, который позволил ему обходить держателя печати и приказал своим секретарям отправлять письма напрямую
{103}.
Яхья во многих смыслах был публичным представителем правительства Аббасидов. Вместе с сыновьями Фадлом и Джафаром он сидел каждый день в присутственном месте, принимая жалобы; «они оставались до ночи, просматривая дела людей и вникая в их нужды. Никому не отказывали в приеме, и их занавес никогда не опускался»
{104}. Именно к его двери складывалась масса прошений. Каждое утро его ждали на скамейке у калитки его дома, и каждый день он весело и дружелюбно приветствовал жалобщиков.
Другая зарисовка показывает, как быстро мог действовать Яхья при необходимости. Однажды халиф Гарун уехал на охоту, а в Багдаде начался разлив Тигра. Все были удивлены мощью воды. Мы видим Яхью с армейскими командирами, он посылает их в угрожающие наводнением зоны и приказывает строить защитные дамбы
{105}.
Мы также обнаруживаем, что он выступает как прогрессивный помещик. Говорят, Яхья потратил 20 миллионов дирхемов, чтобы прокопать канал, который стал известен под названием Абу'ль-Джунд («Отец войска»), потому что огромные урожаи со впервые возделанных полей использовались для выплаты жалованья войскам. Именно он организовал поставки зерна из Египта и святые города Мекку и Медину, где жило много государственных пенсионеров, потомков переселенцев и прислуги
{106}. Все посчитали этот акт благочестивым и похвальным.
Кроме того, что он был умелым чиновником, Яхья играл важную роль в качестве покровителя культуры. Разумеется, поэты писали стихи в era честь, а он был (что естественно и общепринято) щедр с ними. Говорят, что он и сам немного писал стихи — но похоже, не особенно оригинальные; его оригинальность лежала в сфере покровительства научной литературе. Именно Яхью Бармакида считают первым, кто проявил интерес к переводу на арабский книги «Альмагест» Птолемея — увы, похоже, что проект увяз в трудностях из-за нехватки опытных переводчиков
{107}. Яхья поручил создать исследование о призме. Может быть, оттого, что его семья пришла с востока, он проявлял большой интерес к индийской культуре. Говорят, он посылал в Индию специального человека, чтобы тот привез растения, используемые в тамошней медицине, а также собрал сведения об индуистской религии, которые образуют смысловую основу более поздних арабских текстов
{108}. Он заплатил индусу, учителю по имени Манка, за перевод индийской книги по медицине (по-арабски она называется «Книга Сасард»)
{109}. Столь широкий спектр интересов выделяет Яхью и его окружение из ряда обычных чиновников и придворных. Эта деятельность в качестве покровителя науки принесла плоды в следующем веке, когда в администрацию пришли ученики Бармакидов и стали одними из основных инициаторов перевода на арабский язык греческих научных работ.
Династия Аббасидов пришла к власти путем военного переворота. Именно армии мусульман Хорасана победили силы Омейядов и в 750 году привели к власти новую династию. В конце концов, именно военная сила поддержала авторитет династии, и Мансур тщательно поддерживал эффективность своей военной машины. Вполне понятно, что военачальники занимали важные места при дворе халифов.
Общее число войск в армиях Аббасидов в конце восьмого века доходило, вероятно, до 100 000 человек. Интересно сравнить эту цифру с армией Восточной Римской империи в шестом веке, которая насчитывала примерно от 90 000 до 150 000 человек в регулярных войсках — хотя, конечно, армия Аббасидов была разбросана на гораздо большем пространстве. В 762 году, когда Мансур столкнулся с восстанием Алида Ибрахима, брата Мухаммеда Чистая Душа, в Рсс под командованием его сына и наследника Махди находилось войско в 30 000 человек, 40 000 солдат насчитывалось в Тунисе, где возник конфликт с местными берберами, и всего 4000 человек было послано в Медину, чтобы сражаться с Мухаммедом Чистая Душа. С халифом оставалась лишь тысяча человек, и он вынужден был как можно быстрее набирать солдат в Сирии. Мы знаем, что гарнизоны стояли в Азербайджане и в Мосуле; вероятно, около 25 000 солдат имелось на византийской границе. Всем им платили или должны были платить ежемесячное жалование — но многие солдаты, подобно оттоманским янычарам, также имели работу или небольшое дело в тех местах, где они жили. После основания Багдада значительное количество войск осело в городе. Он стал их домом, и они со своими потомками образовали большую часть населения новой метрополии.
Солдаты унаследовали кварталы к северу и западу от Круглого Города, в стороне от коммерческих районов на юге. Большие семьи военных людей Аббасидов имели здесь земельные наделы: Хасан ибн Кахтаба, сын первого полководца при перевороте, имел участок
(rabad), на котором стоял его дом и дома членов его семьи, выходящие на боковую улицу
(darb), названную его именем
{110}. Его сослуживец Мусайяб ибн Зухейр, в течение многих лет занимавший должность начальника полиции, имел дом прямо напротив ворот Куфа в Круглом Городе, а также владел собственной мечетью с высоким минаретом
{111}. Другие солдаты жили более скромно; образовались целые районы города, заселенные солдатами с дальнего северо-востока империи, а также группами выходцев из Мерва, Балха, Бухары и других мест Трансоксапии, осевшими в этом городе иммигрантов
{112}.
Большинство их жило и работало в мире, далеком от двора и придворного общества, но вокруг дворца постоянно стояли солдаты
{113}. Однажды, уже в конце своего правления, Мансур провел формальный смотр армии. Он собрал войска на берегах Тигра южнее Багдада, приказав своей семье и двору тоже взять оружие. Сам он появился в кольчуге, черной
калансуве и шлеме
{114}. Однако это было скорее исключительным явлением, обычно боевые доспехи при дворе не носили.
Среди военных сложилось две элитных группы, которые имели гораздо более тесные связи с двором халифа. Это стража
(haras) и полиция
(xhurta). Различия между этими двумя группами пс всегда ясны, по стража, вероятно, ограничивалась обеспечением безопасности халифа (и ликвидацией его жертв), в то время как полиция играла более широкую роль в поддержании порядка как в Багдаде, так и в других местах.
При основании Багдада страже были даны участки возле дворца халифа. В сердце Круглого Города находилась открытая площадь. На площади стоял дворец Золотые Ворота и мечеть. Единственными другими строениями на этом пространстве были жилища стражников. Поблизости располагались два больших портика — крыши, опирающиеся на колонны из обожженного кирпича и гипса, где сидели начальники стражи и полиции. Они служили также прибежищем для молящихся, не поместившихся в мечети
{115}. Кроме того, охранники стояли у четырех ворот в Круглый Город. Говорят, что каждые ворота имели отряд из тысячи человек с собственными командирами; в аркадах находились комнаты, расположенные по сторонам от прохода
{116}.
Стража существовала весь ранний период правления Аббасидов, но у нас мало информации о том, как она выглядела и какие функции выполняла. Она должна были стоять у входов во дворец халифа и присутствовать на официальных приемах. До возведения Багдада, когда Мансур жил в палаточном лагере, он держал стражников под рукой; именно стражу он вызвал, чтобы убить Абу Муслима, когда тот появился. Когда в 758 или 759 году на Мансура напали фанатики из секты равандийцев, и он находился в серьезной опасности, командир стражи лично вышел, чтобы переговорить с повстанцами. Когда он уже возвращался, ему сзади пустили в спину стрелу, и несколькими днями позже он умер. В качестве чрезвычайного знака уважения халиф лично совершил похоронные молитвы и оставался у тела до тех пор, пока убитого не похоронили. Место умершего передали его брату
{117}. Командир стражи действовал также как посланец между посетителями и халифом; описывают, как один старший военачальник (Хасан ибн Кахтаба) пришел навестить халифа и, обнаружив сына — командира стражи, сидящего на
фарш своего отца при входе в апартаменты правителя, — оставил у него записку
{118}. Позднее, как описывают источники, стражников вооружали пиками, когда они шли охранять двор, но у нас нет никакого представления, какую форму они носили и имелась ли она вообще
{119}.
Мансур правил еще двенадцать лет после подавления восстания Чистой Души в 762 году. В основном эти годы были мирными, и халиф мог посвящать много времени и средств строительству. Работа в Круглом Городе Багдада оказалась в основном закончена к 766 году — всего через четыре года после начала строительства
{120}. Двумя годами позже, в 768 году, халиф начал расширять столицу. Его сын и наследник Махди вернулся из Прана, и Мансур хотел построить ему собственный дворец и дать возможность покровительствовать и награждать своих соратников, как сам он делал на западном берегу.
На восточном берегу был создан совсем новый город с собственной мечетью и дворцом халифа. Члены внутреннего круга Аббасидов, вроде семьи Бармакнда, вскоре приобрели собственность на обоих берегах реки. Чтобы связать два берега, были построены мосты из суденышек. Такие мосты из стоящих борт к борту маленьких лодок, поверх которых был положен деревянный настил, были в те времена обычным способом соединять берега Тигра — и так до самого двадцатого века, когда стали строиться каменные и бетонные мосты. Район на восточном берегу, называвшийся иногда Русафа, стал началом поселения, которое со средних веков и до начала нашего времени понемногу превращалось в центр города.
В 771 году халиф посетил Сирию и Иерусалим, во время этого путешествия выбрав место для еще одного нового города. Место находилось рядом с древним городом Ракка на Евфрате, ныне он принадлежит Сирии. На следующий год Мансур послал сына Махди начать строительство; говорят, тот начал разбивать новый город по такому же плану, что и Багдад — с аналогичными воротами, стенами и башнями. Очертания Ракки Аббасидов все еще заметны, но этот город не круглый, а имеет форму буквы «D». Его стены и башни, достигающие теперь лишь высоты трех-четырех метров, дают представление о том, как был спроектирован Багдад. Город был предназначен стать передовой базой армии Аббасидов для проведения кампаний на византийской границе — а также, вероятно, на случай волнений в Сирии. Хорошо связанный с Багдадом по реке, он стал любимой резиденцией более поздних халифов, в первую очередь Гаруна аль-Рашида.
Летом 775 года Мансур отправился в паломничество в Мекку. Он совершал его в 765 и 770 годах, но на этот раз развивающаяся болезнь обусловила дополнительную срочность в осуществлении его планов. Ему исполнилось, судя по всему, 63 года, и здоровье его уже не было столь крепким, как прежде. Как и многие мусульмане, он верил в духовные преимущества умирающего в святом месте. Большинство важных персон государства отправилось с ним, включая преданного управляющего Раби и молодого Мусу, сына наследника Махди, позднее тоже ставшего халифом под именем Хади. Махди остался в Багдаде во главе правительства.
По мере продвижения Мансуру становилось все хуже. В одной из тех историй, которые показывают, насколько закрыта была личная жизнь халифов даже для самых высокопоставленных людей, нам повествуется, как издали за верблюдом Махмуда наблюдал член семьи Али, у которого была причина бояться гнева халифа. Он увидел, как верблюд отошел к краю дороги и опустился на колени. Халиф сошел с носилок и испражнился, затем снова сел позади Раби и продолжил утомительное путешествие. Когда дорога очистилась, наблюдатель, с которым был доктор, подошел туда, где присел халиф, и осмотрел место, где тот опорожнялся. У доктора не оставалось сомнений: «Я увидел движение кишечника человека, которому осталось недолго жить»
{121}. Не удивительно, что халифы более поздних поколений предпочитали жить в уединении в своих дворцах, где можно спокойно справить нужду так, чтобы ничей длинный нос не сунулся посмотреть на результат.
Все в караване знали, что халиф серьезно болен. Сам он отчаянно стремился как можно скорее достичь области Харам возле Мекки, чтобы умереть на святой земле. Когда он дошел до первого привала на святой земле, конец приблизился к нему вплотную. Халиф умер на восходе солнца 21 октября 775 года. По стандартам семьи Аббасидов он считался уже глубоким стариком. Несмотря на то — или благодаря тому, — что они могли вызвать любого самого знаменитого врача тех дней, все другие халифы Аббасидов, даже Гарун аль-Рашид, все равно умирали еще до достижения пятидесяти лет.
При смерти Мансура присутствовал только Раби и несколько личных слуг. Раби знал, что действовать нужно решительно. Чтобы выиграть время, он запретил женщинам рыдать и хранил смерть хозяина в секрете. Лагерь гудел от слухов. Согласно версии событий самого Раби, когда халиф умер, он посадил труп на скамейку за тонким занавесом. Затем были вызваны старейшины семьи Аббасидов, чтобы повторить клятвы верности очевидному наследнику, Махди. Они считали, что старик еще жив. И только когда это было проделано, Раби объявил, что халиф уже мертв
{122}.
Али аль-Навфали, дальний родственник царской семьи, чьи записки поставляют нам огромное количество сплетен о придворной жизни, рассказывает
{123}, как Раби собрал в большой палетке всех основных представителей двора. На почетном месте у шеста сидел сын Махди — Муса. Палатка переполнилась мужчинами, сидящими на полу со скрещенными ногами. Каждый гадал, что произойдет. Навфали сидел рядом с выдающимся представителем семьи Алидов, так близко, что их бедра соприкасались. «Ты думаешь, он мертв?» — прошептал его сосед. «Не думаю, — ответил Навфали (в конце концов, никто не хочет предсказывать смерть монарха). — Но он, должно быть, очень болен или без сознания».
Как раз в этот момент один из одетых в черное слуг вошел в палатку и начал оплакивать смерть своего хозяина, посыпая пеплом голову. Все вскочили и бросились в личную палетку халифа, но слуги затолкали их назад. Потом Раби уговорил всех снова тихо рассесться. Он зачитал свиток, который, как он объявил, был последней волей халифа, записанной «в мой последний день в этом мире и мой первый в следующем», — по мнению Навфали, свиток был написан самим Раби. В нем покойный призвал всех дать клятву верности Махди. Когда Раби закончил чтение, прежде чем кто-либо успел начать спорить или возражать, он начал подводить всех главных придворных за руку, одного за другим, к молодому принцу Мусе. Придворные брали сына покойного за руку и клялись в верности его отцу. Кризис миновал, и восшествие Махди было решено наверняка.
Новому халифу, высокому стройному мужчине с вьющимися волосами, было немного за тридцать. Еще при жизни отца Махди уже приобрел значительный опыт политика на посту наместника в Хорасане, а руководство строительством восточной части Багдада дало ему возможность хорошо наградить своих приверженцев. Именно тут, в районе Русафы, он построил дворец, в котором обычно жил. Арабские источники рисуют портрет привлекательного и добродушного человека, непритязательного и щедрого, явно контрастирующего со своим суровым и расчетливым отцом. Хотя Махди родился вскоре после переворота, он уже воспитывался в атмосфере комфорта и привилегий; известно, что он любил поэзию и общество женщин.
В то же время Махди был искренне верующим человеком. Он проповедовал в мечети
{124} и сидел в
мазалиме, принимая жалобы. Он предпринимал постоянные и весьма успешные попытки примирить членов семьи Алн с правлением Аббасидов, проявив щедрость к Алидам и их потомкам. Махди также стал великим строителем и реставратором мечетей. В 776 году, сразу же после восхождения на престол, он построил в Русафе большую новую мечеть
{125}, а также мечети в Басре и в Мекке
{126}. Он начал кампанию по возвращению мечетям их скромного древнего обличия, приказав уменьшить высоту кафедр и убрать
максура — так назывались огороженные и защищенные места в мечетях, предназначенные для правителей или важных персон. Существование подобных выделенных мест оскорбляло многих верующих, считавших, что в доме для молитвы все мусульмане равны. Махди охотно шел на такие популистские шаги. Он демонстрировал верность религии и другими способами. Его сыновья были посланы в поход против неверных — Гарун против византийцев, а Хади — против тех, кто отказался признавать власть халифа в Джурджане на северо-востоке, возле Каспийского моря. Халиф приказал организовать из Басры морской поход в Западную Индию. В Гуджарате был захвачен город, среди награбленного добра везли и дочь местного царя; однако возвращение свело результат победы к нулю, так как сопровождалось штормами и цингой у негостеприимных южных берегов Ирана, в результате чего много мусульман погибло
{127}.
Представление о кое-каких личных чертах Махди можно вынести из рассказа о случае с халифом на охоте (а он был заядлым охотником; выражаясь литературно, охота являлась его роковой страстью). Вдвоем с единственным товарищем он встретил крестьянина, у которого имелся лишь камышовый шалаш да огородик. Проголодавшись, халиф спросил крестьянина, есть ли у него какая-нибудь еда.
Земледелец ответил, что у него есть жаркое из соленой рыбы и немного ячменного хлеба.
— Если у тебя есть еще и растительное масло, будет просто замечательно, — успокоил его халиф.
— Да, масло есть.
— И лук-порей тоже?
Мужчина отправился в огородик и принес зелень, лук-по-рей и репчатый лук; все это, может, и подходящая пища для крестьянина, но вряд ли годится для халифа. Когда халиф с товарищем поели, Махди попросил друга сочинить стихи, что тот и сделал, вышучивая в них простака-хозяина. Халиф упрекнул поэта и изменил несколько строк, превратив стихотворение в хвалебное. Потом они уехали и вернулись в лагерь, где халиф приказал передать крестьянину огромную сумму в 20 000 дирхемов.
Тема «халиф и крестьянин» весьма часта в арабской литературе, и хотя данный случай вполне может быть выдуманным, он все-таки очень интересен. Изображение халифа, охотящегося в сельской местности с единственным сопровождающим, без стражи, без слуг, без торжественного пикника на выезде, впечатляет — а заодно снова демонстрирует огромную пропасть, которая отделяла от народа жизнь халифа и его придворных.
Правление Махди было не лишено проблем. В Хорасане восставали местные правители. Быстрый взлет и еще более быстрое падение его фаворита и визиря Якуба ибн Дауда еще раз показало непрочность положения представителей самой высшей администрации, чье могущество всегда целиком зависело от халифа. Однако в целом во время правления Махди развивал и укреплял достижения своего великого отца Майсура — увы, с весьма скромным и недолговечным результатом.
Глава III
ГАРУН АЛЬ-РАШИД: ЗОЛОТОЙ РАСЦВЕТ
Без сомнения, Гарун аль-Рашид — самая известная личность из всей династии Аббасидов. Возможно, его нельзя назвать самым одаренным, образованным и политически проницательным халифом династии, но благодаря своей репутации именно его имя пережило века и стало частью мирового культурного наследия. Какой контраст — ведь в то же время имена Мансура или Мутаввакиля известны только специалистам!
Основной причиной тому стал образ халифа из «Тысячи и одной ночи». В этих сказках Гарун вместе с близким другом Джафаром Бармакидом и придворным шутом Абу Нувасом шатаются по улицам Багдада, ища на свою голову причудливые авантюрные приключения. Хотя самые ранние варианты «Ночей» зафиксировали события четырнадцатого века, очевидно, что превращение правления Гаруна в миф началось гораздо раньше. В течение двух поколений после его смерти писатели, такие, как ибн Аби Тахир с Грязной улицы, разрезавшей пополам Багдад девятого века, изощрялись в составлении разных историй о поэтах, певцах, гаремах, баснословных богатствах и немыслимых интригах, которые впоследствии стали основой для знакомых нам легенд.
Нетрудно понять, почему эру Гаруна стали считать чем-то вроде Золотого иска, «золотого расцвета» империи Аббасидов. То были почти безмятежные дни. эдвардианское лето халифата. После смерти Гаруна и — по крайней мере, частично — из-за его ошибок халифат захлестнула долгая и невероятно разрушительная гражданская война. Хотя в первой половине девятого века династия Аббасидов в итоге восстановила значительную долю своей власти, вскоре халифат начал распадаться. Халифы были осаждены рецидивами финансовых кризисов, и даже Багдад перенес разорение двух крупных осад со всеми вытекающими из них последствиями — страданиями и смертями.
Но в девятом и десятом веках эра Гаруна, весьма несовершенная, постепенно стала представляться сплошным великолепием, олицетворением могущества и процветания. В конце концов, никто не сознает, что живет в золотом веке — до тех пор, пока век этот не закончится, люди не обернутся назад и не поймут, что потеряли.
Достаточно странно, что мы не знаем наверняка даты рождения Гаруна — человека, который стал столь знаменит и чья позднейшая жизнь сравнительно хорошо документирована
{128}. Он родился примерно между 763 и 767 годами, но наиболее вероятная дата — 766 год. Трудно сопротивляться подозрению, что ореол мистики вокруг Гаруна культивировался намеренно — быть может, желая затенить тот факт, что старшие наследники от других матерей были обойдены в праве на наследование.
Мы уверены, что и Муса, впоследствии ставший халифом Хади, и Гарун родились в Рее, в Центральном Иране, где их отец служил наместником, а их матерью была любимая наложница Махди Хайзуран. Современники не упустили важности данных им имен: Муса — это Моисей, предводитель своего народа и великий законодатель; Гарун — это Аарон, его младший брат и помощник, но, кроме того, и возможный преемник.
Из всех многочисленных сыновей Махди только Мусу и Гаруна готовили в преемники халифа. Похоже, отец позаботился дать обоим братьям хорошую политическую подготовку. В более поздние века халифы Аббасиды пробивались на трон, имея за плечами небогатый опыт благодаря жизни за стенами дворца, так как не завязывали реальных кон тактов с политиками и солдатами, от которых зависел впоследствии их успех. Однако Махди поощрял самостоятельность мальчиков и давал им возможность самим находить себе друзей среди придворных. Гаруна наверняка учили в детстве читать и писать, он также изучал основные положения и верования ислама — хотя во взрослой жизни никогда не выказывал больше, чем обычную набожность, пусть и достаточно искреннюю.
Первым большим публичным действием молодого принца стало паломничество в Мекку и Медину, куда отец взял его осенью 777 года. Это было огромное событие. При правлении Мансура святые города оказались центром восстания Мухаммеда Чистая Душа против власти Аббасидов; еще оставались раны, которые требовалось заживлять, и ограды, которые нужно было чинить. Как обычно, Махди делал все по-своему. Он продемонстрировал свою набожность восстановительными работами в больших святилищах. Его предупредили, что здание Каабы в Мекке пребывает в опасном состоянии из-за огромного веса покрывал, которые использовали для его укрытия. Удачливые халифы укладывали каждый раз по одному покрывалу поверх остальных, пока не возникла опасность, что здание рухнет из-за их веса. Одна задругой богатые ткани были сняты: со времени последних Омейядов на крышу укладывали прекрасную шелковую парчу, а более ранние ткани из Йемена были гораздо проще. Должно быть, это была великолепная коллекция старинных тканей, мечта любого историка.
В Медине Махди расширил мечеть Пророка и хотел восстановить первичную простоту ее интерьера. Мы знаем, что он приказал убрать ограждение
максура. Деревянная кафедра, с которой проповедовал Мухаммед, все еще существовала, но Муавия, нечестивый Омейяд, заставил сделать ее выше, чтобы она производила большее впечатление. Теперь Махди намеревался уменьшить ее до изначальной простоты. Однако сделать это оказалось нельзя: специалисты предупредили, что гвозди, которые удерживают наращение Муавии, глубоко вошли в дерево кафедры Пророка, и если Махди попытается вынуть их, он может разрушить то, что намеревается реставрировать. Проявив мудрость, халиф оставил свое намерение.
Он предпринял ряд шагов на удовлетворение более земных нужд людей святых городов: 300 000 золотых динаров было привезено из Египта и еще 200 000 из Йемена, эти деньги были распределены среди жителей. Как всегда у Аббасидов, вместе с деньгами поступило и огромное количество халатов, так как текстильная дипломатия являлась важным аспектом политики.
Махди добился любви подданных, и молодой Гарун должен был оказаться в лучах славы отца. И это сработало: когда другой член семьи Пророка в 785 году попытался поднять народ святых городов против Аббасидов, большинство населения решительно отказалось присоединиться к нему.
Вскоре после этой поездки образование Гаруна было доверено человеку, который в дальнейшем имел сильное влияние на Гаруна в течение всей его жизни. Яхья ибн Халид ибн Бармак был к этому времени старшим чиновником и близким другом царской семьи. Он стал воспитателем Гаруна и его главным политическим советником, направляя ученика при освоении административных и военных вопросов. Но он стал больше, чем учителем: после смерти Махди Гарун считал его своим отцом, и Яхья действительности оказывал ему моральную поддержку, постоянно ободряя и подбадривая, в чем Гарун необычайно сильно нуждался.
Однако эти отношения являлись улицей с двусторонним движением — потому что выдержанный и утонченный персидский чиновник и вес члены его семьи выпавшей им удачей были привязаны к карьере молодого ученика. Для них был жизненно необходим успех Гаруна. Они так много вкладывали в его успех, что Яхья не мог позволить себе уйти в безвестность, даже если бы захотел. Ставки его и его семьи в этой игре были чрезвычайно высоки.
Как и у молодых членов британской королевской семьи, следующим шагом в образовании Гаруна стало военное дело — с той лишь разницей, что как только Гарун получил статус наследника, он немедленно был назначен лично командовать армией.
Весной 780 года ему поручили вести армию против Византии
{129}. Эта война с византийцами не была обычной кампанией. Греки являлись давними противниками арабов, и война против них превратилась в классический
джихад — борьбу ислама против своего самого упорного врага. Сам Мухаммед посылал экспедиции против Византии, и руководство в этих кампаниях, как и руководство в хадже, было одним из знаков верховной власти. Так же, как хадж в Мекку и Медину продемонстрировал мусульманам лидерство Мансура, так и отправка сына против византийцев должна была показать, что правящая династия возглавляет
джихад. Поход давал молодому Гаруну опыт в военных делах — и, что так же важно, позволял ему выстроить систему поддержки среди военных.
В ранний период правления Аббасидов кампании против греков проводились почти ежегодно и стали чуть ли не обязательным ритуалом. Армии мусульман базировались на равнинные города к югу от гор Тавра — Таре и Массиссу в Киликии, Хадат и Малатью дальше на востоке. Здесь, в теплых низинах, армии мусульман зимовали вдали от суровых и снежных зим Анатолийского плато. Весной, когда свежая трава подкармливала лошадей, войска приводились в движение. Согласно одному мусульманскому источнику они продвигались вверх, в горы, вслед за весной. Там они встречались с упрямыми защитниками склонов и глубоких долин Тавра.
Византийцы говорили по-гречески, но их образ жизни имел мало общего с рафинированной жизнью древних Афин или позднего античного Константинополя. Это был жесткий народ гор, который более походил на клефтов восемнадцатого и девятнадцатого столетий — несгибаемых греческих разбойников с труднодоступных гор Тайгета, бросивших вызов османскому правлению. Анатолийские греки жили в деревнях, их неприступные крепости высились на вершинах Тавра, а иногда располагались в огромных комплексах из пещер и туннелей — такие пещерные города все еще можно увидеть в районе Деринкую и Каймаклы, в Каппадокии. Именно эти люди построили и украсили многочисленные маленькие церквушки и монастыри, которые ныне так привлекают туристов.
Большинство военных походов мусульман в эту область были сравнительно мелкомасштабными, и проводили их местные командиры. Местность тут была суровой, не прощающей ошибок, и арабы часто натыкались на яростное сопротивление местных жителей. Даже когда они разбивали вражеский гарнизон, очень мало чем можно было поживиться в этом бедном горном районе; если же мусульмане углублялись слишком далеко, подходя к цветущим областям у Эгейского или Мраморного моря, они рисковали встретиться со всем войском Византийской империи. Поэтому в основном мусульмане довольствовались набегами на гористую местность в летнее время и тщательно следили, чтобы успеть вернуться на свои базы до наступления зимы. Но поход, который возглавлял сын халифа, был гораздо более серьезным делом.
Когда в середине марта подошло время отправляться в поход, Махди оставил юного принца Хади распоряжаться в Багдаде, а сам отправился с Гаруном через Сирию к границе. Перед тем, как оставить Багдад, он вызвал Яхью ибн Халида и сказал, что тот назначается следить за администрацией и финансами армии Гаруна. Кроме того, с армией отправлялся опытный управляющий Раби, который так хорошо служил Мансуру. Участвуя в этой кампании вместе, Раби и Яхья близко сошлись, одинаково понимая государственные задачи, что оказалось очень важно в будущем
{130}.
На войну были также посланы и другие важные приближенные семьи Аббасидов; некоторые из них вовсе не выказывали молодому принцу знаков внимания, полагающихся ему как наследнику тропа, относясь к нему с удивительным неуважением. Наблюдая, как принц гарцует на лошади, принимая гордые позы, эти люди решили, что он послужит хорошей мишенью для издевок
{131}. Это было недопустимо для будущих служащих администрации Аббасидов.
В целом поход закончился пусть небольшим, но успехом. Армия дошла до приграничной крепости Самалу, вокруг нее были установлены осадные машины. После тридцати восьми дней осады и значительного количества потерь со стороны мусульман гарнизон пошел на переговоры. Защитники согласились сдать замок на условиях, что им сохранят жизнь и их не разделят. Их так и доставили в Багдад целой группой, а там они основали чуть восточнее Багдада маленькую христианскую общину вокруг церкви, которая стала известна как Дайр ар-Рум, Греческий монастырь. Эта церковь так и оставалась центром христианства в Багдаде вплоть до монгольского нашествия в 1258 году. Достижения были скромными, а крепость вскоре опять вернулась под власть Византии — но поход можно было объявить победой, а молодой принц все же приобрел некоторый военный опыт.
Должно быть, халиф уверился, что его план оказался удачным, нагому что двумя годами позже, в 782 году, Гарун снова был назначен возглавлять поход
{132} — на этот раз и более крупный, и более претенциозный. Чтобы добиться успеха рискованного предприятия, не пожалели никаких расходов. Почти 200 000 золотых динаров и 21 миллион серебряных дирхемов было выделено на жалование и поставки. Поход запланировали многолюдным — говорят, в нем участвовало более 100 000 солдат; планировалось пройти вглубь Византии гораздо дальше, чем при обычном ежегодном рейде.
Согласно арабским источникам, кампания оказалась успешной. Один из придворных поэтов написал стихи, в которых достаточно вольно излагалось, как Гарун окружил греков в Константинополе «пронзающими копьями, пока стены не оделись позором, и не вышли его принцы, предлагая дань»
{133}. Византийская армия действительно была разбита, и войско мусульман вышло к Босфору. Императрица Ирина была вынуждена запросить мира. Был заключен трехгодичный договор, и Ирина согласилась платить ежегодную дань в размере 70 000—90 000 динаров — которая, конечно, и близко не покрывала денег, вложенных халифом в эту экспедицию. Она также согласилась сделать рынки доступными для мусульман, возвращающихся домой. Это указывает на действительную слабость позиции арабов: вторгнешься с малой армией — можешь потерпеть поражение; вторгнешься с большой — войско окажется не в состоянии прокормить себя в пустынных степях центральной Анатолии.
Гаруну повезло вернуться живым самому и вывести свою армию без больших потерь. Дома вся экспедиция была представлена как победа — было сообщено, что византийцы понесли необычайно большие потери, захвачено пять тысяч пленных и двадцать тысяч лошадей. Добыча была столь велика, что животных, кольчуги и мечи продавали в лагере по необычайно низким ценам. С другой стороны, никаких значимых твердынь взято не было, никакие земли не были присоединены к территории халифата. Арабские сообщения демонстрируют усилия придать положительную оценку походу, успех которого был весьма сомнительным.
Похоже, что именно после этой кампании Махди собрал клятвы верности Гаруну как безоговорочному наследнику после его брата Хади. В это же время принц получил имя Рашид
{134}. К концу правления отца Гарун был назначен наместником всего запада, от Анбара западнее Багдада и до Туниса, над которым халифы Аббасиды все еще сохраняли контроль. Он отвечал за управление этим огромным районом, хотя в действительности всю работу выполнял его наставник Яхья Бармакид
{135}.
При дворе неизбежно пошли различные слухи, но они привели лишь к тому, что Махди решил заменить Хади младшим братом
{136}, однако народу решение объявлено
не было.
Братья выросли совершенно разными людьми. Хади был высоким, белокожим и красивым человеком за исключением одного — у него была заячья губа, а это означало, что его рот часто был открыт. Когда он был маленьким, его иногда дразнили «Муса-Закрой-Рот»
{137}, и юноша, должно быть, мучился этим унижением. Во всем остальном он был сильным, энергичным и тренированным человеком: когда Хади услышал о смерти отца, то за двадцать дней проделал путь до Багдада от Джурджана возле юго-восточного берега Каспийского моря, где он возглавлял войска
{138}. Похоже, он пользовался популярностью среди военных, но имел мало времени для интеллектуальных занятий. К тому же у него был вздорный нрав, и его непредсказуемые взрывы гнева были источником постоянного напряжения для придворных. Его отношение к младшему брату то и дело металось от демонстративного обожания и уважения до дикой ненависти.
Если мы можем в чем-то быть безоговорочно уверены относительно Гаруна, так это в том, что мать его обожала. Мы не знаем, почему так получилось — может быть, из-за красивой внешности, спокойного характера и застенчивости, тем более по контрасту с грубостью брата. Заявление Гаруна о том, что он скорее предпочтет вести частную жизнь с женой Зубейдой, нежели страдать
от напряжения и тревог в статусе
наследника Хади, согласуется с другими имеющимися у нас свидетельствами о его характере. Образ ребячливого принца, над которым смеялись, когда он изображал из себя солдата, подтверждают и другие свидетельства. Придворный врач Джибрил ибн Бухтишу однажды заметил, что Гарун был самым застенчивым из всех халифов, каких он знал — он избегал смотреть человеку в глаза, что говорило об отсутствии уверенности в себе
{139}. Его правление как халифа отмечено растущей изоляцией жизни двора от общества. Нет свидетельств того, что он проповедовал народу в мечети Багдада, а все свидетельства о его отношении к религии показывают человека, скорее склонного к молитве в одиночестве в дворцовой молельне в темный час перед рассветом. Может быть, именно из-за глубоко сидящего в нем чувства неуверенности в связи с вечной опорой на Бармакидов и последовало такое резкое и жестокое их уничтожение.
Эти два таких разных человека и стали главными героями драматических событий, разыгравшихся в Багдаде между смертью Махди в апреле 785 года и смертью Хади в сентябре 786 года. То были тринадцать месяцев интриг и драм в замкнутом мирке двора Аббасидов.
Обстоятельства смерти Махди сами по себе были достаточно драматическими. Он умер еще совсем молодым, будучи крепким и здоровым человеком. Как всегда, нам даются две абсолютно разные версии случившегося. Согласно одной истории
{140} халиф был на охоте возле Масабадана, маленького городка, лежащего на краю иракской равнины у подножия гор Загрос. Стоял август, и он мог уехать сюда просто для того, чтобы спрятаться от страшной летней жары Багдада. Его слуга Вадих рассказал, что находился при халифе до вечерней молитвы, после которой слуга отправился в основной лагерь. На следующее утро он встал рано, чтобы ехать зуда, где в пустыне оставался Махди. Он успел достаточно удалиться от лагеря, когда вдруг встретил «голого и черного» человека, который приветствовал его традиционными словами соболезнования: «Да одарит тебя Господь большой наградой за твоего хозяина, повелителя правоверных». Вадих хотел ударить его, потому что пророчество смерти правителя было равносильно измене, но призрак исчез. Когда он приехал к лагерю Махди, его приветствовал черный евнух Масрур — точно теми же самыми словами, какие изрекло привидение. Пораженный, Вадих вошел в палатку и увидел завернутый в саван труп.
— Но когда я покидал его после дневной молитвы, он был счастлив и абсолютно здоров! Что случилось?
— Собаки подняли газель, и господин поскакал за ними, — объяснил Масрур. — Потом газель вскочила в дверь разбитого дома. Собаки бросились за ней, а лошадь понеслась за собаками. Он ударился головой о косяк двери и умер на месте.
По мусульманским обычаям трупы должны быть закопаны в самый день смерти. В том удаленном месте не было похоронных дрог; на которых можно было везти погибшего, поэтому Махди положили на дверь и закопали под ореховым деревом — там, где он обычно сидел. Его сын Гарун произнес над ним похоронные молитвы. Вот такова случайная смерть и скромный погребальный обряд третьего монарха династии Аббасидов. Когда выдающийся арабский географ Якут составлял свой словарь географических названий начала тринадцатого века, более четырех веков спустя гробница халифа все еще находилась в маленькой деревушке — там, где он нашел свой покой.
Вторая версия этого события излагается в духе «гаремных интриг», она объясняет событие совсем по-иному, и относиться к ней нужно с некоторой долей скептицизма, какого заслуживают все подобные истории. Мы снова переносимся в Масабадан — но на этот раз во дворец. Халиф сидит в верхней комнате и смотрит в окно. А в гареме Махди рабыня по имени Хасана изнывает от ревности и ненависти к сопернице, которую подозревает в том, что та добивается внимания хозяина. Чтобы избавиться от псе, рабыня положила на блюдо две необычайно красивые груши. В одну из них она ввела яд и сделала так, что груша после этого выглядела абсолютно нормальной. Естественно, что девушка, которой было приказано отнести груши назначенной жертве, проходила под окном, где сидел халиф. Махди увидел ее, подозвал и потянулся, чтобы взять с блюда отравленную грушу. Как только он се съел, то ощутил сильнейшую боль в желудке и в тот же день умер. «Я желала тебя, — плакала несчастная Хасана, — а получилось, мой властелин, что я убила тебя».
Эти истории, конечно, полностью противоречат друг другу, но они показывают два абсолютно различных взгляда на политические события того периода: это контраст между теорией несчастного случая или случайной оплошности — и теорией заговора, где все должно было иметь скрытое значение и цель, а внешнее, общепринятое объяснение событий может не иметь ничего общего с правдой.
Неожиданная смерть халифа незамедлительно вызвала кризис. Споров по поводу законного нового халифа не было, им являлся Хади — но он находился в далеком Джурджане. При дворе в Масабадане и в Багдаде поднялась паника. Когда новость о смерти халифа доходила до народа, всегда возникали проблемы, так как войска начинали бунтовать, требуя особой оплаты. Как и преторианская стража римских императоров, они считали вступление на престол нового правителя поводом к обогащению и не позволяли такой возможности проскочить мимо.
Проблема обострилась из-за того, что Хади был любимцем военных, а на Гаруна и его советников смотрели с некоторым подозрением. Но новый правитель был за сотни миль, и официальные лица при дворе боялись принять решение, которому вспыльчивый Хади мог бы воспротивиться по возвращении.
Немедленной реакцией свиты Махди стала тревога за безопасность Гаруна: они предупредили его, что он не будет в безопасности, когда солдаты в Масабадане узнают, что Махди мертв, и посоветовали ему хранить в секрете весть о смерти отца до возвращения в Багдад, причем забрать тело для захоронения с собой. Когда он вернется в Багдад и все необходимые приготовления будут сделаны, можно будет сообщить новость народу.
Конечно же, Гарун обратился за советом к Яхье Бармакиду. Яхья возразил, что смерть не удастся сохранить в секрете, и когда войска обнаружат, что сопровождают тело халифа, они потребуют выплаты за три года или даже больше, прежде чем позволят захоронить тело. Можно заметить, как свита Аббасидов боится армии — которая, по идее, предназначена для ее поддержки и защиты. Страх этот много раз аукнется при последующих военных режимах.
Яхья продолжал доказывать, что они должны тайно захоронить халифа («Да будет господь милостив к нему!») прямо здесь, чтобы не было проявлено никакого неуважения. Им следует успокоить Хади, послав начальника разведки прямо в Джурджан с кольцом-печаткой халифа и жезлом Пророка. Потом нужно выплатить каждому солдату по 300 дирхемов и сказать, что они могут быть свободны. «Если у них в руках окажется по 300 дирхемов, — доказывал он, — они будут думать только о семьях и о доме, и постараются вернуться в Багдад». Так оно и оказалось: солдаты, без сомнения, обрадованные неожиданно привалившим богатством, оставили лагерь и устремились назад в столицу
{141}.
Но проблема была лишь отсрочена. Когда войска узнали, что их обманули, вспыхнул бунт. Дом Раби, который оставался управлять в Багдаде, подвергся нападению и частично был сожжен. Именно в этот момент Хайзуран, мать нового халифа Хади и Гаруна, стоящая теперь прямо рядом с троном, взяла бразды правления в свои руки, потребовав, чтобы Яхья Бармакил и Раби помогли ем. Деньги были найдены, войска получили двухгодичную оплату, и кризис оказался предотвращен.
Когда новый халиф прибыл в Багдад, в городе царил мир, но политическая атмосфера была напряженной. Проведя двадцать четыре часа отдыха с любимой рабыней, которую не видел с тех пор, как ушел в поход, Хади принялся за формирование нового правительства. Яхье Бармакиду позволили оставаться управляющим делами Гаруна, а новым главой армии и командиром стражи стал молодой человек — Али ибн Иса ибн Махан, которому пришлось сыграть ключевую роль в трагедии, развернувшейся через четверть века после смерти Гаруна.
Хади имел сильные подозрения по поводу роли Раби при наследовании, обвиняя его в том, что тот забрал все дело в свои руки. Раби весьма опасался за свою жизнь; он составил завещание и доверил его старому другу Яхье Бармакиду. В конце концов их помирили с халифом, но Раби, так долго и преданно служивший и Мансуру, и Махди, вскоре умер своей смертью
{142}. Его статус во многом унаследовал его сын Фадл, которому, как и Али ибн Исе ибн Махану, пришлось играть одну из ключевых ролей в политике времен правления Гаруна — и в трагедии, которая последовала за ним.
Хади расположился во дворце, который построил его отец в Исабадхе, в восточной части Багдада, а его брат Гарун с домочадцами занял Дворец Вечности, который Мансур построил между Круглым Городом и рекой
{143}. То, что происходило в течение следующих тринадцати месяцев, стало предметом слухов и сплетен уже в те времена — и оставалось таковым много позже. Факты говорят, что Хади метался между твердым желанием уважать волю отца и обращаться с Гаруном на людях как с наследником, и страстным желанием удалить его от наследования. Он стоял перед ясной дилеммой.
С одной стороны, у него был сын Джафар, которого он хотел сделать халифом после себя. Это не было просто следствием родительского обожания или гордости — многие в армии хотели сохранить наследование для Джафара просто потому, что не верили Гаруну и его кругу. Для них было важно, чтобы халифом оставался Хади; а если он умрет (ведь здоровые молодые люди часто умирали в расцвете лет), тогда пусть ему наследует тот, кто продолжит его политическую линию. Еще более соблазнительней эту идею делало то, что всем казалось, будто брат Хади вовсе не зарится на корону. Ведь Гарун неоднократно намекал, что намерен вести личную жизнь со своей новой невестой, принцессой Зубейдой
{144}.
Все эти соблазняющие голоса — и его собственное сердце, и подначки сторонников — толкали Хади к смещению брата и назначению наследником собственного сына.
Но сделать это было совсем не просто. Гарун имел много могущественных сторонников — в первую очередь клан Бармакидов. Он мог устраниться для личной жизни, но Бармакиды сильно зависели от будущего молодого принца и не желали видеть его в стороне, уступившим без борьбы. Кроме того, как подсказывали Бармакиды (и не только они), разрыв клятвы верности не был чем-то таким, от чего можно было легко отмахнуться. Если клятва Гаруну объявлялась нулем и пустышкой, то что же тогда значила клятва Джафару?
{145} Кроме того, Джафар тогда был всего лишь маленьким мальчиком, и принесение клятвы верности ребенку у многих вызывало недовольство.
Но самое большое сопротивление планам Хади было оказано со стороны его матери. Теперь невозможно сказать, почему отношения между халифом и матерью оказались столь плохими. Конечно, Хади сопротивлялся тому, что чиновники продолжали посещать его мать, прося ее помощи в разных делах: «Что за порядки, когда женщина обсуждает мужские дела?» — возмущался он перед ведущими чиновниками, а потом спросил их, что бы они чувствовали, если бы таким образом советовались с их матерями
{146}. После таких не слишком тонких намеков придворные перестали обращаться к Хайзуран; она осталась в одиночестве, изолированная и лишенная влияния.
Когда весна 786 года перешла в лето и Багдад изнемогал под жгучим солнцем, политическая температура стала почти непереносимой; город захлестнули слухи о противостоянии между братьями. Чтобы избежать удушающего давления, Гарун покинул Багдад, отправившись на охоту в пустыню, в местечко под названием Каср Мукагиль. Он оставался там в безопасности в течение сорока дней, но Хади использовал это отсутствие, чтобы настраивать мнение двора против брата, и Гаруну пришлось вернуться. Наконец в середине сентября разразилась буря: молодой халиф оказался мертв, его короткое правление закончилось. Некоторые говорили, что он умер от естественной причины и некоторое время уже был нездоров. Но ходила также история о том, что его смерть была гораздо более зловещей. Его собственная мать, шептались люди, приказала одной из своих рабынь, которая имела интимный доступ к халифу, положить ему на лицо подушку и сидеть на ней, пока он не задохнется
{147}.
Какова бы ни была причина смерти халифа, Хайзуран находилась в гаком положении, что могла узнать о ней раньше многих. Она тотчас же вызвала Яхью Бармакида и других союзников — всех, кто быстро передвигался. В ночь смерти халифа мужчины арестовали юного Джафара. Голый Гарун крепко спал под стеганым одеялом, когда Яхья Бармакид вошел к нему, разбудил испуганного принца и приветствовал его как халифа.
Первой реакцией Гаруна была паника; он боялся обмана, который отдал бы его на милость братца, но его понемногу убедили
{148}. Когда разгорелась заря следующего дня, все встало на места: Гарун рано поднялся, оделся и пошел к Исабадху, где жил его брат; он привел молящихся к его мертвому телу, как привел их к трупу отца чуть больше года назад.
Теперь Гаруна повсеместно признавали как халифа. Быстрый ночной поворот ошарашил его противников, и у них не оказалось времени отреагировать. Во время вступления во власть новому халифу был примерно двадцать один год. Он был хорошо обучен военкому делу и управлению, но похоже, что это не придало ему самоуверенности и умения судить о других — то есть того, что необходимо любому правителю.
От момента своего драматического вступления на трон в сентябре 786 года и до паления Бармакидов в начале 803 года молодой халиф наслаждался относительным миром и процветанием в стране. Одним из показателей отсутствия происшествий в течение этих лет является то, что пространная хроника Табари, которая остается главным отражением событий того периода, чрезвычайно кратка при описании правления Гаруна: несколько лет умещаются всего в несколько строк
{149}, в то время как кризисным годам автор может посвятить более сотни страниц.
Это был также и золотой век Бармакидов. Конечно, старый и опытный Яхья сыграл заметную роль в восшествии на престол Гаруна. Теперь молодой халиф полагался на его помощь при любом вызове, который бросало ему обладание властью. Табари описывает, что халиф назначил Яхью своим визирем
{150}, заявив: «Я хочу, чтобы ты управлял моим стадом. Переложи ношу с моих плеч на свои. Управляй им, как считаешь правильным; назначай, кого хочешь, и снимай, кого пожелаешь. Веди все дела, как находишь нужным». С этими словами Гарун отдал Яхье свое кольцо-печатку. Ибрахим аль-Мосули, начинающий придворный поэт, посчитал момент подходящим, чтобы почтить Яхью следующими строками:
Вижу в тебе солнце незаходяще,
Или то от Гаруна отраженный свет?
Гарун нам от Господа радость непреходящая,
Свежесть утра; Яхья — визирь, дающий совет.
Может быть, это и не великая поэзия, но стихи адекватно отражают положение вещей. До самой своей смерти тремя годами позже влиятельной персоной оставалась и Хайзуран: Яхья считался с матерью халифа и всегда поступал согласно ее советам. Существует несколько признаков того, что Яхья желал снять с плеч бремя власти; в начале 798 года он попросил разрешения уйти на покой и отправиться в Мекку. Это он смог осуществить, но на следующий гад опять вернулся в Багдад — возможно, потому, что почувствовал свою незаменимость
{151}.
Росла значимость молодого поколения Бармакидов — сыновей Яхьи Фадла и Джафара. Говорят, Фадл был почти что ровесником халифа и его молочным братом, но тесная личная дружба у Гаруна возникла с младшим, Джафаром.
Фадл проявлял себя как надежный и знающий помощник, безопасная пара рук. В 794 году он был назначен на важнейший государственный пост — наместником Хорасана. Он возвел там мечети и приграничные крепости, а также уговорил принца отдаленной горной страны Ушрусан принять сюзеренитет Аббасидов. Он также чеканил деньги; когда на следующий год он вернулся из провинции, то привез с собой мешки дирхемов, каждый мешок был аккуратно опечатан
{152}.
Видимо, Джафар был более обаятельным из двух братьев. Это его описывают как товарища Гаруна по приключениям новеллы о Гаруне из «Тысячи и одной ночи»; другие источники уточняют, что халиф установил с ним очень близкую, почти эротическую дружбу. Джафар также ловил свои мгновения успеха в провинции в 796 году, когда его послали подавить волнения в неспокойной Сирии
{153}.
Несмотря на выезды в отдаленные места, братья Бармакиды и их отец большую часть времени проводили при дворе. Они получили несколько официальных постов в администрации и иногда обменивались ими: так, например, хранение царской печати было передано от Джафара его отцу Яхье. Однако не официальные службы, которые они возглавляли, а их личный и легкий доступ к халифу делали их такими могущественными. Долгие вечера, которые Гарун с Джафаром проводили вместе, слушая певцов, обсуждая поэзию, наслаждаясь самой лучшей пищей и вином, означали, что Бармакиды могут влиять на политику и оказывать одолжения как никто другой.
Бармакиды имели талант к политике и к демонстрации своих достижений. У Хорасана за время правления Гаруна сменилось много правителей, но большинство из них оставались всего лишь именами; лишь Фадл Бармакнд заслужил упоминания в хрониках, и только его восхвалял в длинных и высокопарных поэмах ведущий поэт того времени Мерван ибн Аби Хавса:
Мягок он со всеми, кто верен халифу,
Но поит кровью восставших свои мечи.
Превращает ханжество в древние мифы,
Правоверным славою сердца горячит
{154}.
И еще много-много в таком же духе.
Наше мнение о деятельности Джафара в Сирии составлено по нескольким строкам из длинной поэмы об усмирении им восставших, превозносящей его доблесть и рассказывающей об удаче сирийцев, которые получили правителем именно его — а также из двух версий обдуманной и весьма обтекаемой речи, которую он произнес перед халифом по возвращении. В словах, настолько елейных и льстивых, что заставляли ежиться даже современников, он разглагольствовал о своей благодарности халифу, который более щедр к нему, чем любой ровня, который сделал Джафара «одним из заметных людей своего времени» и чья новая милость «затмевает все, что было сделано до того»
{155}.
Расточительные комплименты, конечно, привлекали новую монаршую милость. И конечно, деньги тоже помогали этому. Когда Фадл вернулся из Хорасана, он, без сомнения, в подробностях рассказал халифу о своих достижениях; кроме того, он очень внимательно следил, чтобы одарить щедрыми подарками всех членов семьи Аббасидов, ведущих военачальников и чиновников. Миллион дирхемов тут, полмиллиона там
{156}. Репутация щедрого человека должна была поддерживаться постоянно.
Расточительность и шумная реклама, которой они окружили себя, не мешает оценить истинные достижения семьи Бармакидов. Нет сомнений, что именно они развили и модернизировали систему государственной администрации: рассказывают, что после их падения почта громоздилась не вскрытой в мешках. Они обеспечили ведущее положение и влияние многим поколениям секретарей, которые так много внесли в культуру Аббасидов в следующем веке. Их салоны стали местом встреч, на которых свободно можно было обсуждать различные идеи — что было недопустимо в более тесном круге самого халифа.
Пока Бармакиды эффективно занимались бюрократической деятельностью, Гарун выполнял формальные и церемониальные функции. Летом после восшествия на престол он при первой же возможности отправился в паломничество в Мекку, раздав жителям двух святых городов огромные суммы, как это делал его отец. Он ходил в паломничество еще семь раз — в 790
{157}, 791
{158}, 794
{159}, 796
{160}, 798
{161}, 802
{162}, и 804
{163}, годах. Ни один другой халиф из династии Омейядов или Аббасидов даже не приближался к этому рекорду из восьми паломничеств (или девяти, если считать то, которое он совершил с отцом еще в 777 году), что показывает значение, которое Гарун придавал этой своей роли — особенно если учесть, что каждый поход отбирал дна месяца и даже для халифа сопровождался дискомфортом долгого путешествия по пустыне из Ирака. Его жена Зубсйда также ходила в паломничества и растратила значительную часть своего огромного состояния на благотворительные пожертвования, чтобы уменьшить трудности, переносимые более бедными паломниками.
Ведение священной войны — еще один признак лидерства в мусульманском сообществе — тоже осуществлялось с максимальной энергией. Гарун имел значительный военный опыт, приобретенный в кампаниях против Византии, в походах, которые он возглавлял еще при отце. Одним из первых шагов, который он совершил после воцарения, была реформа административной системы приграничных провинций, позволяющая собирать в них больше ресурсов для
джихада{164}. В 797 году Гарун отправился походом в горы Тавра и захватил там маленькую крепость — в первый и единственный раз халиф за одни год лично возглавлял и
джихад, и хадж (это был 181 год мусульманской эры)
{165}. Походы на византийскую территорию совершались фактически каждый год, часто ими руководили члены семьи Аббасидов, а с 806 года
{166} Гарун сам возглавил ряд крупных ударов в сердце старинного врага.
Большую часть своего значительного досуга Гарун тратил на поиски новых мест для проживания. Любопытно, что халиф, чье имя неизменно ассоциируется с Багдадом и чьи легендарные подвиги совершались в этом городе, похоже, не особенно любил его. Он называл его парилкой (бухар)
{167} и не выносил его именно за эту жару. Он искал место, где было больше возможностей для охоты в ближайших окрестностях. Кроме того, это был город его отца и деда — вероятно, Гарун хотел найти новое место, чтобы выразить собственную индивидуальность.
Сначала он искал удобное место в более высоких и прохладных землях у подножия Загроса. В 788–789 годах он выбрал местечко под названием «Луг у крепости»
(Мардж аль-Кал'а) и решил строить дворец тут, но заболел и оставил эту затею
{168}. Двумя годами позже он нашел место на берегу Тигра возле Базабды и Бакирды, где и построил дворец. Анонимный поэт написал сомнительные вирши на празднование, которые интересны в свете того, что характеризуют мотивы халифа:
В Бакирде, в Базабде — наслаждение, Сладко там поют фонтаны новые. А Багдад, Что Багдад? Пыль дерьмовая, И жара сушит даже терпение
{169}.
Однако похоже, что, несмотря на сладкие и прохладные фонтаны, халиф очень быстро забросил это место. Насколько мы знаем, он никогда больше не посещал его снова.
В 796 году он сделал еще одну, более серьезную попытку найти место для повои резиденции. После возвращения из паломничества он поехал сначала в Басру, чтобы осмотреть новый большой оросительный канал, построенный Яхьей Бармакидом. После этого направился в Хиру, город южнее Куфы, которая была столицей арабской династии Лахмидов, процветавшей до прихода ислама. Место это много раз прославлялось в арабской истории, а легендарный мифический замок Хваранак был притчей во языцех за его богатство и роскошь. Гарун начал строительство здесь и раздал земли членам своей свиты, чтобы они могли тоже могли построить себе дома. Но этот проект также просуществовал недолго. Гарун нашел, что очарование древности портится близостью к надоедливому населению Куфы, и опять двинулся на поиски
{170}.
Наконец он остановился на городе Ракка на берегу Евфрата, ныне находящемся в Сирии. Ракка была римским селением и в те времена называлась Каллиникум. Дед Гаруна, Мансур, основал новое поселение вне древних городских стен, которое он назвал Рафика, то есть спутник, напарник. Ко времени Гаруна два поселения слились в одно целое, и Рафика стала центром города, известного уже под старым названием Ракка.
Посещая Ракку, ныне трудно понять, почему Гарун предпочел ее всем другим возможным местам резиденции. Частично восстановленные стены города Мансура окружают много пыльных и ничем не примечательных зданий современного города. Новые кварталы бетонных домов разбежались за пределы стен во всех направлениях. Едва ли вам удастся встретить здесь зелень, зато раскаленные ветры сирийских степей дуют тут постоянно. Южнее старого города течет быстрый и мутный Евфрат. В наше время его не используют для судоходства — в реке слишком много банок и песчаных отмелей. Но во времена Аббасидов люди, включая халифов, ходили на баржах от Ракки до Багдада, поэтому связь между городами была хорошей.
Этому можно удивляться, но Гарун решил строить дворец не у берега, где имелся легкий доступ к воде и где был шанс поймать прохладный бриз
с реки, а севернее старого города. Тут до самого горизонта раскинулись плоские земли Джазиры. На короткое время они становились зелеными лишь весной, когда появлялась трава — но летом превращались в раскаленную и бесплодную пустыню. Тут было много места, и Гарун строил свои дворцы, раскидав их по равнине. За последние годы фотосъемки и раскопки восстановили планы многих зданий, но мало какие из этих строений уцелели, даже фундаменты их часто перекрыты новой застройкой
{171}.
Может быть, место поправилось Гаруну потому, что становилось полезным базовым пунктом по пути к границам Византин. На равнине позади дворца была хорошая охота. Именно здесь в 798 голу халиф принимал клятву верности своего сына Мамуна
{172}. Мы выяснили, что двумя годами позже, в 800 году, он сплавлялся по Евфрату из Ракки в Багдад на корабле
{173}. Когда поздней осенью 802 года Гарун отправился в свое роковое паломничество, то оставил домашних
(хурал) и сокровища в Ракке под присмотром начальника стражи
{174}: этот город уже стал его домом.
Когда в 802 году Гарун покинул Ракку, чтобы отправиться в хадж, он собирался сделать гораздо большее, чем просто возглавить важный мусульманский ритуал. Достигнув возраста примерно 35–36 лет, он решил, что пора начать приготовления по передаче власти. Он еще был сравнительно не старым и достаточно здоровым человеком но в те времена смерть часто приходила внезапно, без предупреждения. Если халиф умирал, не оставив признанного по правилам наследника, риску подвергалось будущее всей династии. Идея первородства, которая к двенадцатому веку стала нормой регулирования наследования для правителей Западной Европы, никогда широко не применялась в исламском мире. Первородство имело много неудобств: оно могло привести к коронации очень молодого или полностью неадекватного человека, а также оставляло в стороне более молодых братьев — не обеспеченными и потенциально недовольными. Зато оно все-таки помогало предотвратить взаимные отталкивания и неистовство интриг соперников, что было характерно для многих исламских монархий.
В обществе с многоженством правитель мог иметь множество сыновей от различных женщин, и любой из них имел возможность претендовать на наследование трона. На практике выбор происходил лишь из нескольких, в основном самых старших сыновей, или же выбирались сыновья от любимых женщин. Каждый из них привлекал к себе сторонников — так же, как Гарун приобрел поддержку Бармакидов. Каждая группировка твердо отстаивала право на наследование именно их кандидатуры, и соперничество за это право становились главной темой политических дебатов в халифате.
В 791–792 годах, через пять лет после вступления на престол, Гарун заставил мусульман дать клятву верности своему пятилетпему сыну Мухаммеду, которому было присвоено титульное имя Амин. Источники рассказывают, что ряд членов семьи «тянули шеи в сторону Гаруна по поводу права наследования, пока наследник еще не был назван». Мухаммед был не просто сыном Гаруна: его матерью была Зубейда, принцесса из рода Аббасидов, и внутри правящей семьи звучали громкие голоса, торопившие назначение наследника.
Согласно самому подробному рассказу
{175}, дядя Зубейды уговорил Фадла Бармакнда взять на себя инициативу в этом вопросе, потому что Мухаммед «почти что ваш собственный сын, и назначение его наследником в ваших же интересах». Фадл понимал, что только наследование одним из сыновей Гаруна может обезопасить положение Бармакидов в будущем; и когда его назначили управлять Хорасаном, он взял дело в свои руки. Фадл раздал в армии большие суммы денег и тем самым убедил военных дать клятву верности маленькому принцу. То, что началось в провинции, было подхвачено в столице, а затем в остальной империи. Не все, конечно же, были довольны; старшие члены семьи Аббасидов возмущались, будучи обязанными приносить клятву верности маленькому мальчику, вдобавок являвшемуся протеже Бармакидов.
В 798 году Гарун настоял, чтобы клятву верности принесли и другому его сыну, Абд Аллаху, названному Мамуном, назначив его наследником Амина. Сначала клятву приносили в Ракке, а затем юного принца отослали в Багдад со старшими членами семьи Аббасидов, чтобы ему смогли присягнуть в столице. Его отдали под опеку Джафару Бармакиду, и малыш получил формальную власть над Хорасаном — от Хамадана до самой восточной границы империи
{176}.
Гарун должен был хорошо помнить собственный жалкий жребий — быть бесспорным наследником столь же бесспорного наследника, поэтому кажется не слишком умным с его стороны повторять такую же ситуацию для собственных детей. Должно быть, на это у него были веские причины. Амин был мал, по не существовало гарантий, что он доживет до совершеннолетия; вероятно, халиф хотел назначить не только наследника, но и его «запасного».
Матерью Мамуна, о которой мы знаем очень мало, вероятно, была дочь персидского вельможи из Хорасана, который поднялся против Аббасидов и был в результате убит. Известно только, что се семья имела среди хорасанской аристократии могущественных друзей, и они убедили Бармакидов, которые тоже были персидскими вельможами, устроить это дело.
Халиф слишком хорошо знал о проблемах, которые могут возникнуть в результате подобных договоренностей, и чтобы обойти их, он решил установить правильные отношения между братьями, которые помогали бы прояснять спорные вопросы и предотвращали любое недопонимание в будущем.
Паломничество 802 года состоялось в декабре, когда атмосфера в святых городах была вполне переносимой — наверняка даже лучшей, чем удушающая жара того года, когда паломничество выпадало на середину лота. Гарун отправился из Ракки с обоими сыновьями, прошел западнее Багдада, не заходя в город, а затем двинулся обычным маршрутом через пустыню к Медине. Одной из целей было показать сыновей в святых городах — так, как его самого показывал отец.
Когда они прибыли в Медину, были созваны все жители: сначала те подходили к халифу, который вручал им пожертвование, а затем к каждому из сыновей, которые тоже давали им подарки. Затем эскорт халифа двинулся к Мекке, где церемония повторилась. Рассказывают, что таким образом было роздано полтора миллиона золотых динаров
{177}.
Затем подошла очередь выполнить истинную задачу экспедиции. Гарун составил два длинных и серьезных соглашения, по одному для каждого сына, в деталях устанавливающие их обязательства друг перед другом. Тексты обоих соглашений полностью сохранены в «Истории» Табари, и мы можем увидеть, как Гарун всеми силами пытался обойти возможные причины конфликтов. Амин становился халифом первым, поэтому более трудные обязательства возлагались на него. Мамун не только наследовал ему, даже если у Амина будут свои взрослые сыновья — младший брат сохранял почти полную автономию в управлении Хорасаном и востоком. Мамун должен был принимать участие во всех органах правительства и при взимании налогов, включая налоги с почтовых услуг, в управлении государственными текстильными фабриками и в руководстве вооруженными силами. Амин должен был позволять брату посещать все его поместья в любой части империи, не должен был переманивать его чиновников, если же любой из них оставил бы Мамуна ради Амина, его следовало вернуть. Наконец, Амин должен был знать, что если он нарушит любое из обязательств, халифат переходит к Мамуну немедленно и бесповоротно.
Документ, подписанный Мамуном, был много короче. Он обещал признавать своего брата халифом, не помогать врагам брата и посылать войска ему в помощь, если на Амина нападут. А в конце была приписка: он обязуется принять, что Амин может назначить любого, кого захочет, наследником Мамуна.
Документы были подписаны и засвидетельствованы присутствовавшими судьями. Тексты зачитали перед ведущими представителями государства и всеми паломниками, а затем положили в храме в Мекке на безопасное хранение.
Существовал еще и третий документ, изложенный таким же формальным и высокопарным языком, который разослали во все провинции, чтобы объяснить проделанное. В нем подчеркивалось, что назначение Амина и Мамуна наследниками — это воля Аллаха и часть его милости к мусульманам: «Господь пожелал, и никто не может отвергнуть это. Он сделал дело, и никто из Его слуг не может ни уменьшить, ни отменить, ни отвернуться от того, что Он желает или что произошло до того по Его осведомленности… Повеление Бога нельзя изменить, Его указ не может быть отвергнут, и Его решение не может быть отложено в сторону»
{178}.
Гарун постоянно подчеркивал, что так решил бог, и его сыновья составили свое соглашение по взаимному желанию и добровольно. Наконец он приказал, чтобы правители зачитали условия соглашения всем мусульманам в своих областях.
Вероятно, Гарун надеялся, что решил тяжелую проблему прав наследования. Казалось, документы предусмотрели все возможные случаи разногласий. Для поддержки соглашения привлекли авторитет самого Аллаха, его халифа и вес всего мусульманского общественного мнения. Была использована пышность высокопарной арабской риторики, чтобы сделать аргументы действенными и отвечающими всем возможным требованиям. Еще ни один халиф не предпринимал таких публичных и всеобъемлющих попыток отрегулировать процедуру наследования.
Но многие сомневались в эффективности содеянного. «Некоторые люди из простых, — замечает хроникер, — говорили, что «он очень хорошо устроил дела империи», в то время как другие отвечали «нет, он вызовет разлад между своими сыновьями, и последствий его поступка должны бояться сами сыновья»
{179}. У нас также есть анонимное стихотворение (критические стихи обычно были анонимными по совершенно очевидным причинам), где поэт выражает свою тревогу по поводу сделанного халифом:
Он пытался ссоры предотвратить,
Сделать так, чтоб любили друг друга
Сыновья его, когда подрастут…
Но смог лишь вражду глухую взрастить,
Ненависть злую — круг против круга,
Вспышки насилия — люди не врут…
Горе посеял Гарун меж детьми —
Заварил он, хлебать будут они.
Без сомнения, в дошедшем до нас виде эта поэма была написана много позднее и представляет собой взгляд в прошлое; но не нужно быть гениальным предсказателем, чтобы понять — неприятности назревали, невзирая на все усилия Гаруна.
Халиф со своим двором вернулся в Ирак в начале 803 года. Именно в этот период он совершил поступок, который в то время удивил почти всех и с тех пор остается постоянным предметом домыслов. Он приказал уничтожить Бармакидов: Яхью и его сына Фадла посадили под арест, а любимец халифа Джафар был срочно казнен посередине ночи, тело его разрезали на куски и раскидали по мостам Багдада, чтобы видел каждый проходящий. Их имущество было конфисковано, а их слуги арестованы.
Ряд участников драмы оставили документы — свидетельства из первых рук. Евнух Мансур, которого Гарун использовал для многих конфиденциальных миссий, рассказывает, как его послали посередине ночи найти Джафара и привезти халифу его голову
{180}. Он нашел Джафара сидящим с Джибрилом ибн Бухтишу, главным придворным врачом, и слепым певцом по имени Абу Заккар. Согласно рассказу Мансура, поэт только что закончил петь песню, в которой говорилось:
Никто не властен спастись от того, что будет:
Смерть и днем придет, и ночью охотно разбудит.
Мансур резко сообщил Джафару, что тот сейчас же обязан ответить халифу. Похоже, Джафар не сомневался, что это значит, и попросил разрешения сделать завещание и освободить рабов. Мансур, который хорошо знал Джафара и, вероятно, провел с ним много веселых вечеров, не мог отказать ему. Но посланцы от халифа все приходили, требуя поторопиться. Тем временем Джафар пытался уговорить Мансура или хотя бы потянуть время; «Он приказал тебе такое, потому что был пьян. Ничего не делай до утра или хотя бы обсуди дело с ним снова». Тогда Мансур вернулся к халифу, который уже был в постели, но последовал грубый и прямой ответ Гаруна: «Неси мне голову Джафара, сукин сын». Мансур вернулся к своей жертве, и опять Джафар уговорил его пойти с последней мольбой. На этот раз халиф был в ярости и накричал на Мансура, заявив, что найдет кого-нибудь другого, кто принесет ему сначала голову Мансура, а потом Джафара. Тогда Мансур пошел и выполнил ужасный приказ.
Еще более зловещий рассказ дает один придворный слуга-тюрк. Согласно его свидетельству, Гарун отправился вдвоем с Джафаром на охоту и выказывал ему всяческие знаки любви, даже положил его руку себе на плечи, чего раньше никогда не делал. Когда они доехали до места, где должны были остановиться, Гарун сказал, что если Джафар не собирается провести ночь со своей женщиной, то пусть не уходит от него. Пусть идет в его резиденцию, пьет, веселится и слушает музыку, чтобы они делали одно и то же. Джафар настаивал, что все это приятно ему, только если он будет веселиться вместе с халифом, но Гарун был настойчив. Даже после того, как они пожелали друг другу спокойной ночи, и каждый отправился в свой дворец, Гарун посылал несколько раз слуг с деликатесами, фимиамом и сладко пахнущими травами, пока наконец не отправил Мансура за его головой
{181}.
Тем временем Гарун отдавал приказы, подтверждающие целенаправленность его действий. Ни одна из намеченных жертв не должна была спастись. Синди ибн Шахик, военный из окружения Гаруна, происходивший из освобожденных рабов, сообщает следующее. Однажды он стоял на посту, когда к нему подошел слуга с пакетом. Он протянул Синди небольшое письмо, и когда тот сломал печать, то увидел, что письмо от Гаруна и написано халифом собственноручно: «Синди, если ты читаешь мое письмо сидя, то встань,
а если ты стоишь, то не садись, сначала явись ко мне».
Синди ибн Шахик нашел Гаруна в лодке на берегу Евфрата, возле Анбара, городка восточнее Багдада. Халифа сопровождали лишь Аббас, сын его управляющего, Фадла ибн Раби, и еще несколько слуг. Когда Синди подошел, халиф приказал слугам отойти, а Аббасу обойти лодку и привести в порядок занавеси, разбросанные вокруг. Теперь они остались вдвоем, и Гарун приказал Синди подойти ближе. «Я послал за тобой по такому секретному делу, что если о нем узнает моя рубашка, я тут же выброшу ее в Евфрат!» Затем Синди был отдан приказ: немедленно идти в Багдад, собрать надежных товарищей и поставить охрану у дверей всех резиденций Бармакидов, так чтобы никто не мог ни войти, ни выйти. «Бармакиды, — заверил его халиф, — в это время не будут передвигаться». Синди помчался в Багдад и сделал все так, как ему было приказано. Вскоре ему принесли голову Джафара с письмом от халифа, приказывающим разрезать тело и разложить на трех мостах столицы
{182}.
Общая канва
событий абсолютно ясна. Хотя многие детали и драматические повороты в этих описаниях могут быть продуктом позднейших переработок, нет сомнения, что Гарун действовал так быстро и тайно, чтобы разрушить мощь той самой семьи, которая столь много сделала для его восхождения на престол для успеха первых семнадцати лет его правления. Яхья и его сын Фадл были посажены под арест и никогда больше не обрели свободы, Джафара тайно казнили, и его труп выставили на самое страшное общественное поругание.
В чем мы не можем быть уверенными, так это в причине, по которой халиф поступил так, как поступил. Несколько современников оставили нам воспоминания, изложив свои соображения по поводу причин происшедшего. Врач Джибрил ибн Бухтишу, который хорошо знал всех участников драмы, указывает на постепенное охлаждение между Гаруном и Яхьей, когда Гарун начал взрослеть и сопротивляться зависимости от своего старого наставника. Может быть, Яхья слишком долго считал, что ничего не меняется. Джибрил вспоминал, как однажды Яхья пришел к халифу, не спросив формального разрешения войти. Гарун не скрыл раздражения: повернувшись к Джибрилу, он спросил его, могут ли люди прийти в его дом без разрешения. Когда Джибрил ответил, что нет, халиф раздраженно заметил: «Что же тогда происходит с нами, что люди входят без спроса?» Яхью ужаснула такая перемена отношения, и он попытался оправдаться. Он напомнил, что за долгое время привык приходить навестить халифа в самой неформальной обстановке, когда тот лежал голым в постели или был лишь в набедренной повязке. Он не осознал, продолжал Яхья, что та близость, которая когда-то нравилась халифу, теперь его так сильно раздражает. В будущем он всегда будет спрашивать разрешение и будет абсолютно удовлетворен положением более молодых придворных. В тот раз Гарун смутился из-за своего взрыва и извинился, сказав, что он только озабочен сплетнями, ходящими по этому поводу. Но Джибрил — да и Яхья, вероятно, тоже — понимали, что атмосфера изменилась
{183}.
При дворе на Яхью начали сыпаться мелкие оскорбления. Гарун приказал Мансуру, который распоряжался мальчиками-слугами, чтобы они больше не вставали, когда входит Яхья. Когда старший Бармакид это осознал, «лицо Яхьи стало пепельно-серым». Были и другие мелкие уколы: слуги и управляющие больше не смотрели ему в глаза, а если он хотел выпить воды, ему приходилось просить несколько раз
{184}. Говорят, что близость Джафара с халифом беспокоила Яхью, который боялся, что она может стать источником опасности, если что-то пойдет не так
{185}.
Существует два объяснения, которые идут немного дальше, чем простая мысль о росте личной антипатии. Одно из них касается отношений с семьей Али. В целом отношения между Аббасидами и Алидами в начале правления Гаруна были достаточно сердечными — похоже, что частично это происходило благодаря усилиям Бармакидов, которые поддерживали политику примирения. Однако один из Алидов, Яхья ибн Абд Аллах, занял потенциально опасную позицию. Он бежал из Медины в дикие горы на юго-западном берегу Каспийского моря, где его приютили местные дайламиты, люди, которые жили вне досягаемости для правительства Аббасидов. Этот человек представлял безусловную угрозу правлению Аббасидов — особенно потому, что дайламиты были воинственным народом, который мог перерезать великий хорасанский путь там, где он проходил вдоль южного края гор Эльбурс. И конечно, любой член дома Али мог воспользоваться гораздо более широкой поддержкой во всем мусульманском мире.
Когда Гарун в 792 году назначил Фадла ибн Яхью Бармакида правителем Хорасана, частью его поручения было наладить связь с Яхьей ибн Абд Аллахом. Бармакидов обычно использовали для проведения примиренческой линии с Алидами, и Фадл начал переписку с Яхьей, пытаясь уговорить того уступить. Он также послал миллион дирхемов местному правителю Дайлама, который защищал Яхью, чтобы «облегчить дело». Наконец ибн Абд Аллах согласился сдаться в обмен на гарантию безопасности своей жизни — поручительство, написанное собственноручно Гаруном и засвидетельствованное юристами и старшими членами семьи Аббасидов
{186}. В должное время Яхья ибн Абд Аллах прибыл ко двору — но, похоже, был ограничен в передвижениях, посажен под домашний арест либо заключен в тюрьму. Вскоре несчастный умер под охраной при странных обстоятельствах
{187}.
Все это имело место за десять лет до падения Бармакидов — но по крайней мере один авторитетный современный источник расценивает историю с ибн Абд Аллахом как основную причину, вызвавшую немилость халифа к семье Бармакидов
{188}.
История эта излагается следующим образом. Когда Яхья ибн Абд Аллах находился под арестом, он был отдан под надзор Джафара Бармакида. В разговоре с Джафаром Яхья сыграл на совести Джафара, предупредив того, что он может навлечь на себя гаев самого Господа, если не поможет узнику. Наконец, Джафар смягчился и позволил ему уйти. Согласно одному из описаний, Гарун спросил Джафара о заключенном Алиде во время веселой вечеринки. Джафар начал объяснять, что тот находится в тюрьме, в кандалах и на короткой цепи — но вскоре заподозрил неладное, «так как был человеком острого ума и весьма проницательным». Судя по всему, Гарун узнал о его просзупке. Поэтому Джафар покорился и объяснил, что Яхья ибн Абд Аллах очень болен, ему недолго осталось жить, поэтому он отпустил его. Гарун сделал вид, что принял его объяснение и даже добавил, что и сам сделал бы то же самое — но как только Джафар покинул комнату, Гарун прошипел, что убил бы его за предательство
{189}.
Более обстоятельная версия той же самой истории
{190} ходила при дворе халифа. Там появился неизвестный и сказал, что у него для халифа конфиденциальное сообщение. Гарун попросил подождать, пока наступит жара, тогда придворные уйдут на отдых. Он отослал сыновей и приказал слугам удалиться на расстояние предела слышимости. Тогда человек сказал, что он был в гостинице в Хулиане на хорасанской дороге, как раз там, где равнина переходит в ущелья гор Загрос. Там он видел Яхью ибн Абд Аллаха в грубом шерстяном плаще. С ним была группа людей, но они сохраняли тактичную дистанцию.
Все это оказалось новостью для Гаруна, который считал, что Яхью надежно охраняет Джафар Бармакид. Сначала ему нужно было убедиться, что человек говорит правду. Человек объяснил, что знал Яхью раньше, и когда халиф попросил его описать Алида, он ответил: «Он среднего роста, со светло-каштановыми волосами, с залысинами на висках, с большими глазами и огромным животом». В ответ на дальнейшие расспросы он сказал, что не слышал, чтобы Яхья что-либо говорил, но что тот выполнял дневную молитву. Когда его спросили о нем самом, он объяснил, что происходит из семьи, которая поддерживала переворот Аббасидов в Мерве, но сам родился в Багдаде. По этой версии Гарун не уличал лично Джафара в открывшемся предательстве — но эта история стала одной из причин, по которым халиф со временем отвернулся от старого друга.
Существует объяснение внезапного падения Бармакидов и через «гаремную интригу»
{191}. Табари подробно пересказывает какой-то неизвестный нам источник, по изложенная им история обрела долгую жизнь, так как ее пересказывали с импровизациями и с дополнительными деталями многие более поздние писатели. Согласно этой версии Гарун очень любил свою сестру Аббасу и хотел, чтобы она присоединялась к ним с Джафаром во время их попоек. Для принцессы из царской семьи было абсолютно недопустимо участвовать в таких интимных и неформальных мероприятиях с тем, кто не был ей родственником (то есть с Джафаром). Гарун решился на хитрость, чтобы обойти это препятствие. «Я выдам ее за тебя, — сообщил он Джафару, — чтобы тебе можно было смотреть на нее, когда я привожу се на вечеринку, но только с условием, что ты не прикоснешься к ней». На этих условиях их поженили; Аббаса время от времени посещала их компанию, но однажды вечером, когда Гарун оставил их, а оба уже были подвыпившими, они не удержались от близости. Согласно более поздней версии, Аббаса действительно полюбила Джафара, и, направляемая своей матерью, однажды соблазнила его в темноте, когда он считал, что имеет дело с одной из своих рабынь
{192}. Аббаса забеременела и, боясь. что брат обнаружит это, отослала ребенка в Мекку воспитываться у няни.
В версии Табари между Аббасой и одной из ее девушек-рабынь произошла ссора, и девушка рассказала все Гаруну — поведав в деталях
о том, кто смотрит за ребенком и какие украшения мать его сестры дала няне. В другой, более поздней версии, их выдала Зубейда, жена Гаруна, потому что ревновала к Бармакидам и хотела погубить их. Во время паломничества Гарун нашел ребенка и проверил детали. Именно тогда он и принял решение убить Джафара.
В качестве объяснения тех трагических событий эта история абсолютно невероятна. Великий арабский историк четырнадцатого века ибн Хальдун попытался опровергнуть ее, но живые и запоминающиеся рассказы начинают жить собственной жизнью. «Гаремная интрига» стала классической формой популярного исторического трактата, и история Аббасы является тому одним из самых типичных примеров.
Падение Бармакидов поставило современников в тупик: произошедшему невозможно было найти сколь-нибудь правдоподобные и убедительные причины. Возможно, Гарун просто перерос их опеку и взбунтовался. Безусловно, различные теории, вроде заговора Алида или гаремной интриги, едва ли достаточно серьезны для объяснения таких мгновенных и жестоких действий. Но сами по себе эти версии весьма интересны, так как отражают рамки, в которых люди того времени пытались объяснить и сделать осмысленными политические события.
И конечно, падение Бармакидов дает прекрасный живой пример непостоянства и мимолетности земной власти и богатства. Поэты тех дней отчаянно оплакивали былую славу семьи — и не только потому, что те были щедрыми покровителями. Один из поэтов обращается к наиболее типичной и классической арабской теме — он описывает путешествие через пустыню и лагерь посреди пустыни, используя эти образы для горестных стенаний о потерянной славе:
Наконец мы дошли до привала —
Отдых и нам, и коням уставшим;
Прилег и тот, кого уж не стало,
Навсегда от живых отставший.
Трудно было всем сквозь жару идти.
Скажи коням, их гривы лаская:
«Вы сберегли нам ночь пути,
След в след пустыню пересекая».
Смерти скажи: «Взяла ты Джафара —
Лучшей добычи не взять никогда!»
Скажи талантам: «Пыжитесь даром,
Раз Фадл живет, вы труха, ерунда».
Скажи печалям: «С вами придется
Жить час за часом сквозь дни, месяца:
Радость живая уже не вернется,
Если печаль заразит сердца».
Другой поэт жалуется:
Засохла рука дарящая,
Увы, море высохло щедрости:
Закатилась звезда Бармакидов,
А по ней проводник сквозь пустыню вел.
Поэты изливали горе по своим благодетелям — но, похоже, политическая реакция на падение Бармакидов была очень слабой; определенно не возникло никакого открытого протеста. Как сторонники опальной семьи, так и те, с кем она вела дела, без сомнения, понимали, что в данной ситуации лучше быть тише воды и ниже травы.
Но было одно исключение — это пронзительная история об Ибрахиме ибн Османе иби Нахике
{193}. Ибрахим происходил из семьи военных, уроженцев Хорасана, которые являлись опорой Аббасидов еще в ранний период их царствования. Его оставили распоряжаться
хурамаи и сокровищами в Ракке, когда Гарун уехал в паломничество в 802 году. Ни у кого не могло появиться серьезных сомнений в его верности халифу или династии. Ибрахим сильно опечалился из-за падения Бармакидов. В замкнутых стенах своего дома он, чуть выпив с рабынями, хвастался, что отомстит за Джафара, затем потребовал свой меч, прозванный «Несущим смерть», который вынул из ножен, говоря, что убьет убийцу Джафара.
Нет оснований предполагать, что это было нечто большее, чем простое пьяное хвастовство, и предназначалось оно вовсе не для публичного оглашения. Никто бы и не узнал об этих словах, если бы сын Ибрахима не решил, что необходимо передать их Фадлу ибн Раби, а Фадл сообщил халифу. Халиф допросил сына и секретаря Ибрахима, которые подтвердили рассказ. Даже тогда халиф не хотел ничего предпринимать, говоря: «Неправильно будет с моей стороны убивать одного из старых друзей, опираясь на слова юнца и евнуха. Может быть, они вместе надумали это, сын в надежде унаследовать ранг отца, а слуга сводит счеты».
Но Гарун решил проверить Ибрахима. Однажды вечером, когда убрали после обеда, он пригласил Ибрахима прийти и выпить с ним. Они сели рядом, и Гарун отослал мальчиков-рабов, чтобы остаться наедине. Тогда он спросил Ибрахима, умеет ли тот хранить секреты, потому что есть кое-что, мучающее его, что не дает уснуть ночью.
Без сомнения, Ибрахиму польстило такое доверие, и он ответил, что умеет. Затем халиф продолжил: «Я сожалею о смерти Джафара Бармакида больше, чем способен выразить словами. И был бы счастлив отдать всю свою власть, лишь бы вернуть его назад. Со дня его смерти я перестал нормально спать. Я не радуюсь больше жизни с тех пор, как убил его». Это была очевидная ловушка — но Ибрахим, который к тому времени, конечно, уже прилично выпил, попался в нее. Он разразился слезами и высказал Гаруну все, что думал: Джафар был выдающимся человеком, и другого такого больше не существует.
Внезапно атмосфера резко изменилась. «Проклятие Аллаха упало на тебя, ты, сын неверной», — закричал халиф. Ибрахим мгновенно понял, что он обречен. Он поднялся, «едва понимая, куда идет», и направился к матери. «Мама, — сказал он ей, — я уже мертвец». «О, боже мой, нет! — взмолилась женщина. — Что случилось, сыпок?» «Увы, Гарун поймал меня так, что будь у меня хоть тысяча жизней, я не смог бы спасти ни одну из них».
Гарун ничего не предпринял — но вскоре сын Ибрахима, тот, «по предал его, пришел к отцу и убил того его же собственным мечом. Вероягно, сын надеялся унаследовать место отца — но, судя по всему, этот позорный поступок не принес ему ничего хорошего, и исторические записи молчат о его судьбе.
Гарун правил еще шесть лет, и хорошо видно, что это были годы упадка. Конечно, с исчезновением щедрых и образованных покровителей науки и искусства двор много потерял в интеллектуальном и культурном смысле. Но Гарун оставался сравнительно нестарым человеком, который вполне мог царствовать еще лет двадцать, и у него были планы на будущее.
Однако никто не смог запять место Бармакидов при дворе, хотя теперь Фадл ибн Раби укрепил свое положение главного администратора халифа и его советника. Он был сыном того Раби, который служил Мансуру и Махди столь долго и так преданно. После смерти отца в 786 году молодой Фадл унаследовал большую часть его богатств и его статус. Как и отец, он пользовался поддержкой освобожденных рабов и других слуг, которые работали во дворце и составляли влиятельную придворную группировку. Он был человеком компетентным и верным халифу — но, похоже, чересчур суровым и изворотливым, без пышности и импозантной щедрости Бармакидов. Однако литературные источники говорят о постепенно растущем соперничестве семей, а личность Фадла не вызывает у авторов восхищения. Сам Раби имел хорошие взаимоотношения с Яхьей Бармакидом, но они не перешли к следующим поколениям. Фадл постоянно появляется в анекдотах как соперник Бармакидов и капал, по которому все слова его противников попадали в ухо халифу.
В последние годы правления Гаруна доминировали два момента — война с Византией и проблемы в провинции Хорасан.
Гарун никогда не терял интереса к
джихаду против византийцев, и за годы после падения Бармакидов он совершенно сознательно утверждал свою роль лидера мусульман в борьбе с древним врагом. Ему сделали специальную
калансуву с написанными на ней словами
«Гази ва Хаджи» (Ghazi wa Haji — «Воин Веры и Паломник»)
{194}, и он посвящал все свое время и энергию, чтобы лично вести мусульман. И конечно, поэты прославляли его в этих двух ипостасях:
Он всех собирал, кто искрение верит.
От далеких границ до Святых Городов,
Он врагов беспощадно множит потери:
Путь земной приведет в кущи райских садов
{195}.
Ближайшей причиной возобновления кампании против византийцев стал тот факт, что императрица Ирина, которая заключала с Гаруном предыдущее соглашение, была свергнута, и ее место занял Никифор. Тот отказался от договора; советники подсказали ему написать Гаруну шахматной метафорой: «Царица, которая была моей предшественницей, поставила вас на клетку коня, а себя на клетку пешки, и отсылала вам сумму, которую должны были бы отсылать ей вы, но это из-за женской слабости и глупости». Дальше новый император говорит, что если деньги не будут возвращены, то между ними разразится война. Гарун публично продемонстрировал свое возмущение, потребовал перо и чернила и написал на обороте письма: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. От Гаруна, вождя всех правоверных, Никифору, византийскому псу: я прочитал твое письмо, сучий сын. Ты познаешь мой гнев, и это будет не на словах»
{196}.
После обмена такими вызывающими посланиями, конечно же, была объявлена война. Осенью 803 года Гарун повел свою армию на маленький городок Гераклея в Анатолии и опустошил всю местность вокруг него, после чего византийцы запросили мира
{197}. Долго перемирие не продлилось. Летом 806 года уже византийцы вторглись на приграничную мусульманскую территорию, захватив пленных. В ответ Гарун организовал большой поход — как говорят, с огромным перевесом сил, собрав 135 000 человек. Халиф взял с собой многих из самых старших и опытных воинов армии Аббасидов, а также большое количество добровольцев, которые увидели в походе возможность выказать свое рвение в сражениях за веру и попрактиковаться в
джихаде.
Город Гера клея снова стал объектом нападения, и в августе 806 года наконец-то взят после тридцатидневной осады. Жителей вывезли и расселили в Новой Гераклее, вверх по Евфрату от Ракки. Была также проведена морская кампания, в ходе которой арабы опустошили Кипр и взяли много пленных.
Никифор снова запросил мира, обещая платить общую дань, а также отдельную сумму за себя и своего сына — что являлось особым, личным унижением
{198}. Однако у нас есть рассказ об этой кампании, который описывает отношения между двумя монархами в другом свете. Согласно ему, Никифор написал халифу о девушке-рабыне из Гераклеи, которую он помолвил со своим сыном. Ее взяли в плен, и он спрашивал, нельзя ли ее вернуть. Для полноты он просил также немного благовоний и одну палатку халифа. Гарун нашел девушку сидящей на кушетке в его собственной палатке. Тогда он отдал девушку, палатку со всем содержимым и благовония византийскому посланцу и добавил от себя фиников и засахаренных фруктов. В ответ Никифор прислал осла, нагруженного деньгами, плюс сто халатов из шелковой парчи, двести халатов из льна, двенадцать соколов, четырех охотничьих псов и трех лошадей, и все это в качестве щедрых подарков.
Все же не следует верить рассказу в таком виде, хотя его источник относится к тому же времени или почти к тому: абсолютно невероятно, чтобы император помолвил рабыню из незаметного провинциального городка со своим сыном. Но он рисует отношения между монархами в более рыцарском, даже романтичном ключе. Мир роскошных вещей, прекрасных женщин и подарков — это яркий контраст с суровым духом
джихада.
Другим направлением интересов Гаруна была громадная провинция Хорасан на северо-востоке империи. Эта область первоначально была центром движения Аббасидов, но теперь многие здесь были недовольны. Похоже, основная причина недовольства вытекала из напряжения между двумя местными силовыми группировками. Одна из них — это потомки членов первой армии Аббасидов, жившие теперь в основном в Багдаде и на западе, и носящие название
Абна, то есть «Сыновья». По большей части они происходили из скромных слоев общества, и даже если их лидеры богатели на службе у Аббасидов, они все равно стремились контролировать свои родовые земли и получать доход от налогов, собираемых там. Им противостояла группа местной аристократии и помещиков, иногда весьма пышно называвшихся «царями», которые не видели причин, почему с них продолжают брать налоги и зачем на них давят члены
Абны. За исключением одного лишь Фадла Бармакида, который происходил из аристократической семьи, с самого начала поддерживавшей Аббасидов, управляющими провинцией становились члены
Абны.
С 796 года правителем в Хорасане был Али иби Иса ибн Махан — важная фигура в сообществе
Лона. военный, бывший одним из главных сторонников мало прожившего халифа Хади. Историки плохо отзываются об Али ибн Исе, но не все рассказы о его притеснениях и несправедливостях можно принимать за чистую монету. Тем не менее ясно, что он в широких масштабах пользовался вымогательством и эксплуатировал местных землевладельцев в пользу
Абны. Рассказывают, что одному человеку, ставшему его жертвой, даже пришлось симулировать паралич, чтобы избежать внимания подручных Али. Отец Тахира, позднее военачальника Мамуна, посчитал разумным покинуть провинцию, пока положение не улучшится, и уехал в Мекку
{199}.
До тех пор, пока Али пользовался поддержкой халифа, он был неприкосновенным. В 805 году в ответ на жалобы из провинции Гарун решил лично поехать в Хорасан, чтобы разобраться в тамошних делах. Это был смелый и беспрецедентный шаг. Хотя Хорасан являлся колыбелью династии, ни один из правящих халифов никогда не был там прежде.
Когда Гарун достиг города Рея на западной границе провинции, он остановился там примерно на четыре месяца, пока Али не явился к нему с огромным количеством подарков, денег, редкой домашней утвари, мускуса, ювелирных изделий, сосудов из золота и серебра, оружия и лошадей. Али также постарался привезти щедрые подарки сыновьям халифа, его секретарям и всем членам его двора
{200}. Безумные взятки возымели действие, и Али позволили сохранить контроль над провинцией.
Однако вскоре после этого в районе разразилась настоящая беда — восстание в Самарканде под предводительством Рафи ибн Лайса. Рафи был внуком Насра ибн Сейяра, последнего наместника Хорасана от Омейядов, человека, который противостоял движению Аббасидов с самого начала, пока не был убит в сражении. Однако похоже, что члены его семьи продолжали оставаться важными представителями местной аристократии.
История бунта начинается с одинокой женщины, чьего имени мы не знаем, выданной замуж в город за богатого араба. Он уехал в Багдад, бросив ее в Самарканде. Вскоре она узнала, что он завел наложниц и имеет от них детей. Это было уже слишком, и она попыталась найти способ освободиться. Ее обстоятельства привлекли внимание Рафи. Ему понравилась женщина, а также ее огромное состояние. Он посоветовал осуществить весьма ловкий план, по которому она должна была заявить, что у Господа есть «пара» (то есть о том, что она не монотеистка: заявление, что у бога есть «пара», было обвинением, которое часта приравнивалось к обвинению в христианстве), а поэтому перестает быть мусульманкой. Это автоматически означало. что она разведена. Но наказанием за вероотступничество была смерть, поэтому Рафи предложил, чтобы потом она немедленно раскаялась. Тогда она будет вольна делать, что хочет. По мнению многих людей, это была весьма сомнительная афера, но Рафи считал, что справится с ситуацией и должным порядком женится на разведенной женщине.
Тем временем ее бывший муж в Багдаде пожаловался халифу, который написал Али в Хорасан, требуя, чтобы тот развел новобрачных и наказал Рафи — выпорол его и провез в цепях на осле вокруг Самарканда. Рафи неохотно согласился на развод, но все-таки был посажен в тюрьму. В конце концов, изрядно истрепав себе нервы, он освободился с помощью местного чиновника и отомстил, убив представителя Али в Самарканде.
Конечно, Рафи был плутом, но у него имелось много друзей, и вскоре о нем заговорили как о правителе его родного города, открыто плюя на власти. Он приобрел широкую поддержку в Трансоксапии среди недовольных правлением Али, и когда сын Али был отправлен во главе войска расправиться с Рафи, его легко разгромили. Постепенно мятеж привлекал все больше сторонников; местный правитель Шаша (Ташкента) присоединился к нему со своим войском, и сын Али был убит
{201}.
До тех пор, пока Али держал провинцию под своим контролем и продолжал посылать подарки, Гарун держал его на службе. Теперь, когда стало ясно, что можно потерять крупный кусок владений, халиф твердо решил сместить своего наместника. Но Гарун знал, что задача будет нелегка, потому что Али был могущественным и беспринципным человеком, который мог собрать множество сторонников, особенно среди
Абны в Багдаде. Табари дает длинное и детальное описание, как он мог сделать ото — что показывает ограниченность власти халифа. Гаруну необходимо было поймать Али врасплох и не дать возможности поднять сторонников.
Гарун воспользовался услугами Харсамы ибн Аяна. Мы ничего не знаем о происхождении Харсамы — похоже, он не был своим в среде багдадских военных, нот этот человек оказался необычайно предан халифу, и имелась уверенность, что он будет действовать только в интересах Гаруна. Халиф написал в Хорасан, сообщая, что посылает Харсаму в помощь для борьбы с врагами. А Харсаме было приказано завоевать доверие Али, прежде чем отдавать ему письмо халифа с уведомлением о смещении.
Харсама отправился в путь с продуманным планом. Добравшись до Нншапура, он определил каждому из спутников район действия и заставил их пообещать хранить тайну. В дне пути от харасанской столицы, Мерва, он раздал списки членов семьи Али и его приближенных, которых требовалось арестовать. Он также написал Али, прося выслать слуг принять деньги, которые везет — по когда тс прибыли, люди эмиссара халифа извинились и задержали агентов Али, сказав, что им нужно еще особо подготовить лошадей для транспортировки денег.
Когда Харсама подошел наконец к Мерву, Али ничего не подозревал и вышел приветствовать его. При входе в город они обнялись, сидя на спинах лошадей, и обменялись приветствиями: «Входи первым!», «Нет, иди ты первым!» Они вместе поели, и Али сообщил, что освободил для Харсамы дворец в фешенебельном районе города у канала Маджан.
Тогда Харсама сказал: «На самом деле у нас для обсуждения есть вопрос, не терпящий отлагательства», — и протянул письмо Гаруна. Едва прочитав первую строку, Али понял, что случилось. Начальные слова «Ты, сын шлюхи» не оставили ему ни малейшего сомнения. Далее следовали упреки в злоупотреблении властью. «Я назначил Харсаму… раздавить каблуком тебя, твоих сыновей, твоих секретарей и твоих агентов». Его должны были арестовать, а все имущество — конфисковать
{202}.
Али, ничего подобного не ожидавший, позволил заковать себя в цепи, а Харсама отправился в большую мечеть, где обратился к людям, объяснив, что Али смещен, и начинается новая эра справедливости
{203}. Однако восстановить мир в провинции оказалось не так легко: Рафи с союзниками из местной аристократии отказался подчиниться эмисару халифа. Перед лицом открытого неповиновения в таком важном регионе Гарун решил лично отстаивать авторитет халифа. То было смелое и решительное действие, направленное на восстановление авторитета власти.
Халиф покинул Ракку на корабле в феврале 808 года, направившись в Багдад, где он задержался на некоторое время. 5 июня в полдень он покинул столицу — как оказалось, в последний раз. В сопровождении большой армией и вместе с сыном Мамуном, который был назначен наместником Хорасана, к концу года он достиг древнего города Тус.
Предзнаменования были добрыми: на дороге он встретил 1500 верблюдов, нагруженных сокровищами Али ибн Исы. От Харсамы было получено известие, что тот захватил Бухару. Гарун выслал Мамуна вперед для проверки, а сам, заболев, задержался в Тусе. Здесь 24 марта 809 года он и умер. Халиф был похоронен в загородной усадьбе, в которой остановился. Было ему около 47 лет
{204}.
Глава IV
ВОЙНА МЕЖДУ БРАТЬЯМИ
В момент смерти Гаруна халифат выглядел процветающим и спокойным, как никогда. Правда, имелись некоторые проблемы в Хорасане, которые и направлялся разрешить халиф. Северную Африку было сложно контролировать, как и всегда, а границы на Кавказе могли оказаться уязвимыми для атак хазар и тюркских кочевников, но это все были проблемы, с которыми вполне можно разобраться. Древние враги арабов, византийцы, были не в состоянии создать халифату серьезную угрозу, а недавняя кампания против них оказалась скорее военной разминкой, чем смертельной борьбой. Она лишь подтвердила высокий престиж халифа, который в любой момент мог объявить себя защитником ислама.
Падение Бармакидов в 803 году, конечно, оставило трещину в сердце администрации халифа — чиновники говорили о мешках писем, сваленных невскрытыми в почтовых конторах, но годовые налоги продолжали поступать, поэтам все еще платили, и двор жил с привычным блеском. Короче, ничто не предвещало надвигающихся ужасов.
Сначала казалось, что все идет безупречно. Новость о смерти халифа привез один из царских слуг, использовавший сеть конно-подменных пунктов
(барид), которая связывала империю и обеспечивала сверхбыстрое распространение информации. Этот слуга, евнух по имени Раджа, преодолел 1900 километров между Тусом и столицей за поразительное время — одиннадцать или двенадцать дней, что составило среднюю скорость порядка 150 километров в день. Скорость, подобная этой, не была превзойдена вплоть до появления парового транспорта. Он привез знаки верховной власти: плащ Пророка, скипетр и печать халифа
{205}.
Когда Амин услышал новость о наследовании, он перебрался из стоящего на берегу Дворца Вечности в старый дворец рядом с большой мечетью в сердце Круглого Города, построенный еще его прапрадедом. Халифы редко оставались здесь надолго, но старый дворец служил местом для торжественных и формальных мероприятий. В следующую пятницу (6 апреля 809 года) новый халиф приказал людям собраться в мечети. Он повел службу обычным путем, а затем поднялся на кафедру, где после вознесения хвалы Аллаху объявил о смерти отца. Амин пообещал править в мире и безопасности для всех. Затем первые лица государства подошли лично принести клятву верности, традиционно беря его за руку. После того, как элита принесла свои клятвы, халиф ушел, оставив одного из дядей принимать клятвы у менее важной публики, а старшему офицеру стражи, Синди ибн Шахину, доверили принимать клятвы у военных и выплатить войску вознаграждение в размере двадцати четырех месячных окладов — чтобы быть уверенными, что восшествие пройдет гладко. Проблем с деньгами не было, и эта означало, что Гарун наверняка оставил в сокровищнице достаточные средства.
Тем временем в Мерве, столице Хорасана, разыгрывалась такая же церемония, только в меньшем масштабе. Принц Мамун явился в дом правительства и обратился к людям с кафедры, сообщив о смерти отца и разорвав в знак скорби свои одежды. Подобно мечети в Багдаде, дом правительства в Мерве был местом, напоминающим о традициях Аббасидов. Именно туг Абу Муслим впервые заявил о себе и открыто призвал людей подчиниться Аббасндам. Огромный купол с открытыми арками по обеим сторонам, который он возвел, все еще оставался самым большим сооружением города. Клятва была принесена Амину как наследнику халифа, и туг тоже заплатили войскам.
Поначалу считалось, что власть гладко перейдет от одного поколения к другому, как оговорил старый халиф. Но на деле все оказалось не так благолепно. Схема последовательного наследования, с такой тщательностью разработанная Гаруном, разделила правящий класс между двумя принцами, Амином и Мамуном. Почти весь двор Аббасидов, члены правящей семьи, старшие чиновники, такие, как Фадл ибн Раби, и ведущие военачальники поддерживали Амина и считали, что старый халиф оставил Мамуну слишком много полномочий и власти; со временем его следует убрать от наследования и заменить одним из сыновей Амина. У Мамуна не было такой обширной базы поддержки — но многие богатые хорасанские аристократы, которые сопротивлялись власти Али ибн Исы и поддерживали Рафи ибн Лайса, уже понимали, что, поддержав Мамуна, смогут вернуть контроль над собственной провинцией и не мириться более с правителями, присылаемыми из далекого Багдада. Более того, мать Мамуна, которая давно уже умерла, была одной из них; можно было оживить память о ней, чтобы подстегнуть сторонников.
Смерть Гаруна стала неожиданной, и многие значимые персоны обнаружили, что оказались в невыгодном положении. Фадл ибн Раби находился с Гаруном в Тусе, когда его хозяин умер, а ему необходимо было находиться в Багдаде, чтобы улаживать дела нового халифа — Амин определенно нуждался в нем. Когда он узнал, что отец заболел, то послал ко двору доверенное лицо. Тот имел при себе письма, собственноручно написанные Амином брату Салиху, находящемуся в свите халифа, другим членам двора и Мамуну. Письма были спрятаны в пустотелых деревянных шахматах, обтянутых кожей. Когда этот человек появился в группе приближенных халифа, Гарун проявил глубокое недоверие и приказал арестовать его, но агент не признался в истинной цели приезда. После смерти халифа он явился к Фадлу и отдал письма: Салиху было приказано следить, чтобы армия оставалась под контролем офицеров, которым доверял Амин. Самому Фадлу надлежало как можно быстрее вернуться в Багдад, привезя с собой сокровища халифа. Письмо Мамуну было дружеским и просто призывало к соблюдению всех условий соглашения, которое было заключено между ними.
Несмотря на такую сердечность, остаток 809 и весь 810 год стали свидетелями растущего отчуждения между братьями, которое развилось в открытую вражду. Вдобавок воздействие на ситуацию оказывали политические интересы разных сторон и множество пересекавшихся подводных течений. Похоже, что принцы не проявляли личной вражды. Многие советники с обеих сторон настаивали на мирном разрешении любых противоречий. Множество анонимных голосов взывало к компромиссу: «Говорят, если дело опасное, лучше отдать сопернику часть того, что он хочет, чем входить с ним в открытый конфликт из-за отказа»
{206}. «Если вы опасаетесь, что добровольная уступка будет иметь последствия, разрыв, который появится, если не избежать трещины, будет еще более серьезным», — так выражались чувства народа. Страх беспорядков и насилия внутри мусульманского сообщества был очевиден.
По существовали и другие, более резкие голоса, призывавшие решительно идти своим путем, даже если молодые принцы будут против, несмотря на то, что огромное большинство людей хотело мира. Стоя на стороне Амина, Фадл ибн Раби, ветеран администрации Гаруна, давил на халифа, чтобы тот вместо Мамуна объявил наследником своего сына Мусу. Даже такой молодой и здоровый человек, как Амин, мог внезапно умереть — и Фадл не желал рисковать, позволив Мамуну взять верх в подобных обстоятельствах. Его поддерживал Али ибн Иса ибн Махан, бывший правитель Хорасана, чьи вымогательства вызвали те самые проблемы, которые пытался разрешить Гарун перед своей смертью. Али уже вышел из тюрьмы и занимал ведущее положение в лагере Амина. Он возглавил
Абну — тех солдат хорасанского происхождения в Багдаде, которые считали, что они должны контролировать правительство и жить на налоги со своей родовой земли, Для них прямое управление провинцией из Багдада было принципом, по поводу которого компромиссов существовать не могло.
Оказавшись перед лицом могущества дома Аббасидсв и военных, Мамун был готов принять требования брата — но он имел своего Свенгали
[16], который толкал его на сопротивление. Это был еще один Фадл, Фадл ибн Сахл. Он происходил из зажиточной семьи персидского землевладельца, чье состояние пережило и завоевание мусульманами, и революцию Аббасидов. До сих пор ни один из его родственников не играл роли в политике, и Фадл со своим братом Сахлом стали первыми членами семьи, которые перешли в ислам. Хотя они приняли новую религию и наверняка бегло говорили и писали по-арабски, братья четко сознавали свое персидское происхождение.
Фадл ибн Сахл попал в окружение молодого принца Мамуна в Мерве. Он осознал свой счастливый жребий и начал выстраивать коалицию для поддержки своего хозяина в Хорасане. Он обращался к разным слоям населения огромной провинции, которая могла быть объединена лишь ненавистью к правлению из Багдада. Он играл на памяти о матери-персиянке Мамуна, говоря, что Мамун мог бы быть среди своих дядей по матери, и персидская аристократия провинции должна поддержать одного из своих. Кого-то удалось уговорить обещанием уступок в налогах. Понемногу Фадл преуспел в привлечении сторонников сопротивления Амину, хотя многие в Хорасане были против мятежа, не желая распахивать ворота гражданской войне или же боясь, что дерзкий замысел потерпит неудачу. Самого Мамуна требовалось постоянно подбадривать, чтобы он не потерял самообладания.
Тем временем разворачивалась дипломатическая прелюдия к войне. У нас есть тексты нескольких писем принцев или их советников, написанных друг другу. Тон писем вежлив, но постепенно становится все холоднее. Целью переписки было не столько избежать войны, сколько замедлить ее приход — чтобы, когда она начнется, ответственность за кровопролитие пала бы на другую сторону. Амин требовал центрального управления определенными приграничными районами и выплаты налогов, которые, по его утверждению, не были нужны брату. Мамун отвечал, что здесь имеет место какое-то недопонимание: границам Хорасана угрожает сильный враг (тюрки), и ему самому требуются все эти ресурсы. «Сын моего отца, — продолжал он, — не заставляй меня ссориться с тобой, когда я охотно выказываю тебе послушание; не отстраняй от себя, когда я хочу оставаться другом»
{207}. На советников Амина это впечатления не произвело, и Амин ответил от своего имени; «Получил твое письмо, в котором ты показываешь неблагодарность за милость Аллаха по отношению к тебе… твой отказ аг послушании мне более терпим, чем неблагодарность Господу. Я прошу только для твоей же пользы и благополучия большинства твоих людей. Тебе же это принесет лишь безопасность и мир»
{208}.
Фадл ибн Сахл перешел в наступление. От имени Мамуна он написал Амину письмо с просьбой прислать в Хорасан жену и двух сыновей Мамуна, которые все еще находились в Ираке, чтобы они были с отцом. Отказ прислать семью, безусловно, продемонстрировал бы отсутствие доброй воли Амина. И опять язык вежливости: «Хотя о моей семье прекрасно заботится сам Носитель веры [Амин], который стал им отцом, они не могут не желать и с нетерпением ждать моей защиты»
{209}. Он также просил, чтобы выслали личное состояние Мамуна — якобы деньги необходимы для защиты границ. Последовал вежливый, но твердый ответ: Амин берет на себя ответственность за семью Мамуна. В конце концов, путешествие из Ирака в Хорасан долгое и может быть опасным. А что касается денег, то халиф сможет лучше использовать их на благо Мамуна.
Соскальзывание к войне продолжилось. Фадл ибн Сахл приказал поставить возле Рея, на западной границе владений Мамуна, дорожные посты, чтобы Амин не мог засылать агентов и шпионить за землями брата. Он также отправил своего агента в Багдад. Этот человек отсылал рапорты с женщиной, закладывая письма под вьючное седло; «женщина та проходила через пограничные посты без вопросов и досмотра, делая вид, что идет из одной деревни в другую»
{210}. Новости, которые приходили от агента, подтверждали худшие страхи Мамуна: Фадл ибн Раби был твердо намерен убрать его из наследников и ищет любого предлога, чтобы сделать это. Он надеялся также подбить людей в Хорасане отказаться от присяги Мамуну
{211}.
Осенью 810 года брешь оказалась пробита. В ноябре Амии пересек свой Рубикон, когда во время пятничной молитвы приказал более не считать наследником Мамуна, которого заменяет своим сыном Мусой. В то же время он отправил в Мекку гонцов, чтобы изъять подписанные документы, при помощи которых Гарун пытался однозначно отрегулировать наследование. Бумаги эти были привезены Амину в Багдад, где он лично порвал их и уничтожил
{212}. После этого пути назад не осталось. К концу 810 года, ровно через восемнадцать месяцев после смерти Гаруна, тайная война закончилась.
Теперь обе стороны начали разворачивать военные приготовления. В Багдаде Фадл ибн Раби собирал большое войско для вторжения в Хорасан и смещения Мамуна. Говорят, оно насчитывало до 50 000 человек, и люди в Багдаде заявляли, что это была самая многочисленная и лучше всего вооруженная армия из всех, что они видели
{213}. Для поднятия жалования в войсках создавались огромные фонды
{214}. Также поступало новое вооружение: две тысячи украшенных орнаментом мечей, шесть тысяч парадных халатов и, как об этом рассказывают источники, серебряные цепи, чтобы заковать Мамуна, когда его захватят
{215}.
Командование этими громадными силами было доверено Али ибн Исе ибн
Махану. По многим параметрам это был разумный выбор. Он и его семья пользовались непререкаемым авторитетом в среде
Абны в Багдаде, и он хорошо знал Хорасан. С другой стороны, его пребывание в роли правителя провинции вызывало яростное сопротивление местного населения. Назначение Али могло помочь сплотить вокруг него бухарцев, но наверняка объединило хорасанцев вокруг Мамуна. Были даже такие, кто считал, что политический наставник Мамуна, Фадл ибн Сахл, поручил своим агентам в Багдаде поддержать его назначение, зная, «по это лишь объединит общественное мнение вокруг Мамуна
{216}.
Армия выступила, распираемая уверенностью. Али покинул Багдад вечером 14 марта 811 года, войско медленно продвигалось через каналы и пальмовые заросли сельского Ирака. Молодой халиф дошел с ним до города Нахраван на одном из каналов, откуда повернул домой, а Али повел своих людей к проходам в горах Загрос
{217}. Двигаясь по дорогам через узкие ущелья и долины гор Загрос, направляясь к высокогорным плато центрального Ирана, он встречал караваны купцов, идущих из Хорасана. При расспросах они рассказали ему, что Мамун послал небольшие силы в Рей для охраны границы своих владений
{218}.
Когда новость о том, что Амин отказался признавать Мамуна наследником халифата, достигла Мерва, Фадл ибн Сахл, который стал теперь главным министром Мамуда, послал войска в пограничный Рей, постаравшись организовать им в бесплодные земли поставки всего необходимого. По сравнению с огромной армией Али ибн Исы силы Мамуна были незначительный — всего три-четыре тысячи человек. Соотношение было как минимум десять к одному. В качестве командира Фадл ибн Сахл выбрал молодого хорасанского аристократа Тахира ибн Хусейна. Члены семьи Тахира были наследственными правителями небольшого княжества Бушам, которое лежит как раз западнее Герата, на современной ирано-афганской границе. Эта семья, вероятно, была арабской и мусульманской уже в нескольких поколениях, но она никогда не играла ведущих ролей в политике своего района. Тахир, чей отец Хусейн все еще был жив, должно быть, уже приобрел репутацию лидера — но Фадл иби Сахл чрезвычайно рисковал, назначив на эту ключевую роль именно era, а не кого-нибудь из более опытных военачальников. Он считал, что это самоубийственная миссия, обреченная на провал. На деле назначение оказалось исключительно удачным, и семья Тахира сделалась самой важной в халифате после правящего дома Аббасидов.
Крупное войско Али двигалось через Загрос по старой хорасанской дороге, оно прошло до Савеха и вокруг северного края Великой пустыни центрального Ирана. К маю Али вышел к Рею, где его ждал небольшой отряд Тахира.
Город Рей лежал в нескольких километрах южнее Тегерана, бывшего тогда не крупнее крохотной деревушки. Город занимал важную стратегическую позицию: он запирал узкий коридор в плодородную и хорошо орошаемую долину между Великой пустыней на юге и круто вздымающимися горами Эльбурс на севере. Когда армия Али приблизилась, солдаты увидели снег, сверкающий на далеких пиках на севере, и поля зреющей пшеницы и ячменя. Город был древним — его проходил еще Александр Великий со своей армией тысячу лет назад. Как многие персидские города, он необычайно разросся в ранний исламский период. Молодой принц Махди обосновался в нем, когда был правителем Хорасана в 760-е годы. Он выстроил здесь большую крепость, которая официально была известна как Мухаммадия (по рождению имя Махди было Мухаммед). Тахир мог бы остаться здесь и противостоять врагу из-за стен, но ему подсказали, что население может подняться против него, если решит, что город подвергся опасности, ибо в случае поражения его разграбят люди Али. Поэтому молодой военачальник Мамуна решил выйти и встретить противника в открытом поле
{219}.
Мы никогда не узнаем точно, что случилось в тот майский день 811 года, когда две армии встретились. Наш лучший источник — свидетельство очевидца, Ахмеда ибн Хисама, молодого хорасанского аристократа, который был у Тахира начальником службы безопасности.
Мы расположились в селении Кустана, в одном переходе от Рея в направлении Ирака, Али же с армией находились в семи фарсахах [40 километров], в пустыне. Али думал, что когда Тахир увидит его, он сдаст ему Рей. Когда же он понял, что Тахир готовится к бою, он свернул с гневной дороги, чтобы найти удобное место для лагеря.
Мы разбили лагерь у реки, и Али расположился невдалеке, отделенный только песком и низкими холмами. Незадолго до рассвета пришел человек и сказал мне, что Али послал гонцов к людям в Рее, и те ответили ему доброжелательно; но мы вышли с человеком на дорогу и показали: «Вот путь, по которому они должны были бы пройти, но тут нет отпечатков копыт и иных признаков, что здесь кто-то проследовал».
Я пошел к Тахиру и разбудил его. «Ты собираешься молиться?» — спросил я. «Да», ответил он и попросил воды, чтобы совершить омовение и быть готовым. Я рассказал ему о сообщении, и мы вместе помолились. Затем мы пошли на разведку и увидели армию Али, но решили не атаковать на плоских песках. Тахир приказал мне подтянуть наши силы. Али со своей армией приблизился. Пустыня стала бело-желтой от мечей и золота. Они атаковали и почти добрались до нашего лагеря, прежде чем нам удалось с огромным трудам их отбить.
Затем Ахмед предложил попытаться пронести переговоры — скорее для того, чтобы показать Али в дурном свете и разоблачить моральный облик его людей, нежели в поисках мирного решения.
Мы прикрепили тексты соглашений с его клятвой Мамуну к двум дротикам, я встал между линиями и закричал: «Перемирие! Не стреляйте в нас, и мы не будем стрелять в вас» — и
Али ответил: «Согласен». Тогда я сказал: «Али, ты разве не боишься Аллаха? Разве это не текст клятвы верности [Мамуну], которую дал ты сам и в которой клялись люди? Побойся Господа, потому что ты достиг края своей могилы!»
«Кто ты?» — спросил Али. И когда я назвал свое имя, он крикнул своим войскам: «Тысяча дирхемов в награду тому, кто доставит его мне».
И снова разразилась горячая битва.
С
нами были люди из Бухары, они послали град стрел в Али, говоря, что убьют его и заберут его деньги. Затем из армии Али вышел человек, и Тахир атаковал его, схватил обеими руками эфес его меча, ударил и убил врага. Тогда Дауд Сиях [Черный Давид] бросился на самого Али и зарубил того. Али сидел на черно-белом коне, которого дал ему Амин. Считается, что такой конь к несчастью в бою.
Ахмед слышал также другой, отличный от этого, рассказ о смерти Али.
Молодой человек по имени Тахир спросил: «Это ты Али ибн Иса?», на что Али ответил «Да», посчитав, что спросивший испугается; но этот самый Тахир напал на него с мечом и убил. Мухаммед ибн Мукатиль попытался отрезать ему голову, но смог лишь вырвать несколько пучков бороды, которые и отослал Тахиру, объявив о нашей победе. Я не знал о смерти Али, пока кто-то не сообщил мне, что вражеский командир убит.
Спутники Али продолжали пускать стрелы, но без лидера они дрогнули, и их медленно оттеснили.
«Я вернулся на место столкновения, — продолжил Ахмед, — и нашел кожаный мешок, принадлежавший Али. В нем лежала верхняя одежда, плащ и нижняя рубаха. Я надел их и помолился, распростершись дважды в благодарности Аллаху, который велик и благословен. В лагере мы нашли 700 мешков с 1000 дирхемами в каждом. Люди из
Вухары, которые насмехались над Али. говоря, что они возьмут его деньги, забрали несколько мулов, несших ящики. Они думали, что это деньги, но когда вскрыли ящики, то нашли в них вино из иракского Сауда. Они поделили бутыли между собой, говоря: «Мы тяжело потрудились за эту выпивку!»
Потам я пошел в палатку Тахира и обнаружил, что он волнуется, почему я так долго отсутствую. Один из моих слуг нес голову Али в торбе для овса{220}. «Добрые вести! — воскликнул Тахир. — Вот пучок из бороды Али». «Действительно добрые, — ответил я, — а вот голова Али». В благодарность Аллаху Тахир освободил всех рабов, которые находились с ним. Они принесли тело Али, помощники связали мертвецу руки с ногами и притащили палку, чтобы нести его. как несут мертвого осла. Тахир приказал завернуть труп в войлок и сбросить в колодец.
Согласно другим, более коротким и менее личным записям, произошло яростное и вполне традиционное сражение, исход которого был решен, когда в Али ибн Махана попала стрела со стороны войска Тахира
{221}.
Победа при Рее полностью изменила ситуацию. Добрые вести распространяются быстро. Письмо, написанное Тахиром Мамуну и Фадлу ибн Сахлу, было вручено гонцам, которые двигались днем и ночью. Посланцы ехали весь четверг, всю пятницу и всю субботу, прибыв в воскресенье в Мере. Расстояние это составляет примерно 1150 километров, то есть письмо должно было проходить в сутки около 400 километров. Это показывает, насколько эффективной могла быть арабская система связи
{222}.
Новость достигла двора Мамуна как раз вовремя. Все, даже наиболее оптимистично настроенные сторонники принца, считали, что Тахир будет разбит, и армия Али явится подавлять мятеж и грабить. Было много таких, кто думал, что лишь срочное свержение Мамуна станет ценой, которую придется заплатить, чтобы избежать такой судьбы.
Фадл ибн Сахл, вдохновитель и политический наставник Мамуна, был предельно измотан; он не спал трое суток, так как старался собрать дополнительные войска в помощь Тахиру. Слуга объявил, что вдали появился почтовый гонец. Когда посланец прибыл, повисло мгновение жуткой неопределенности, пока человек стоял молча — вероятно, ловя ртом воздух от усталости. Фадл боялся самого худшего, поэтому спросил прямо, что тот скрывает. Тогда человек наконец-то выдохнул: «Победу!» — и протянул письмо Тахира, в котором говорилось: «Сижу с головой Али передо мною и его кольцом на моем пальце».
Фадл бросился к покоям Мамуна, куда и влетел, чтобы объявить добрые вести. Теперь пути назад не было. В четверг голова Али прибыла в Хорасан, и был отдан приказ обвезти ее вокруг города, дабы убедить всех, что Али действительно мертв
{223}.
Тем временем Тахир мгновенно использовал преимущество своей победы. Не ожидая дальнейших инструкций, он двинулся на запад. Сын Али ибн Исы Яхья попытался перегруппировать войска, по безуспешно.
Неожиданная победа Тахира спасла Мамуна от несчастья и реабилитировала политику Фадла ибн Сахла. Она изменила также природу конфликта. До этого момента существовал спорный вопрос, удержит ли Мамун свое привилегированное положение в Хорасане и, что более важно, будут ли продолжать считать его наследником Амина. Теперь существовало два халифа: Амин в Багдаде и Мамун в Мерве. Каждого поддерживали сторонники, которые были твердо настроены увидеть триумф своего вождя. О разделе империи речь не шла. Будут только победитель и побежденный. Соратники победителя образуют новую правящую элиту, власть и дворцы станут принадлежать им. Побежденные получат жизнь в безвестности, где им укажут — если повезет. Или смерть — если не повезет.
Даже после битвы при Рее у Амина оставались все шансы на победу. Он все еще контролировал богатейшую провинцию империи, Ирак, и основную массу вооруженных сил, особенно
Абну в Багдаде, которая так долго поддерживала династию. За ним прочно стояла семья Аббасидов, а сокровища, оставленные Гаруном, все еще представляли собой значительные ресурсы, с помощью которых можно было финансировать крупную кампанию.
С другой стороны, Мамун был прикован к северо-востоку империи, и его поддерживала лишь группа хорасанских аристократов и их последователей. Даже его собственная жена и сыновья находились в плену в Багдаде. Однако у него было одно огромное преимущество. Когда Амин приказал, чтобы документы, регулирующие наследование, были забраны из Мекки, а затем уничтожил их и устранил Мамуна от наследования, он явно нарушил формальное соглашение, которое сам когда-то подписывал. Его самые пламенные сторонники могли чувствовать себя неловко из-за этого поступка, а для многих людей в мусульманском сообществе дурно пахнущее нарушение клятвы однозначно порочило халифат.
Тахир понимал, что после победы у него есть две возможности. Он мог укрепиться и остаться охранять границу в Рее, обеспечивая безопасность Хорасана для своего хозяина и превращая его в отдельное государство. С другой стороны, он мог продолжить войну и преследовать врага до западного Ирана и Ирака. Смена сезонов добавляла еще один фактор: проходы в горах Загрос с ноября будут закрыты снегом, и его армии будет много легче перезимовать в мягком климате равнин Ирака, чем на продуваемом ветрами голом иранском плато.
Он не стал ждать приказов и не колебался. Почти немедленно он повел армию на запад — через возвышенности древней Мидии и Загрос, к Ираку. Подкрепление, высланное из Багдада, было разбито при Хамадаие, и Тахир обезопасил свои линии коммуникаций, изгнав ставленника Амина из Казвипа и расположив в этом городе собственные войска
{224}. К началу осени он вышел на равнины Ирака у Хулвана. Здесь, где климат мягок и много корма для животных, он разбил лагерь и стал ждать.
Потребовалось два месяца, чтобы весть о поражении при Рее достигла Багдада. Новость была настолько же неожиданной, насколько и неприятной. Кроме отправки незначительных сил подкрепления к Хамадану, возникла еще и путаница, а мнения при дворе разделились. Похоже, Амин не смог обеспечить твердое и эффективное руководство своим аппаратом. Именно об этом периоде у нас есть несколько рассказов, которые вполне могут принадлежать современникам и которые, безусловно, широко ходили, чтобы дискредитировать Амина как руководителя. Утверждали, что он гомосексуалист, больше интересующийся рабами-мальчиками и евнухами, чем женщинами и государством. Говорили, что он рыбачил со своим любовником, евнухом Кавсаром, когда пришла новость о поражении под Реем. «Убирайся! — как говорят, ответил он посланцу. — Кавсар поймал уже двух рыб, а я еще ни одной»
{225}. Циркулировали беспощадные сатирические стихи, которые, похоже, отражали широко распространенные в Багдаде настроения:
Халифат был развален злым визиря гением,
Фадлом ибн Раби — имя запомним надолго, —
Имама [Амина] распущенностью и ленью.
Невежеством Бакра-советника без чувства долга.
Фадл и Бакр хотели того, что смертельно халифу.
Но заблуждения — наихудшая из дорог…
Содомия халифа — грязь и опасные рифы,
Но продажность Фадла в делах — еще худший порок.
Одни мужеложец другого трясет, и лишь в этом —
Разница между двумя содомитами,
Но оба мужчины, скрываясь, друг друга лелеют,
Не развлекаясь перед глазами чужими.
С евнухом связь у Амина, в него он ныряет,
Его ж самого два осла постоянно имеют —
Вот что на свете, представьте, открыто бывает —
Господь справедливый, возьми их к себе поскорее.
Ты накажи их огнем очищающим ада,
Чтоб судьба Фадла была для потомков примером,
И на мостах через Тигр раскидай эту падаль:
Лишь укрепляет возмездие правую веру
{226}.
Вполне может быть, что эти утверждения являлись лишь голословной фантазией — но они широко ходили по народу, и люди в Багдаде верили им.
Фадл ибн Раби принялся собирать дополнительные силы, чтобы противостоять Тахиру, теперь уже в районе Хулвана, в опасной близости от столицы. Сделать это было нелегко. Разочарование в лидерских способностях халифа и поразительная удачливость Тахира привели к тому, что солдаты потребовали, чтобы их соответственно вознаграждали. Члены
Абны готовы были сражаться — но они требовали сохранить их жалование и почти полную монополию на руководство вооруженными силами. Они не желали объединяться с любыми другими труппами для общей борьбы.
Возможной альтернативой мощи
Абны были арабские племена, которые слушались родовых шейхов как глав Шайбана. Вожди времен ранних Аббасидов, Ман ибн Зайда и его племянник Язид ибн Мазьяд уже умерли, но дети Язида все еще пользовались большим уважением. Теперь Фадл послал за одним из них, Асадом. Он прибыл и нашел визиря взбешенным, сидящим во дворе своего дома. Прежде чем Асад успел что-либо сказать, Фадл разразился тирадой против Амина, который
отдал себя судьбе, как глупая девка-рабыня. Он держит совет с женщинами и погрузился в мечтания. Искатели удовольствий и разные авантюристы, вьющиеся возле него, завладели его ушами. Они обещают ему победу и заставляют его ожидать хорошего исхода, когда гибель приближается к нам быстрее, чем стремительный поток к песчаной равнине. Боже, я боюсь, что мы погибнем, когда погибнет он, нас уничтожат, когда уничтожат его.
Затем он перешел к делу. Он призвал Асада, потому что тот «витязь арабов и сын витязей». В этом комплименте отражалось эхо героических деяний воинов доисламского периода, добродетели храбрых и выносливых арабов пустыни. Фадл хотел положиться на его решимость и побуждал Асада быстрее выступить против врага.
Но Асада было не так легко убедить; его людям требовались деньга. В конце концов,
Абде из Багдада постоянно дарили подарки и пенсии, и он хотел того же для своих людей. Он также потребовал, чтобы ему развязали руки и позволили использовать города и районы, которые он захватит, по своему усмотрению. Но, что хуже всего, он потребовал, чтобы двух сыновей Мамуна передали ему в качестве заложников.
Фадл извинился и сказал, что решение об этом останется за халифом. Амин уже обещал своим военачальникам повышение жалования и контроль над всеми годовыми налогами Хорасана. «Теперь ты хочешь, чтобы я убил детей и пролил кровь семьи владык! — закричал он. — Да ты просто сумасшедший бедуин!» — и приказал арестовать Асада.
Это, конечно, не решило проблему найма бедуинов-добровольцев для армии. Амин и Раби стали искать других люден, которые имели бы достаточно престижа. Они решили обратиться к Ахмеду ибн Мазьяду, дяде Асада, который, похоже, имел необходимые качества воина
и лидера. Ахмеда в городе не было, он направлялся на лодке с семьей, рабами-вольноотпущенниками и свитой в свое загородное имение на юге Ирака, там, где Тигр впадал в Великие болота.
Уже стемнело, Ахмед находился уже всего в миле от своего имения, когда раздался голос гонца почтовой службы. Ахмед громко спросил, что делает гонец в такое время в таком месте; в ответ посланец прокричал лодочнику: «Ахмед Мазьяд с вами?» Получив положительный ответ, всадник спешился и передал письмо халифа.
Прочитав письмо, Ахмед ответил посланцу, что находится слишком близко к своему поместью, и попросил разрешения посетить его и оставить необходимые распоряжения, а на следующий день отправиться в путь. Посланец оставался непоколебим: Ахмед должен двигаться немедленно. Поэтому Ахмед развернулся, и, пробыв один день в Куфе, чтобы собрать оружие и еду, отправился к Амину
{227}.
Прибыв в столицу, он сначала пошел к Фадлу йбн Раби. Он нашел его с одним из лидеров
Абны, Абд Аллахом ибн Хумайдой, которого Фадл тоже пытался уговорить повести своих людей против врага. Фадл был любезен, сыпал комплиментами, рассказал, что халиф собирается предложить Ахмеду ранг выше того, что его семья добивалась прежде. Затем он приказал подготовить лошадей, и все трое отправились к халифу.
Они нашли халифа во дворе его резиденции; он пригласил Ахмеда подойти ближе и манил до тех пор, пока тот почти не коснулся его. Халиф объяснил, что не смог договориться с его племянником: адом, но его уверяют, что он, Ахмед, отличный человек и великий воин. Ахмед согласился возглавить армию, и Амин приказал Фаллу дать Ахмеду списки, содержащие имена людей Асада, а также людей из Джазиры и тех бедуинов, что находились вокруг лагеря. Ахмед просмотрел списки и отобрал двадцать тысяч человек.
Они выступили с Абд Аллахом ибн Хумайдой, чтобы противостоять Тахиру под Хулваном — Ахмед с двадцатью тысячами и Абд Аллах с двадцатью тысячами
Абны. Халиф торопил их быстрее объединиться против общего врага. Они должны были легко победить Тахира.
В действительности новое войско так и не получило шанса показать себя в битве. Оно разбило лагерь у Ханнкина — теперь это пограничный пост на главной дороге между Ираком и Ираном. Тахир встал за стенами укрепления, в нескольких милях от Хулвана. Оттуда он засылал агентов в лагерь врага. Те играли на страхах и ревности между людьми Ахмеда и Абд Аллаха, нашептывая, что вторые получают особые привилегии и более высокое жалование. Вскоре в лагере начались раздоры.
Абне и бедуины перегрызлись друг с другом. В конце концов войска покинули Ханикин и в полном беспорядке отправились назад в Багдад
{228}.
Та же печальная история повторялась всюду. Когда Амин послал своего кузена, ветерана Абд аль-Малика ибн Салиха, в Сирию, чтобы привлечь солдат, тот первоначально встретил восторженную реакцию. Многие сирийцы из числа тех, кого устранили из армии после революции Аббасидов, увидели возможность восстановить утраченный статус. Но опять ревность к
Абне и боязнь потерять жалованье сделали сотрудничество невозможным
{229}. Встретившись с серьезной угрозой и одновременно с неумением халифа обеспечить эффективное руководство, даже члены
Абны начали ссориться друг с другом. В результате одна фракция свергла и похитила халифа; соперничающая группа лишь через некоторое время поняла, что произошло, и восстановила Амина на престоле
{230}.
После всех этих неудач Фадлу ибн Раби, который так много сделал для разжигания разногласий, подстрекая Амина напасть на брата, пришлось скрыться. Он не проявлялся целых восемь лет — до того момента, когда Мамун наконец-то с триумфом вошел в Багдад.
Со своей базы в Хулиане Тахир удовлетворено наблюдал за происходящим. Он не был достаточно силен, чтобы рисковать в полномасштабной атаке на Багдад, но каждый проходящий день видел, как его враги все глубже погружаются в беспорядки. Осенью Мамун и Фадл ибн Сахл прислали нового командующего — Харсаму ибн Аяна. Харсама прибыл с подкреплением, чтобы сменить Тахира. Он много лет служил Гаруну, будучи членом администрации Аббасидов, и был предан к династии, что у Тахира полностью отсутствовало. В то время как Тахир никогда не встречал Амина, Харсама знал его с самого детства. Тем не менее, в отличие от других, он поддержал Мамуна. Он верно служил своему хозяину, но если мог, всегда пытался найти компромисс. Харсама принял командование в Хулване, а Тахир, ставший теперь специалистом по маневренной воине, отправился в дальний поход — завоевывать южный Ирак
{231}.
Некоторые местные правители выступили против него. Мухаммед ибн Язид аль-Мухаллабн был правителем Амина в Ахвазе. Лежащий на плодородных землях Хузистана, омываемый реками с гор Загрос и прославившийся производством тканей, Ахваз был процветающим разросшимся провинциальным центром. Мухаммед являлся отпрыском одной из старейших и уважаемых семей в халифате. Его прапрапрадед Мухаллаб привел свое племя азди из Омана в Ирак в годы, последовавшие за завоеванием его арабами в 630-х годах. Он был одним из великих героев раннего периода ислама: в поэзии и легендах осталась память о нем. Его потомки были советниками халифов и правителями Хорасана. Они тоже поссорились с Омейядами и без раздумий принесли клятву верности пришедшим к власти Аббасидам. После этого Мухаллабиды назначались правителями Ирака, Сипла, Египта и Туниса. Вместе с политической мощью они набирали и мощь экономическую, создав широкую сеть коммерческих связей; похоже, что они богатели и от торговли, которая шла через крупный порт Басра в верхней части Арабского залива. Мухаммеду ибн Язиду от предков осталось впечатляющее наследство.
Когда он услышал о продвижении Тахира, то собрал свои силы и вышел вперед, чтобы встретить врага на краю заселенных земель, оставив поля и деревни у себя за спиной. Но затем, потеряв уверенность и посоветовавшись с людьми, ибн Язид все-таки решил укрепиться в столице, Ахвазе, пока не дождется подкрепления от своего племени из Басры. Поэтому он стал отходить, а люди Тахира наступали ему на пятки, стараясь не дать перегруппировать силы.
Когда Мухаммед ибн Язид дошел до города, он развернул войско, чтобы дать бон. Но враг уже подошел слишком близко — войско Тахира в преддверии атаки забрасывало его людей камнями из пращей. Силы правителя Ахваза были медленно оттеснены, и в конце концов солдаты побежали. Тогда Мухаммед обратился к своим получившим свободу рабам, заявив, что армия может быть разбита, но он не побежит: «Я спешусь и буду биться, пока Аллах не объявит о своей воле. Любой, кто желает уйти, уходите сейчас! Истинный Господь, я хочу, чтобы вы остались в живых, а не погибли или были ранены».
Вольноотпущенники ответили: «Тогда бы мы предали тебя, истинный Господь! Ты освободил нас от рабства, когда мы были в беде. Как можем мы покинуть тебя в таком положении? Нет, мы останемся с тобой и умрем возле стремени твоего коня. Может быть, Аллах проклянет этот мир и даст тебе жизнь после твоей смерти!»
Они сошли с коней, подрезали лошадям сухожилия, чтобы те не смогли убежать, и выдвинулись вперед, убив много врагов, прежде чем в Мухаммеда попала стрела и он упал. Поэты сложили о нем похоронную песнь:
Справедливый и щедрый ушел человек.
Другого не будет такого вовек.
За ним улетело и сердце мое —
Больше о дружбе оно не поет,
Не смотрят глаза, их залила слеза —
Нет больше его, нет его рядом с нами.
Он облаком был, полным влаги живительной.
Но прочь унесло его ветром пронзительным.
Были и другие стихи, некоторые отмечали чувство долга и чести Мухаммеда, воспевали его готовность жертвовать собой за опороченного Амина.
Когда силы Тахира двинулись от Ахваза дальше, все местные правители торопились капитулировать. Правитель Басры, самого большого города в районе, сдался вместе с гарнизоном. Когда люди Тахира приблизились к Васиту, местный правитель вызвал своего конюха, будто готовился к войне:
Человек подвел ему
коней, но правитель все переводил взгляд с лошади на лошадь, так как перед ним стояло их несколько. Конюх увидел панику в его глазах и сказал: «Если вы собираетесь бежать, то вам подойдет эта кобыла. Она мажет идти галопом дольше и быстрее остальных!» Тогда правитель рассмеялся и ответил: «Подводи лошадь для спасения! Это Тахир, поэтому не нужно стесняться бежать от него». Они вместе покинули Васит и скрылись{232}.
Тем временем в святых городах Мекке и Медине разыгрывалась своя драма. Здешний правитель Дауд ибн Иса был членом младшей ветви семьи Аббасидов. Он был назначен Амином и дважды вел паломников от его имени. Однако когда Амин прислал своего человека забрать из Каабы клятвенный договор, Дауд пришел в ужас. Он собрал стражей дверей Каабы и всех выдающихся мусульман — тех, которые, как и он сам, были свидетелями подписания документов — и напомнил им, как они все клялись защищать правое дело от преступников.
«Теперь, — продолжил он, — Амин сместил своего брата и собрал клятвы верности своему младенцу сыну, который еще сосет грудь. Он поступил дурно, забрав документы из Каабы, чтобы сжечь их. Я решил лишить его своей клятвы верности в пользу халифа Мамуна».
Собравшиеся знатные люди согласились с ним. Тогда Дауд послал глашатаев по городу, призывая всех прийти в мечеть к дневной молитве. Он поставил кафедру возле самого Черного Камня, что вделан в угол Каабы и является центром поклонения мусульман, и пригласил людей подойти поближе.
Затем он начал говорить. Он был талантливым оратором, и люди слушали. Он напомнил им об их особой ответственности в роли сторонников соглашения, которое было положено на хранение в их городе. Амин нарушил условия, на которые согласился добровольно в Священном Доме, поэтому он должен быть смещен.
— Я оставляю Амина, так же как оставляю эту
калансуву (высокий официальный головной убор), — завершил Дауд. Он снял свою
калансуву, сделанную из полосатой йеменской ткани, и бросил ее под нош одному из слуг. Затем надел другую — официальную, черного цвета, сошел с кафедры, сел в углу мечети и пригласил людей принести клятву верности Мамуну.
Люди подходили группами, и он сидел там в течение нескольких дней. Когда группа подходила, он зачитывал ей клятву верности, и они брали его за руку. Разрыв клятвы окончательно разрушил правление Амина в святых городах, и уже в следующее паломничество пришельцы со всего мусульманского мира узнавали, что их халиф — Мамун
{233}.
К августу Мамун оказался признан как законный правитель на большей части халифата. Однако Багдад оставался под контролем Амина и поддерживающей его группировки, пусть и сильно уменьшившейся. Городу уже было полвека. Он необычайно разросся по сравнению с официальным правительственным комплексом, который основал Мансур. За прошедшие пятьдесят лет Багдад привлек огромное число иммигрантов со всего мусульманского мира. Некоторые из них были солдатами и чиновниками, либо от носились к другим категориям государственных служащих, но много больше приходило сюда безземельных и безработных, прибывающих в город в надежде заработать на жизнь, торгуя на улицах или на рынках разной мелочевкой. Как и в любой сегодняшней столице «третьего мира», в. Багдаде появились громадные районы лачуг. Жизнь их обитателей кардинально отличалась как от жизни изнеженных придворных, которые окружали Амина, так и от жизни хорошо оплачиваемых солдат на государственной службе. Если бы они оказали сопротивление силам Тахира, борьба оказалась бы долгой и тяжелой.
25 августа 812 года Тахир разбил лагерь у ворот Анбар; этот лагерь оставался тут и на следующий год. К северо-востоку от города занял позиции Харсама ибн Аян, который привел свои войска от Хулвана. На юго-востоке расположилась третья армия под предводительством Мусайяба ибн Зухейра, контролируя реку к югу от Басры. К этому времени большая часть регулярной армии, включая
Абну, покинула Амина, и к концу лета могло показаться, что конфликт вскоре закончится. Но быстрая победа Тахира и его людей была сорвана обитателями Багдада, в особенности городскими простолюдинами, которые начали неистовое и решительное сопротивление осаждавшим.
Хроникеры награждают этих людей рядом унизительных названий, грубо переводимых как «сброд», «отбросы общества» и тому подобное. Их также именуют «голытьбой» — не потому что они не носили одежды, а потому, что у них не было оружия, чтобы защищаться. Последовавший конфликт можно восстановить из истории одного столкновения солдата регулярной армии Тахира с группой ополченцев. Один солдат Тахира вышел, чтобы принять участие в сражении, и, увидев группу «голытьбы» без оружия, сказал своим спутникам голосом, полным насмешки и презрения: «Если гут только эти, тогда с кем мы сражаемся?» Его более опытные товарищи подтвердили, что с ними, и объяснили, что они как моровая язва. Уверенный в своей силе и оружии, в железном шлеме, кольчуге и мече, солдат грубо обругал товарищей за то, что не используют свое преимущество перед противником без оружия и экипировки. Он натянул лук и выдвинулся вперед. От противника навстречу ему выдвинулся человек с покрытым дегтем тростниковой циновкой в одной руке и полной камней лошадиной торбой — под мышкой другой руки. Когда солдат пускал стрелу, его противник-ополченец прикрывал себя, используя циновку в качестве щита. Одновременно он собирал стрелы и складывал их в самодельный колчан, который соорудил из куска циновки. Когда стрела падала, он подбирал ее и кричал: «Дай даник!» — имея в виду мелкую медную монету, которую он предлагал солдату за продажу стрелы. Когда солдат израсходовал все стрелы, он решил напасть на ополченца с мечом — но его противник вынул из мешка камень и запустил им из пращи прямо в лицо солдату, а затем быстро пустил второй камень. В конце концов солдат повернулся и отступил, крикнув, что его враги — дьяволы, а не люди
{234}.
Самое удивительное, что багдадская голытьба еще и отобразила сцены защиты города в ряде стихов, которые дошли до нас. После одного неожиданного побоища, когда силы Харсамы были отброшены ополченцами, а он сам был захвачен и с трудом отбит назад офицером, местный поэт описал то, что видел:
Голый, даже без рубашки,
Утром вышел на охоту.
Воина в кольчуге славной
Ищет, чтоб уничтожить.
Не спасется даже конный,
Негде спрятаться бедняге…
И пойдет по рынку голый.
Громко людям предлагая:
«Вот свежайшая добыча,
Голова в красивом шлеме.
За горсть фиников — дешёвка!»
Блокада, организованная вокруг города, была ужасно жестокой. Частыми жертвами стали женщины и дети, которые обычно всегда избегали последствий войны. Распад представлений о законе и порядке вызвал разгул преступности. В западном пригороде «местные воры и преступники грабили всех, до кого могли добраться — мужчин, женщин, больных, мусульман и немусульман. Они вытворяли такое, что, как мы слышали, происходит в другая странах во время войны»
{235}.
Пока некоторые стихи славили голых воинов, гораздо большее их количество оплакивало городские руины
{236}. Этот тип стихов сильно отличается от льстивых виршей, которые так нравились халифу и тогдашним литературным критикам. Это скорее протестная поэзия, оплакивающая разрушение города и лишения, выпавшие на долю ни в чем не виновных людей. Вот одно анонимное стихотворение, отразившее ужасы войны:
Я плачу кровью — Багдада мне жаль:
Мы в столице легко, беззаботно жили,
Но вместо радости нам вручили печаль,
А вместо достатка нам смерть подарили.
На город упал завистливый взгляд,
Губит всех без разбора баллисты рука,
[17]
Гибнут люди в огне и извечный уклад,
Женщины воют — мужчин забрала река,
Девушка с глазами как темная ночь
От огня убегает, чтоб добычей стать,
А отец, не в силах дочке помочь,
В огонь мчится, чтоб в плен, не дай Аллах, попасть.
Просить о жалости некого тут,
Ведь люди лишились всего, даже крова,
На базарах уже весь их скарб продают —
У разбойников просто чудо-уловы.
Вот незнакомец в луже крови лежит
Без головы, посередине дороги.
Он попал в гущу боя — кто ж тут сбежит?
Не скажет никто, чей он был, даже Господь.
Такие теперь пришли времена:
И дета бегут, бросив немощных старцев,
И друг бросит друга — не его тут вина.
Судьба извлекла джинна злобы из ларца
{237}.
Другое стихотворение, принадлежащее малоизвестному поэту по имени Курайми, оплакивает потерю Багдадом его очарования. Курайми сурово обличает войну и жестокость, которые принесли столько страданий ни в чем не повинным людям
{238}:
Пока не начало Время
Куражиться над Багдадом,
Бед не обрушилось бремя.
Не обернулась жизнь адом.
Он был чарующей тайной,
Как невеста для жениха;
Халиф Мансур не случайно
Возвел его здесь на века.
В райском саду наслажденья
Селились люди Багдада
Под звуки птичьего пенья.
Средь цветов, что глазам услада.
Но затем Амин с Мамуном начали свой спор:
Вы видели наших халифов
Без доброго слова совета?
Разве им повредило бы
Свое соблюдать соглашенье,
Когда остались бы в силе
Верность их справедливости,
Если бы не проливали
Крови своих сторонников,
Не посылали бы воинов
Сражаться друг против друга.
Если бы оба ценили
Богатства, что им собрали
Труды их дедов-халифов?
Все богатства, нажитые предшествующими халифами, были уничтожены.
Вы видели дворцы без стен наружных.
Что комнаты бесстыдно оголили,
Где женщины, как статуи, застыли,
Открылась тень садов, что посадили
Цари былых времен — теперь ненужных,
Где травы, виноградники и пальмы.
Где птицы распевали беззаботно,
Там пусто все, входи любой свободно.
Там льется кровь, там вой собак голодных.
Там прилегла беда в халате сальном.
Взгляни получше на Багдад разбитый:
Кольцо разрухи вкруг него сомкнулось,
И это даже воробьев коснулось —
Где гнезда их, что на домах приткнулись?
Кто жив, тот оскорблен, умолк убитый…
От Тигра берегов и до Евфрата
Огонь игривым жеребенком скачет,
Ползет голодный житель старой клячей,
Пусты базары, вид Багдада мрачен,
И грабежом пресыщен вор — осада…
Затем поэт дает описание баллист, которые нанесли столь большой урон
и домам из глиняного кирпича, и деревянным домам, а также их обитателям. В одном месте он сравнивает полет снарядов размером с человеческую голову со стаей птиц.
На каждой улице богатой
Стоит осадная машина,
И воют каменные ядра
От рук не человека — джинна.
Снаряды с голову мужчины
Летят, как стая птиц ужасных,
Их визг виновных и невинных
Ничком укладывает властно.
Мечи давно не знают ножен
И всем подряд грозят на рынке,
А всадник-тюрок с наглой рожей
С кинжалом мчится по тропинке,
А нафта
[18] всюду на дорогах
Пылает неостановимо —
И люди, призывая Бога,
Бегут от пламени и дыма.
Потом поэт возвращается к образам женщин, брошенных на позор и поношение, молодых мужчин, убитых на улицах, пытаясь защитить свои дома и семьи. Но в конце он резко меняет тон, когда обращается к визирю Мамуна, Фадлу ибн Сахлу, чтобы тот положил конец этим страданиям. Выглядит это так, будто последняя часть добавлена, чтобы превратить обличение подстрекателей войны в панегирик.
По мере продления осады положение в городе ухудшалось. Тахир, придя в ярость от того, что его войско терпит унижения от «голытьбы», усилил блокаду, не допуская в город корабли с поставками, приходящие из Басры и с дальнего юга, заворачивая их в Евфрат, к своим войскам. На других участках фронта осаждающие иногда позволяли товарам поступать в город — но лишь в обмен на сумасшедшие взятки
{239}. Тахир также начал систематическое разрушение домов в местах, где оказывалось наиболее стойкое сопротивление, он копал траншеи, чтобы укрепить уже захваченные районы. То, что не разрушал он, разрушали защитники. Город стал похож на средневековый аналог Сталинграда, огромное городское кольцо к северу и западу от Круглого Города лежало в руинах
{240}. Амин начал собирать деньги, продавая куски своего дворца; позолоченные потолки и деревянные крыши были разобраны им или сожжены артиллерией Тахира
{241}.
Время шло, весна 813 года перешла в лето, а положение Амина ухудшалось. Многие его сторонники в среде знати Аббасидов тайно ушли, так как Тахир пригрозил им конфискацией поместий. Более богатые купцы района Карха решили обратиться к Тахиру и дистанцироваться от простого народа, который оказывал сопротивление. «Улицы забиты ими. У них нет собственных домов или имущества в Кархе. Это карманники и продавцы дешевых конфет или воры, отпущенные из тюрем. Их единственные приюты — мечети и бани. Купцы среди них — обычные уличные торговцы, которые имеют дело с мелочевкой. Женщин заставляют выживать проституцией, а старики умирают на улицах. Мы, уважаемые купцы района, бессильны предпринять что-либо против них». Авторы так и не решились отправить это письмо, но оно показывает социальное напряжение, которое возникло во время осады.
Сам Амин тоже испытывал нарастающее напряжение. 23 сентября он был вынужден покинуть Дворец Вечности, где он жил, из-за обстрела камнями из баллист. Он приказал сжечь зал приемов и ковры, и переехал в укрепленный Круглый Город. Дворец Вечности, которому было чуть более пятидесяти лет, никогда уже не использовали снова; похоже, он превратился в руины
{242}.
Запасы продовольствия опасно сокращались; служанка описывает, как ей удалось найти цыпленка для халифа, но «погреб вин был пуст»
{243}. Поэт-принц Ибрахим ибн Махди описал последнюю грустную встречу с обреченным халифом, когда тот сидел, глядя через реку, а вызванная петь девушка могла исполнять лишь печальные, угрюмые песни
{244}. Покинутый большинством сторонников, Амин попытался спасти свою жизнь, сдавшись старому другу отца, Харсаме ибн Аяну, который возглавлял осаждающие войска на восточном берегу. Он имел причины надеяться, что с ним будут обращаться милосердно. Но Тахир твердо решил, что такая договоренность не пройдет. Амин попытался спастись, прибыв к Харсаме ночью в лодке по Тигру, но судно перевернули люди Тахира, и все его пассажиры оказались
в воде. То, что последовало потом, описано одним из уцелевших спутников халифа, Ахмедом ибн Саддамом. Его записи (см. ниже) полны массы деталей и подробностей, таких, как подушка и стопка циновок, они ярко отражают страх и смятение той ночи. Мы никогда не узнаем наверняка, к примеру, кто был тем злобным мужчиной в железном кресле — может быть, сам Тахир? Но эти записи
показывают личные переживания Ахмеда. Каким бы трудным в общении и глупым ни был Амин в дни славы, теперь он был просто очень несчастным человеком, и сострадание Ахмеда, как и искреннее почтение к жертве, члену правящей семьи, четко прослеживается сквозь все повествование.
Когда лодка затонула в быстрых водах Тигра, Ахмед увидел, как халиф сбросил одежду и отдался реке. Сам Ахмед выплыл на берег, его схватил один из людей Тахира и подвел к человеку, сидящему у берега в железном кресле и освещенному костром, разложенным перед ним. Человек, который захватил Ахмеда, доложил по-персидски (местные жители говорили на арабском), что это один из выживших с потерпевшей крушение лодки.
— Кто ты? — спросил человек в кресле. Я ответил, что я Ахмед ибн Саллам, начальник полиции у Хорваты.
— Ты лжешь, — выкрикнул он, но я настаивал, что говорю правду. Тогда он стал расспрашивать меня, где Амин.
Ахмед рассказал ему, что видел; потом его повел конный, накинув ему на шею веревку. Когда Ахмед пожаловался, что не поспевает за лошадью, офицер грубо приказал захватившему его в плен человеку спешиться и отрезать пленнику голову. Теперь Ахмеду нужно было быстро соображать. Он объяснил, что он богатый человек и утром сможет связаться с управляющим своего дома на востоке Багдада, чтобы тот прислал 10 000 дирхемов в качестве выкупа. Таким образом, его пока оставили в живых — но внятно объяснили, что если утром деньги не придут, он станет мертвецом.
Его отвели в большой дом поблизости, который принадлежал одному из правительственных секретарей, и там его снова спрашивали о местонахождении халифа. После этого его заперли в пустой комнате, где лежали две-три подушки и несколько тюфячков, скатанных в углу. Он устроился ждать.
Примерно через час снаружи донесся конский топот, дверь распахнулась, и в комнату ввалилась группа мужчин, крича: «Отродье Зубейды!» [Зубейда была матерью Амина.] Они втолкнули внутрь грязного человека, который был почти гол, если не считать свободно висящие штаны и тюрбан, который закрывал его лицо. Затем они ушли, оставив несколько человек стражи. Когда шум стих, человек развернул тюрбан, и я увидел, что это Амин. Мои глаза наполнились слезами, и я призвал благословение Алиска на него. Только тогда он заметил меня и спросил: «Кто ты?»
— Один из ваших слуг, — ответил я.
— Да, но какой?
— Ахмед ибн Саллам, судья.
— Да, помню, мы встречались однажды в Ракке и очень приятно провели время. Теперь ты немой слуга, а брат и друг.
После некоторой паузы он произнес:
— Ахмед!
— Да. мой господин.
— Подойди ближе и крепко сомкни на мне свои руки.
— Я обнял его и почувствовал, как дико бьется его сердце, будто вот-вот разорвет грудную клетку, и держал его, пока он не успокоился. Потом он спросил:
— Ахмед, что сделает мой брат? Думаешь, они убьют меня или обеспечат безопасность?
— Конечно, он простит вас!
Затем он начал поправлять рваную тряпку, которая была накинута ему на плечи. Его трясло, поэтому я снял с себя одеяло, в которое был завернут, и попросил его укутаться.
— Аллах благословит тебя за то, что делаешь мне хоть что-то доброе в этом месте, — произнес он.
Пока мы находились там. раздался стук в дверь, и вошел полностью вооруженный человек. Он внимательно взглянул на Амина, и явно понял, кто он. потому что выбежал вон, тщательно заперев за собой дверь. В этот момент я понял, что халиф уже мертвец. Затем он попросил меня оставаться возле него, и я почувствовал, что он дрожит. Примерно в полночь мы услышали лошадей, и снова раздался стук в дверь. Вошла группа персов с мечами наизготовку в руках. Амин поднялся во весь рост и сказал: «Мы от Аллаха и к нему вернемся».
Солдаты заколебались; они толпились у двери, выталкивая друг друга вперед, подбадривая один другого. Я ускользнул в сторону и спрятался за циновки в углу, а Амин схватил подушку и начал ругать солдат, говоря, что он наследник Пророка, сын Гвруна и брат Мамуна. Затем один из солдат приблизился и ударил его мечом, целя в лоб, но Амин бросил ему в лицо подушку и попытался вырвать оружие. Амин закричал, что его убивают, тогда остальные бросились на него. Один из солдат ударил его в грудь. Они повалили его на пол и перерезали горло от самой шеи, затеи взяли его голову для Тахира, оставив труп лежать на месте. На заре они явились, закатали тело в материю и унесли.
Когда настало утро, я послал за своим управляющим, он принес десять тысяч дирхемов, и меня отпустили.
Как ни печально это было для людей Багдада, по смерть Амина не стала концом гражданской войны. Прошло еще шесть лет между его смертью в сентябре 813 года и прибытием в город Мамуна в качестве халифа в августе 819 года.
Главной причиной тому стала политика визиря Фадла ибн Сахла, созидателя успешного поражения брата Мамуна. Он решил держать своего хозяина в Мерне, в Хорасане, чтобы тот правил халифатом оттуда. Вероятно, Фадл хотел удостовериться, что халифат останется под контролем его самого и его друзей из хорасанской аристократии. Такая политика вызвала сильное сопротивление всех групп в Багдаде — семьи Аббасидов, солдат распущенной армии Амина и простых людей, которые видели в этом угрозу своему статусу и образу жизни. Ирак стал неуправляемым, а области дальше на запад, такие, как Сирия и Египет, вообще вышли из подчинения.
Фадл пытался прибегать к разным уловкам, чтобы обеспечить поддержку в Ираке. В марте 817 года Мамун объявил, что его наследником будет не член семьи Аббасидов — им станет потомок Фатимы и Али но имени Рида, то есть «Избранный».
Это должно было привлечь на сторону халифа тех, кто хотел видеть, что халифатом правит семья Пророка. На деле же этот хитроумный план неожиданно привел к обратному результату. На сторонников Алидов эта демонстративная мера не произвела впечатления — в конце концов, Мамун был молодым человеком, он мог править долгие годы и в любой момент изменить свое решение. Но семья Аббасидов пришла в ярость, и похоже, большинство людей в Багдаде разделяло ее возмущение.
В итоге они выбрали собственного халифа из Аббасидов — Ибрахима, сына халифа Махди, принца-поэта. Тот сам признавал, что мудр в делах других людей, но глуп в своих собственных, и всегда был политически легковесен, но такая кандидатура привлекла достаточное количество сторонников, чтобы ясно показать, что правление Фадла, осуществляемое из далекого Хорасана, просто не воспринимается народом. Если Мамун хотел быть успешным халифом, он должен был начать радикальные перемены.
Глава V
ПОЭЗИЯ И ВЛАСТЬ
ПРИ РАННИХ АББАСИДАХ
С момента основания Багдада в 762 году и до крушения власти Аббасидов в начале десятого века двор халифов этой династии был средоточием культурной деятельности мусульманского мира. Именно тут устанавливалась художественная и интеллектуальная мода. Пробивающиеся мастера и поэты со всех исламских земель собирались к дверям халифов в надежде найти покровительство — и, что так же важно, создать себе репутацию.
Конечно, были и такие, кто чувствовал, что эта придворная культура продажна и поверхностна. В благочестивых кругах городов Ирака и его провинций имелись серьезные учителя, которые собирали традиции Пророка и теоретизировали по поводу законов ислама, относясь к жизни при дворе равнодушно или с отвращением. По отношению к будущему их вклад в развитие исламской цивилизации был огромен — но они редко посещали салоны и обсуждали поведение правящих кругов при Аббасидах.
Дворы покровительствовали культуре по различным причинам, но главное — высокая культура демонстрировала принципиальную принадлежность к придворной элите и общность интересов. В кругах Аббасидов дистанция между элитой
(хасса) и простолюдинами (
амма) — вечная тема литературного диспута. Среди прочего элита выделялась своими более обширными познаниями в науках и более глубоким пониманием сути вещей. Участвуя в культурных событиях при дворе, человек делал заявку на свою принадлежность к элите, показывая свою образованность, вкус и возможность принимать участие в культурной жизни своего времени. Это не отменяет того факта, что члены двора могли просто искренне интересоваться поэзией или проявлять живой интерес к наукам и философии. Можно сказать, что покровительство наукам и искусствам играло существенную социальную роль, а знание их приоткрывало дверь в элиту.
Культура двора Аббасидов не была статичным и неизменным набором ценностей, она развивалась, когда новые поколения и новые группы внутри элиты создавали свои культурные «верительные грамоты». В целом же весь ранний период халифата Аббасидов вплоть до смерти Амина был веком поэзии: стихи и песни в эго время имели наибольший спрос, хотя ценились и иные формы выражения культуры. В девятом веке развилась более общая форма придворной культуры, которая включала литературную критику, философию, точные науки и даже такие области, как кулинария и собирание хороших книг. Однако по контрасту с культурой, скажем, итальянского Ренессанса или Версаля восемнадцатого века, визуальные виды искусств, особенно живопись, в арабской культуре не играли особой роли.
Итак, в культуре раннего периода царствования Аббасидов доминировала поэзия. Династия унаследовала поэтическую традицию, чьи корни лежали глубоко во временах, называемых
джахилия — доисламском периоде существования арабов
[19]. В те дни поэты были важными фигурами в племенах бедуинов, они цементировали племя, создавая его индивидуальность, восхваляя лучших по смелости и щедрости мужчин, красоту женщин и великолепие верблюдов. Некоторые поэты любили также превозносить одиночек и изгнанников. Арабы на протяжении всей истории ценили своих ранних поэтов, почитая их за великолепный язык и четкое выражение традиционных ценностей.
Однако поэзия
джахилии родилась в определенное время и в определенном месте. После завоевания мусульманами оседлых районов Среднего Востока возникла новая общность людей, говорящая по-арабски. Многие из ее представителей были едва образованы, пустыня для них была незнакомым, даже враждебным окружением. Они жили в относительно комфортной городской обстановке, в которой ценности племенного сообщества были не более чем исторической диковинкой. Новый век требовал новой поэзии — в то время как язык и темы древних все еще сильно влияли на мастеров периода Аббасидов.
Государственная поэзия двора Аббасидов была в основном восхваляющей, она читалась на больших собраниях, где и придворные, и более широкая публика могли узреть халифа. Правители, как и другие важные лица, желали слышать хвалебные речи, когда поэт своими виршами превозносил добродетели и достижения владык, воспевал (часто не особенно тонко) их щедрость. Хвалебная поэзия была хлебом и маслом литературной жизни. Успешный, но не выдающийся поэт, такой, как ибн ар-Руми (умер в 896 году) был в состоянии обеспечивать себе вполне достойную жизнь, восхваляя знатных персон из окружения халифа, министров и визирей. Девяносто процентов творений ибн ар-Руми составляли панегирики его покровителям
{245}.
Оценивать поэзию других веков, к тому же написанную на другом языке, всегда проблематично, но традиционная хвалебная поэзия особенно трудна для уха современного западного читателя. Стихи о потерянной любви, о ностальгии по лучшим дням, о радости праздников с вином могут трогать сердца и через много веков; но длинные и явно преувеличенные до абсурда истории о доблести, мужестве, щедрости различных забытых уже второстепенных властителей едва ли могут вызвать такую же реакцию.
Что же покровители поэзии ожидали получить в обмен на деньги, которые они выкладывали за эти панегирики себе? Конечно, на нижнем уровне сознания каждому нравится, когда ему говорят, какой он замечательный — особенно во время
Поэзия и власть при ранних Аббасидах 161 публичных декламаций или на различных праздниках; человек может даже поверить в это сам. И все-таки даже самый циничный наблюдатель должен признавать, что подобного рода комплименты рассыпаются в основном ради получения щедрой на- грады, а не в результате спонтанного порыва вдохновения. Зато удачная фраза из стихотворения могла стать популярной и ходить по устам много времени спустя после мероприятия, для которого ее первоначально создавали. Панегирики таких мастеров, как Абу Таммам, помещались в антологиях и комментировались учеными критиками, стихи распространялись и делали бессмертной память о покровителе их автора.
Вероятно, здесь можно проследить параллель с придворной портретной живописью «старых времен» в Западной Европе. Когда мы, например, любуемся героическим портретом кисти Веласкеса, изображающим Филиппа IV Испанского, мы знаем, что монарх имел множество недостатков, и художник придал ему куда более смелый и выразительный вид, чем когда-либо был у Филиппа в реальной жизни. Но эта явная «неправда» не мешает нам ценить картину Веласкеса как произведение искусства. Поэтому наше впечатление скорее относится к манере восприятия самого жанра хвалебной поэзии; конечно, стихи и оды были полны преувеличенной лести, но это не умаляет мастерства их авторов, не лишает поэтов воображения и оригинальности, а созданные ими образы — яркости и сочности. Европейский монарх заявлял о своей доблести и законности с героического портрета, который широко обсуждали, с которого могли делать копии и широко распространявшиеся репродукции. Так и представители династии Аббасидов пытались использовать господствующую в их дни форму искусства в целях поддержания и укрепления своей репутации.
Поэзия также была способом распространения идеи законности. Поэты поднимали вопрос о том, что достижения предков их покровителя и его собственные добродетели и таланты являются знаком божьим и подтверждают обязательность уважения к властителю со стороны соплеменников. Вероятно, громче всего покровитель заявлял о своем праве числиться в элите, именно поддерживая традицию хвалебной поэзии, которая уходила корнями в доисламское прошлое; поддержка восхваляющих их поэтов была свойственна только членам элиты, другие люди, вне очерченного круга, не могли делать этого. Чтобы поэты превозносил и вас, сколь бы ни были при этом меркантильными их мотивы, требовалось доказать ваше право считаться членом элиты —
хасси.
Стихи читались публично, при большом скоплении людей, как правило — самим поэтом, который старался произвести впечатление на слушателей и завоевать приз. Для того, чтобы удержать внимание публики, требовались смелость, обаяние и быстрый ум; двор Аббасидов не был местом для краснеющих юнцов. Иногда необходимость выступления перед большой аудиторией могла вселять ужас. Некоторые опасности, таившиеся в публичных представлениях, проглядывают в описании, сделанном участником одного такого мероприятия во времена Махди, поэтом Ашджой ас-Сулами. Халиф позволил публике войти в его присутствии; люди вошли, и он разрешил им сесть. Так гости и сделали — вероятно, сев на ковер и скрестив нош, а халиф возвышался кад ними на троне. Случилось, что поэт Башшар ибн Бурд сидел возле Ашджи. Халиф сидел молча, молчание соблюдала и публика: все ждали, чтобы кто-нибудь разбил лед безмолвия. Затем Башшар услышал чей-то голос и спросил Ашджу: «Кто это?» Ашджа ответил, что это Абу’ль-Атахия.
— Думаешь, что он осмелится декламировать перед таким собранием? — спросил Башшар.
— Думаю, да.
Махди приказал поэту декламировать, и тот начал:
Что случилось с любимой моею?
Губки дуст, презренье во взгляде.
Ей сласти не сладки, ласки не греют.
Но терплю я любви своей ради.
В этом месте Башшар толкнул Ашджу локтем и прошептал:
— Ты видел когда-нибудь более отчаянного человека? Он осмелился продекламировать такие стихи в таком месте!
Действительно, это была ситуация, когда полагалось читать формальные восхваляющие стихи, а не сентиментальные жалобы на несчастную любовь. Однако вскоре Абу'ль-Атахия все перевернул
с ног на голову:
Отдался ему халифат, покорясь его воле.
Со всеми путями от края до края,
Лишь ему халифат свою вверил долю,
Как и ой без труда роль халифа играет.
Если кто-то другой к власти рваться станет,
То случится немедленно землетрясение.
Если дочери сердец — мысли наши, быстрее дали —
Нс послушают воли его — Аллах не примет нашего мнения.
Стихотворение было тщательно подано, предлагая умный комплимент правителю. Ашджа уныло заметил: «Сегодня Абу’ль-Атахия единственный, кто покинет собрание с наградой»
{246}.
Ко времени Махди любители поэзии стали собираться более узкими компаниями, в которых молено было представлять более широкий ряд тем. Это были встречи меньшего масштаба, часто проводимые ночью и с обильными возлияниями — на них халиф мог расслабиться со своими
надим, то есть приближенными. Здесь можно было читать самые разнообразные и даже скандальные стихи, а также перекладывать их на музыку. И конечно, потом большинство запомнившихся стихов выходило наружу и имело хождение среди более широкой литературной публики.
Любовь всегда оставалась излюбленной темой поэтов, и любовная поэзия, часто переплетаясь с хвалебной, являлась одним из основных жанров придворной литературы. Конечно, отношение к любви, отраженное в литературе, мало соответствовало отношению к любви в реальном мирен вдобавок постепенно менялось. В мире доисламских поэтов любовь обычно упоминалась в контексте потерн, ностальгии и памяти о том, что случилось в прошлом. Часто она была исключительно физической: мужчина, главное действующее лицо, хотел и добивался простых сексуальных отношений с женщиной, о которой мечтал. Здесь не было указаний на то, что страдания, вызванные потерей любви, могут быть полезны или возвышают человека: это были всего лишь житейские неприятности.
После прихода ислама отношение поэтов к любви, судя по всему, стало развиваться в двух различных направлениях. С одной стороны, появился фривольный и даже скандальный жанр, его представлял поэт Омар ибн Аби Рабия, которого помнят в основном за описания того, как он приставал к девушкам во время хаджа, даже когда они шли вокруг самой Каабы. В этой поэзии нет признаков сдержанности и мало места для описания неосуществленных желаний.
К другому направлению относятся поэты племени Бану Одр, и их поэзию называют иногда поэзией Одри. Эти стихи, вернее, циклы стихов, описывают мир страстной, но незавершенной любви. Тоска и страдания — вот их главные мотивы, в них нет сексуального завершения, и с самого начала ясно, что оно невозможно. Самым известным произведением этого литературного направления была поэтическая трагедия Маджнупа и Лейлы, чья трагическая любовь имеет нечто общее с историей Ромео и Джульетты. Маджнун (что значит «Одержимый») сходит с ума из-за невозможности любить Лейлу. Он уходит в пустыню, чтобы по возвращении обнаружить, что его любимая умерла; тогда он тоже умирает от разбитого сердца. В мире поэзии Одри любовь и благородна, и невообразимо печальна. История Маджнуна и Лейлы вдохновляла многие следующие поколения арабских и персидских поэтов и художников на создание иллюстрированных манускриптов.
В придворной поэзии Аббасидов любовь снова попадает в центр внимание и становится удобной темой в благовоспитанном обществе. Быть влюбленным в недосягаемых женщин или юношей очень характерно для членов
хассы; даже халифы влюбляются и пишут стихи о своих воздыханиях — впрочем, не слишком часто либо в воображении других стихотворцев. Некоторые поэты (такие, как Абу Нувас) развивали тему преувеличенного осознания греховности физических радостей, но большинство авторов снижали накал страстей: несчастная любовь была в моде, она превращала возлюбленного в остро чувствующего человека, который может ценить прекрасную литературу и искать для себя самый изысканный способ описания боли, которую ощущает. Это рафинированное и слегка тепличное Отношение к любви определяло принадлежность влюбленного к членам дворцового общества; он участвовал в изысканных дискуссиях круга, к которому принадлежал по своим ощущениям.
Однако сами поэты, как правило, занимали незначительное, а иногда даже шаткое положение при дворе Аббасидов. Совсем как рок-звезде двадцатого века, поэту были разрешены и в некотором роде даже предписаны нарушения границ общепринятого социального поведения. Тот же Абу Нувас мог открыто хвастать своими попойками и склонностью к хорошеньким мальчикам, в то время как это было абсолютно недопустимо для других и вполне могло привести к серьезному наказанию. В то же время поэт оставался слугой своего покровителя, от него ожидали постоянного присутствия под рукой. Любая неудача или неловкий ответ могли закончиться наказанием и даже угрозой смерти — как правило, преувеличенной для создания более драматического эффекта. Но, как мы увидим дальше, те поэты, которые позволяли себе острые насмешки над властями, действительно могли дорого за это заплатить.
Карьера придворного поэта была по-настоящему открыта для талантливых людей всех социальных слоев. Да, там имелись такие поэты, как Ибрахим, сын халифа Махди, который происходил из самых высших слоев правящей семьи, — но были и другие, чье происхождение являлось весьма скромным. Конечно, поэту необходимо было покровительство и в какой-то мере удача, если он хотел выступать перед царственной аудиторией, и многим прекрасным поэтам приходилось чахнуть в безвестности. Но все-таки иногда они пробивались, и нас может впечатлить степень их социальной мобильности. Биографии таких поэтов дают нам редкую возможность изучить случаи, когда аутсайдер из самой отдаленной глубинки утверждался при дворцовой элите.
Халиф Мансур был красноречив и слыл мастером импровизированных остроумных ответов. Разумеется, он хорошо знал классическую арабскую поэзию и мог процитировать отрывок из какого-нибудь произведения, чтобы подчеркнуть тот или иной политический нюанс — но не он являлся великим покровителем поэтов. Зато его сын и наследник Махди был истинным любителем поэзии и пения. Когда он был еще наследником престола, писатели и музыканты стягивались в его круг. Когда же Махди стал халифом и смог давать волю своим пристрастиям, двор Аббасидов начал превращаться в средоточие литературной жизни.
В этой среде доминировали три великих поэта, чья репутация пережила саму династию Аббасидов, поднявшую их до вершин славы. Башшар ибн Бурд, Абу’ль-Атахия и Абу Нувас до сих пор числятся среди великих мастеров классической арабской поэзии, а истории их жизни запоминаются как благодаря различию и противоположности их личностей, так и благодаря различию стилей их поэзии.
История Башшара ибн Бурда стала результатом великого переселения народов, которое произошло в ранний период установления ислама. Его дед был родом из Тухаристана в верховьях Окса, ныне это северная часть Афганистана. Он был взят в плен во время одной из арабских кампаний в этом районе и доставлен в Басру в качестве раба. Его сын, отец поэта, был освобожден богатой арабской женщиной, которая дала ему волю, после чего семья стала освобожденными в арабском племени Акил.
Башшар вырос крупным и нескладным мужчиной, его лицо было обезображено оспой. Он от рождения был слеп, но с самого рождения имел прекрасные способности к языкам и изумительную память. Когда его спрашивали, как он умудряется использовать в своих стихах удивительно яркие зрительные образы, если он вообще никогда ничего не видел, он отвечал, что «отсутствие зрения усиливает проницательность его сердца и снимает покровы с видимых вещей. Это обогащает язык человека и развивает его разум»
{247}.
Башшар был продуктом слияния арабской и персидской культур, что типично для периода Аббасидов. Сам он вырос в говорящем по-арабски окружении и писал по-арабски, по всегда ощущал близость своих персидских предков. Было составлено длинное генеалогическое древо, которое связало его род со знатью старой империи Сасапидов, а сам он часто использовал свою поэзию (арабскую), чтобы насмехаться над традиционными бедуинскими стереотипами. На одном длинном празднике по поводу его трудов он хвастал, что происходит из древней персидской царской семьи, превозносил персов, которые привели династию Аббасидов к власти и завоевали для них Сирию, Египет и даже (здесь Башшар допустил некоторое поэтическое преувеличение) далекий Танжер. Он хвастал своим отцом:
Никогда не тянул он песню, бредя за верблюдам в колючках,
Никогда не тянулся or голода к колоцинту
[20] — арбузу горькому,
Никогда не срывал он с мимозы плоды ее несъедобные,
Никогда мы не жарили сцинка с вечно дергающимся хвостом.
Никогда не выкапывал ящериц я из земли, словно камень, твердой
{248}.
Стереотипные образы грубого и некультурного бедуина контрастируют с изяществом и утонченностью старого персидского вельможи.
Но ни внешность и неуклюжие манеры, ни насмешки над традиционным образом жизни араба не могли испортить его гениального обращения с языком. Башшар отмечал достижения халифа Махди при дворе Аббасидов с таким же красноречием и рвением, какое выказывал раньше, хваля Омейядов. Он всегда готовил публику к своей декламации хлопками, покашливанием, а затем поплевыванием на ладони — сначала на одну, потом на другую. Потом он пускался в исполнение хвалебных стихов, которые затмевали все, созданное его соперниками и критиками. Его любовная лирика была полна чистого порыва к недосягаемой (и вероятно, воображаемой) Абде.
Эй, слуга, налей мне зелья
Поцелуев ее сладких.
Умираю я от жажды —
Только тот глоток целебный
Пьется с влажных ее губ.
Я хочу упасть в похмелье
Губ-ромашек, что украдкой
Расцвели и ждут: однажды.
Распевая гимн хвалебный,
Я их влагу пригублю.
Поселилась она в сердце.
Только жадность ей присуща:
Подарить мне обещала
Ночь — но ночь уже проходит.
Ей и без меня неплохо…
Как же отыскать мне дверцу
К той, что сердце мое мучит?
Ночь, какой ты длинной стала!
Каждый час на век походит,
Моя доля — только вздохи
{249}.
Чувства тут, без сомнения, обычные, даже искусственные — но образы поражают свежестью. Именно эти новации позднее дали критикам возможность увидеть в Башшаре открывателя «нового стиля», который отличал поэзию двора Аббасидов от литературы
джахилии и периода Омейядов.
Быть придворным поэтом не всегда означало безопасную жизнь — особенно для такого человека, как Башшар, который был хорошо известен своей едкостью в выражении мысли. Его пессимизм и очевидное отсутствие набожности давали врагам возможность обвинить поэта в принадлежности к
зиндикам — еретикам-мапихеям, а карой за это была смерть. Башшар часто мог перевернуть свое красноречие в поэзию оскорбления и обвинения. и не всегда был настолько аккуратен, как следовало бы. В конце концов именно откровенность и острый ум стали причиной его падения. На одном из вечеров он повел себя настолько опрометчиво, что осмелился критиковать самого халифа Махди, нападая на пего за перекладывание своих обязанностей на министра Якуба ибн Дауда и за то, что халиф погряз в удовольствиях:
Проснись, Омейяд! Как твой сон затянулся!
Разрушено царство… О, люди, ищите
Халифа от бога среди тамбуринов!
{250}
Существует несколько версий событий, которые привели Баш шара к гибели. Согласно одной из них
{251}, он высмеял брата Якуба ибн Дауда, которого назначили правителем его родной Басры. Якуб пришел в ярость и сообщил государю, что Башшад оскорбил самого халифа. После настойчивых расспросов визирь с видимой неохотой воспроизвел скабрезный куплет, в котором халифа помимо всего прочего обвиняли еще и в прелюбодеянии со своими тетушками по материнской линии, и там грубо предлагалось его самого скинуть, а сына Мусу «вернуть назад в лоно Хайзуран [его матери]». Неудивительно, что халиф рассердился и приказал, чтобы Башшара доставили к нему. Якуб испугался, что правда выйдет наружу, к тому же Башшар при встрече может прочесть прекрасный панегирик и таким образом сорвется с крючка. Он устроил поэту засаду и убил его руками своих доверенных лиц на дороге от Басры до Багдада.
Абу’ль-Атахия (748–825) родился в очень бедной семье в Куфе. Было время, когда молодой поэт зарабатывал себе на жизнь, продавая горшки. У него не было возможности получить официальное образование, и, похоже, его бедное прошлое оставило в его душе болезненную занозу. Как и Башшар, Абу’ль-Атахия имел природные способности к языкам. Постепенно он вошел в круг человека по имени Валиба ибн Хубаб — фигуры, хорошо известной как своим богемным, веселым и открытым образом жизни, так и своей поэзией. Как многие амбициозные молодые люди, поэт тяготел к Башшару и заработал себе имя созданием панегирика халифу Махди. Из его биографии мы видим, что постепенно он привлек внимание двора и начал создавать стихи на другие темы, включая довольно вялую любовную лирику, посвященную девушке по имени Утба, рабыне, принадлежащей жене халифа Рите. Однажды в качестве подарка к Наврузу (персидский Новый год) Абу’ль-Атахия подарил халифу большой кувшин (ведь он был продавцом керамики) с благовониями, попросив, чтобы халиф в ответ подарил ему Утбу. Сначала халиф намеревался сделать это, но девушка забилась в истерике: «Я принадлежу к твоим домочадцам! — рыдала она. — Неужели ты отдашь меня какому-то уроду, который торгует кувшинами и еле наскребает на жизнь кропанием стихов?» Халиф смягчился и взамен приказал наполнить кувшин поэта монетами. Тогда Абу’ль-Атахия пришел в казну и потребовал, чтобы его кувшин наполнили золотыми динарами, но казначеи отказались: или серебряные дирхемы, или ничего. Выбор оставили за поэтом; поколебавшись, он в конце концов принял предложенные деньги. Как колко заметила по этому поводу сама Утба, тот факт, что воздыхатель так беспокоился о деньгах, не давал основания полагать, что его любовь настоящая.
При Хади и Гаруне Абу’ль-Атахия сохранял известность в качестве светского придворного поэта, но примерно в 795 году его стиль вдруг резко переменился. Поэт оставил как любовную поэзию, так и панегирики, и сосредоточился на написании аскетических стихов. Темами, которые он отныне выбирал, были мимолетность жизни и кратковременность удовольствий молодости. Эти чувства выражались простым, естественным языком, что обеспечивало стихам широкое распространение:
Потом ты увидишь, ты сам все узнаешь,
Все то, что пока от тебя за туманом,
Что сон гонит прочь, вызвав страх окаянный —
С течением времени сам все узнаешь;
Как счастье, богатство уходят, увидишь,
Тебе оставляя лишь пыль, горе, смерть —
Круг вечный вращения не одолеть —
Что должно, случится — ты сам все увидишь
{252}.
Третий член этой тройки, Абу Нувас (умер ок. 814), похоже, вовсе не волновался по поводу смерти и подобных ей вещей. Ею отец был солдатом в армии последнего Омейяда, начало жизни поэта прошло в Куфе, где он был учеником (а может быть, и любовником) известного поэта Валибы ибн Хубаба — который также, как мы видели, учил и Абу’ль-Атахию. Затем Абу Нувас переехал в Багдад, по поначалу его панегирики не пользовались успехом при дворе халифа, и он примкнул к окружению Бармакидов. После их падения в 803 году поэт, судя по всему, стал близким другом наследника, а затем халифа Амина. Десять лет, с 803 по 813 год, стали годами его славы, когда принадлежность к богатому и свободно живущему придворному кругу позволяла ему развивать в своих стихах все направления. Он умер вскоре после того, как был убит его покровитель Амин.
Абу Нувас хорошо известен как шутник и плут из истории «Тысячи и одной ночи», обретавшийся при дворе Гаруна, по в действительности он был прекрасным и очень серьезным поэтом, чьи работы немедленно признавались классикой. В течение следующих полутора веков они собирались и комментировались литературными критиками. Стиль Абу Нуваса был свежим и оригинальным, а его взгляды свободны от диктата общепринятой морали.
Вдобавок к обязательным панегирикам Абу Нувас воспевал роскошный образ жизни. Он являлся одним из самых крупных представителей лирики об охоте и вине.
К хозяйке постоялого двора.
Которая еще вполне пригожа,
Отправились компанией вчера
Сквозь ночь, что на гагат была похожа.
И никого вокруг, и тишина —
Лишь звезды с высоты ведут нас к цели.
Вот тут за дверью, верно, спит она,
Мы постучали…
— Кто там, в самом деле?
— Мы группа молодежи, что сюда
Пришла к двери, застигнутая ночью.
Не откажи в приюте. Ну куда
Пойдем сквозь темень и тумана клочья?
— Входите, — голос нежный нам пропел. —
Вот молодцы, что до меня добрались.
— Так наливай скорей, скрась наш удел,
Неси бутылки в долг, мы издержались.
Стаканы есть, вот вносится вино,
Лучистое, как солнце в день прекрасный.
— Скажи же цену, дорого оно?
— По три дирхема платят не напрасно.
Она опять пришла, когда мрак сник.
— С нас девять за троих, верна я слову.
— Твой ум, похоже, до конца не вник —
Без денег мы, бери в залог любого.
— Залогом будешь ты, раз выбор мой,
Пока друзья ваш долг мне не доставят,
И никогда не отпущу домой,
Плен вечным станет твой, коли слукавят
{253}.
Так поэтика о вине переворачивается и переплавляется в эротическую, и нигде это не случается чаще, чем с персонажем-юношей, который подает вино.
Юноша с манящим взглядом и со строгой речью,
С головой склоненной скромно, шеей безупречной.
Предлагает мне вино он и глоток надежды.
Обещает — не словами — быть со мной, как прежде
{254}.
Абу Нувас останавливается на идее, что его любовник — жестокий тиран; боль и удовольствие тесно переплетены в одно целое:
Прекрасно лицо со сверкающим кубком у губ.
Глазам с блеском стали пока неизвестен испуг,
Любовь оседлав, он летит, а успех за ним следом,
Опасен он тем, кто любви поглощающей предан.
Залогом успеха улыбка и арки бровей,
И копья ресниц, обрамляющих взгляд-суховей.
И поэт не в силах сопротивляться:
На каждой тропинке меня поджидает любовь,
Меч страсти вздымая над шеей моей вновь и вновь.
Но я не могу убежать, хоть боюсь я ее:
Трус каждый любовник, изведавший мщенья копье.
Амнистии сердца ни выпросить, ни заслужить.
Неужто же мне, как когда-то, свободным не быть?
{255}
В других случаях стихи содержат юмор пополам с эротикой; в них воспевается и мальчик-любовник, и ранимый юноша, и умный, ловкий молодой человек.
Я увидел того, кто, похоже.
Больше видеть меня не хочет.
Он сидел на молельном коврике
В группе шумных, веселых школьников
Он метнул на меня злобный взгляд —
Из-под век на меня брызнул яд.
Он в школе Хавса был учеником,
А с Хавсом я давным-давно знаком.
Воскликнул Хавс: «Мальчишка этот — пень,
Или в нем прочно угнездилась лень».
Раздели парня быстро догола.
Несут ремень — учить его пора.
Вдруг завизжал любовник мой:
«Постой, Учитель, стану честно день-деньской
Учиться и вести себя примерно!»
Тут я вмешался: «Хавс, решил ты верно,
Но все же лучше отпусти мальчишку,
Ремень для нежной попы — это слишком!
Он выучит всю книгу наизусть,
Ну а захочешь, и твою развеет грусть»
{256}.
Музыка вместе с поэзией была центром, вокруг которого вращалась придворная культура, и два этих искусства часто сливались в песне. Без сомнения, дворы Махди, Гаруна, Амина и до некоторой степени Мамуна являлись центром арабской музыкальной культуры. Число певцов, оригинальность песен, репутация и награды композиторам и исполнителям никогда не были одинаковыми.
Местом для выступлений обычно становились тесные пирушки в резиденции халифа, подальше от широкого двора и придирчивых глаз моралистов, потому что тогда, как и сегодня, многие благочестивые мусульмане не одобряли шумную и веселую музыку. На этих сборах музыканты обычно были отделены от халифа занавеской, так, чтобы он и его близкие друзья, а также женщины могли находиться с ним и слушать выступление, оставаясь невидимыми. Иногда выступавшие даже не имели представления о том, кто их слушает. Однако часто, когда по кругу пускали вино и вечер затягивался, барьеры падали, и халиф мог расслабиться. Такие известные музыканты, как Ибрахим аль-Мосули или ибн Джами, вероятно, удостаивались более близких отношений с правителем, чем любые ведущие политики или военные.
Подобные пирушки обычно были небольшими: пять-шесть музыкантов, не больше. Самым ходовым инструментом была лютня — по-арабски она называется
аль-юд: именно отсюда произошло английское слово
lute, как и французское
luth, итальянское
Huit, испанское
laud, немецкое
Lauth. Рождение этого инструмента сокрыто в глубине веков, но новая и более современная форма его была создала в Ираке в конце восьмого века нашей эры музыкантом по имени Зальзаль. Она называлась лютней Шаббут, поскольку се корпус напоминал рыбу с таким названием. Эго был четырехструнный инструмент с полым резонатором яйцевидной или грушевидной формы. Лютня остается любимым музыкальным инструментом арабов вплоть до настоящею времени. Обычно на ней играли деревянным медиатором. Лютни такого рода все еще можно встретить в продаже в
суках Дамаска и Алеппо, а также в руках любой группы традиционных арабских музыкантов.
Еще одним струнным инструментом был
тупбур, который отличался от лютни более длинным грифом и меньшим размером резонатора. Последний часто имел форму барабана и был обтянут кожей, которая давала звуковой тон, позволяющий солировать
{257}. Обычно
тупбур имел две или три струны; во времена ранних Аббасидов было известно два типа
тунбуров — багдадский и хорасанский. В анекдоте о пуританстве Мансура его показывают не знающим, что такое
тупбур — халифа вынужден просвещать слуга, который видел такой инструмент в Хорасане. Можно предположить, что инструмент попал в Багдад с востока лишь в самом начале правления Аббасидов.
Основным духовым инструментом был
мизмар, иногда известный под своим персидским названием
пай. Он представлял собой одиночную камышовую трубку с восемью отверстиями, позволяющими обеспечивать полную октаву. Существуют упоминания о металлической трубе (буг), но кажется, она больше использовалась для военной музыки, чем в выступлениях при дворе. Ударные инструменты были представлены барабаном
(табл) и тамбурином
(буфф), который мог быть квадратным или круглым. О тамбуринах с колокольчиками или со звенящими тарелками пет свидетельств вплоть до двенадцатого века — но вполне возможно, что они существовали и в описываемое нами время.
Ведущие певцы и музыканты пользовались при дворе Аббасидов огромной популярностью и хорошей репутацией. Такие певцы, как Ибрахим аль-Мосули и его сын Исхак, а также принц из рода Аббасидов Ибрахим ибн аль-Махди, остались в историях и легендах. Женщины-певицы (например, Хариб) славились не только талантом и интеллектом, но и красотой. Однако весьма часто певицы имели двойственную репутацию — многие считали, что они оказывают дурное влияние на молодежь. Халиф Махди, который сам обожал музыку, дал прямые инструкции, каких певцов держать подальше от своих впечатлительных юных сыновей, Хади и Гаруна. Не стоит и говорить, что пути обойти запрет находились всегда — но если это открывалось, наказывали певцов, а не принцев. В правление Гаруна молодые принцы дома Аббасидов приветствовали появление новых знаменитых певцов со всем энтузиазмом безумствующих фанатов.
Часто певцы происходили из провинции или из обнищавших родов; вероятно, они вносили некий глоток свежего воздуха в замкнутый мир двора Аббасидов. Таким был, например, Ибрахим аль-Мосули (743–804) —
«человек из Мосула»
{258}. Его семья Принадлежала к персидской знати провинции Фарс на юго-западе Ирана, но его дед Маймун вынужден был бежать от чиновников Омейядов, уехав с
родины в новый арабский город Куфа в Ираке. Здесь отец Ибрахима Махан женился на женщине из семьи мелкого землевладельца из Фарса, которая тоже искала в Куфе убежища. Ибрахим родился в Куфе перед самым переворотом Аббасидов, но его отец умер от чумы, когда ему было всего два или три года, поэтому будущий певец жил с матерью и ее братьями.
Когда Ибрахим пошел в начальную школу, ему повезло оказаться в одном классе с сыном Хузеймы ибн Хазима. Хузейма был одной из ведущих фигур в армии Аббасидов. Его семья пришла с северо-запада Ирана и говорила по-персидски — что, вероятно, и послужило причиной дружбы с юным Ибрахимом. Вскоре Ибрахим присоединился к семье Хузеймы и его племени Тамим. Позднее, когда халиф Гарун подшучивал над ним по поводу клана Тамим, певец объяснял: «Они воспитывали меня и были ко мне добры. Я вырос среди них, и нас связывают узы молочного братства».
Но ему не пришлось стать обычным учеником. Как позднее говорил его сын: «Отца отдали в начальную школу, где его ничему не научили; его постоянно били и оставляли после уроков, из чего не вышло ничего хорошего». Став старше, Ибрахим начал интересоваться пением и бродил повсюду с молодежью, которая мечтала заниматься музыкой. Брат его матери резко не одобрял поведения мальчика и заставил его бросить это занятие.
Именно тогда юноша и взял прозвище аль-Мосули; существует несколько историй, объясняющих, как это случилось. Согласно одной, он уехал в город Мосул в северном Ираке, где прожил год. Когда Ибрахим вернулся в Куфу один из старых друзей-певцов приветствовал его словами: «Привет молодцу из Мосула!» — не тех пор певец стал известен как аль-Мосули, несмотря на то, что его связь с этим городом была весьма условной. Согласно другой истории того времени, Ибрахим был связан с бандой разбойников. После каждого успешного завершения дела они собирались, чтобы отпраздновать удачу, на этих сборищах пили вино и пели песни. Там молодой Ибрахим набирался опыта музицирования и постепенно доказал, что он лучший. В конце концов он окончательно решил, что хочет стать певцом, и оставил сообщников, чтобы искать собственное счастье.
Его следующей остановкой стал иранский город Рей. Мы не знаем, почему Ибрахим решил осесть здесь. По это был важный перевалочный пункт на дороге из Ирака в Хорасан; возможно, певец решил, что столь людное и проезжее место дарит человеку его профессии много возможностей. Здесь он и остался жить, изучая персидские и арабские песни, здесь женился на персиянке по имени Душар, которой посвящены первые из его сохранившихся стихов. Вторая его жена по имени Шахак и стала матерью его знаменитого сына Исхака.
Ибрахим все еще ощущал себя учеником, проживал деньги, привезенные из Мосула, и пел с группой друзей в Рее. Однажды мимо проезжал евнух, которого халиф Мансур послал с письмом в правительственное учреждение в Хорасане. Он услышал молодого певца, выступающего в Рее в частном доме, и был очарован им. Перед отъездом евнух отдал певцу дорогой черный халат. Чиновник в Хорасане был очень доволен содержанием письма, поэтому, когда евнух, возвращаясь, проезжал через Рей, он имея 7000 дирхемов и много прекрасной одежды. Евнух отправился в дом Ибрахима и остался там на три дня. Уезжая, чтобы вернуться в Багдад, он оставил певцу половину одежды и 2000 дирхемов. Это были первые деньги, которые Ибрахим заработал пением, и он пообещал своему благодетелю, что истратит их только на повышение мастерства.
На этот раз, прежде чем двинуться в путь, Ибрахим узнал об учителе пения по имени Джуванбуя. Джуванбуя был персом, сохранившим старую зороастрийскую веру; теперь он преподавал пение в портовом городе Оболла в северной части Залива, По-видимому, Ибрахим уехал в Оболлу вместе со своими женами, хотя об этом нигде не сообщается. Когда он прибыл на место, то обнаружил, что Джуваибуи пет дома, поэтому ему пришлось дожидаться, пока тот вернется. Ибрахим рассказал, кто он такой и чем хочет заниматься, после чего был принят в дом учителя. В доме ему отвели одно крыло, и учитель поручил своей сестре прислуживать гостям и покупать для них все необходимое. Тем же вечером учитель вернулся домой с группой певцов-персов, и Ибрахим присоединился к ним, когда они разместились в
меджлисе.
Представьте себе простой дом из дерева и глиняного кирпича, где полы устланы коврами. Учитель с учениками уселись в кружок, скрестив ноги. Им подали вино, фрукты и ароматные травы. Зажгли масляную лампу, и по кругу пошла лютня. Но когда гости начали играть и петь, Ибрахим понял, что никто из них не может чему-то его научить. Когда подошла его очередь — во всяком случае, так рассказывал сам Ибрахим, — он заиграл и запел, а они все поднялись, стали целовать его в голову и сказали, что он их устыдил и скорее им есть чему учиться у него, а не ему у них.
Постепенно молва о талантах Ибрахима распространилась широко, и вскоре он привлек внимание Мухаммеда ибн Сулеймана — невероятно богатого принца из рода Аббасидов, который сделал своей резиденцией Басру, Спустя короткое время Ибрахим вошел в круг ибн Сулеймана. Принц был щедр, по оказался ярым собственником — он не разрешил Ибрахиму возвратиться в Куфу, что тот хотел сделать. Однажды в гостях у принца находился евнух халифа Махди. Похоже, эти люди но совместительству то и дело выступали как искатели талантов — по крайней мере, когда евнух увидел Ибрахима, он резко заявил Мухаммеду: «Халиф нуждается в нем больше, чем ты». На этот раз Мухаммед отказал евнуху, по тот по возвращении в Багдад рассказал Махди о молодом певце. Евнуха послали назад с приказом, ослушаться которого было нельзя. Ибрахима забрали к халифу, и с этого времени его судьба была решена.
Конечно, не так-то просто было удержаться при дворе Махди — халиф не одобрял богемное и буйное поведение Ибрахима, в особенности его любовь к вину, поскольку сам никогда не притрагивался к алкоголю. Но талант и ум Ибрахима всегда его спасали.
К моменту своей смерти этот бывший нищий бездельник и вечный ученик стал необычайно богат. Его сын подсчитал, что через руки отца прошли 24 миллиона дирхемов, — исключая его регулярное жалование в 10 000 дирхемов в месяц и годовой доход от поместий. Как приличествовало человеку с большим богатством, Ибрахим был необыкновенно щедр. В доме всегда имелась еда: он заявлял, что у него постоянно находятся в обороте три овцы — одна в котле, одна ободрана и висит на кухне, а третья еще жива. Как только первую приканчивали в виде жаркого, начинала готовиться вторая и забивалась следующая. Ибрахим также щедро дарил одежду и деньги девушкам-рабыням. Как и у любого представителя элиты старых времен, его капитал заключался в репутации щедрого человека, а не в накопленном богатстве. Когда он умер, у него оказалось лишь 3000 дирхемов, и 700 из них ушло на уплату долгов певца.
В этом авантюрном сюжете есть много других интересных моментов. Один из них — это очевидная значимость персидских традиций при сочинении арабской музыки. Похоже, манера Ибрахима, которая оказала такое влияние на культуру двора Аббасидов, была сплавом этих двух традиций. Что действительно поражает, так это роль правителей: именно представитель царствующего дома, проезжая через Рей, дал карьере Ибрахима первый толчок; другой чиновник Аббасидов оценил его талант и доставил певца в Багдад. Без участия этих людей Ибрахим аль-Мосули остался бы не более чем мелким музыкантом в скучном провинциальном городке.
Таким образом, поэзия и музыка играли исключительно важную роль в культуре и социальной жизни двора Аббасидов. У нас есть множество сведений о жизни придворных артистов; имеются тексты стихов, которые они писали. И все-таки еще больше мы уже не в состоянии восстановить. Увы, арабы того времени еще не создали системы нотной записи. Мелодии, которые ублажали халифов и приносили славу и богатство таким исполнителям, как ибн Джами и Хариб, потеряны для нас навсегда. Даже когда Абу’ль-Фарадж аль-Исфахани создавал в десятом веке свою великую «Книгу Песен», множество знаменитых мелодий классического периода уже затерялось
{259}. Аль-Исфахани пытался собрать все, что мог — вероятно, у каких-нибудь старух в гареме, которые пели песни, популярные много лет тому назад, в дни их молодости. Но если цепь разорвана, ее никогда не соединить: со смертью последнего певца песня оказывалась потеряна навсегда. Все, что осталось у нас от этой великой музыкальной традиции — это тексты, а также рассказы о певцах и их покровителях.
Глава VI
ЛАНДШАФТ С ДВОРЦАМИ
Где бы они ни обосновывались, в Багдаде или в Самарре, халифы рода Аббасидов неизменно оставляли свой двор в Ираке. Современные границы Ирака включают две очень разные области. К северу от Багдада земля представляет собой засушливую степь, через которую протекают две великие реки — Тигр и Евфрат. Берега их высокие и каменистые, лишь в нескольких местах можно отвести воду для орошения. Постоянные поселения здесь всегда ограничивались несколькими поселками на берегах Тигра, где на восточном берегу стояла древняя Ниневия, а много позднее, уже в седьмом и восьмом веках, возник мусульманский город Мосул.
Южнее Багдада начинается совсем другой мир. Тут две великие реки текут по широкой аллювиальной равнине, осадочные почвы которой, отложенные реками за тысячелетия, чрезвычайно плодородны. Это была та самая территория, что по-арабски именовалась Савад — Черная Земля. Именно тут, на засыпаемых песком, открытых всем ветрам равнинах центрального Ирака был создан своеобразный ландшафт из каналов, пальмовых посадок и богатых зерновых полей.
Земля здесь такая же плоская, как отвоеванные у моря польдеры Нидерландов, она дает по два урожая пшеницы и ячменя в год, в реках в больших количествах водится рыба, а знатоки говорили, что иракские финики были лучшими в мире., Повсюду рос сахарный тростник и лен, который давал исходный материал для текстильного производства в городских центрах, таких, как Ахваз. Не удивительно, что сад Эдема традиционно размещают в этом роскошном пейзаже.
Развитое сельское хозяйство этих богатых земель снабжало несколько самых крупных из древних городов человеческой цивилизации: Ур в третьем тысячелетии до нашей эры, Вавилон во втором и в первом. Именно туг впервые развились до высокого уровня письменность и способы ее хранения. Вместе с древним Египтом это было место возникновения чиновничества и письменной культуры. Но в отличие от Египта, время оказалось неблагосклонно к остаткам древней цивилизации Ирака. Тут нет огромных дворцов, подобных Карнаку, нет грандиозных гробниц, как в Долине Царей, нет и туристических круизов по водам великих рек. Остатки Ура и Вавилона поднимаются чуть выше, чем кучи глины, и интересны только специалистам.
Увы, на плодородных аллювиальных равнинах не было хорошего строительного камня: все здешние города, дворцы и замки возводились из кирпича. Ил и глина, обеспечивавшие богатое сельское хозяйство, давали также и строительный материал. Глиняные кирпичи обжигались в специальных печах, а сделанные из ила просто высушивали на палящем южном солнце. Кирпич из ила, называемый по-арабски
туб. являлся очень удобным строительным материалом — дешевым и пригодным для многих целей, а также отличавшимся хорошей теплоизоляцией. Увы, из него не получилось изысканных руин. Обожженный кирпич обычно воровали из развалин и использовали по повой, а кирпичи из ила просто вновь растворялись в ландшафте, из которого были первоначально созданы.
В отличие от Египта, сельскохозяйственная цивилизация Месопотамии была искусственной, она целиком являлась продуктом человеческой изобретательности и усердия. Разливы Нила до построения высокой Асуанской плотины в 1960-х годах были абсолютно естественным явлением. Река разливалась и приносила на землю не только воду, но и дающую плодородие грязь. Бывали хорошие годы, бывали плохие — но щедрость природы повторялась вне зависимости от того, использует человек этот дар или нет. В Саваде же реки требовали постоянной осмысленной работы. На большей части равнины вокруг Багдада и Вавилона, где две реки сходятся ближе всего, Евфрат течет на несколько метров выше Тигра. При соответствующей изобретательности воды могут через сельскохозяйственные земли быть проведены от одной реки в другую. Оросительные каналы проходили поверху дамб, чтобы можно было спускать воду на поля. За такими каналами надо постоянно следить: если они обветшают и разрушатся либо в берегах появятся бреши и осыпи, вода вырвется и затопит местность, которая вскоре заболотится и засолится.
Сельскохозяйственные земли Месопотамии потенциально являлись самыми богатыми в мире — но им требовалась стабильность, забота и умелое управление, позволявшее сохранить их потенциал. Жившие здесь ранее шумеры и вавилоняне наглядно показали это.
Персидские шахи из династии Сасанидов создали традицию, по которой равнины являлись как зимней резиденцией правителей, так и главным источником их дохода. Первые Аббасиды стали и последней из великих династий, кто сохранял эту ресурсную базу и использовал ее для поддержания империи. К началу десятого века из-за неправильного управления и частых войн система каналов пришла в упадок, часть дамб была разрушена, и плодородные земли сильно пострадали от разорения, последствия которого так никогда и не были преодолены.
Но пока системой разумно и умело управляли, отдача от нее была огромна. В конце восьмого века чиновник, работавший на администрацию Аббасидов в Багдаде, составил контрольный список годового дохода, который ожидался от каждой провинции империи
{260}. По этой оценке Ирак от Багдада до Арабского залива собирал в четыре раза больший урожай, чем вторая по богатству провинция — Египет, и в пять раз больше, чем Сирия и Палестина. Согласно расчетам, Ирак платил или должен был платить в казну (по финансовым отчетам того периода часто невозможно понять, какое отношение данные цифры имеют к тому, что заплатили в действительности) 160 миллионов серебряных дирхемов.
Дирхем, тонкая серебряная монета, которую мусульмане унаследовали
аг персидских Сасанидов, весила примерно три грамма — таким образом, люди этою региона каждый год платили и казну халифа полмиллиона килограммов или 500 тонн серебра. Именно на эти огромные средства содержался двор Аббасидов. Без этих денег не были бы построены роскошные дворцы, нечего было бы платить армии, голодали бы поэты, а женщинам оставалось бы лишь латать заношенные одежды.
После успешного завершения переворота 750 года, приведшего их к власти, Аббасады вполне естественно тяготели к Ираку. Их привлекали большие богатства этой области — по также и твердо установившиеся среди местного населения традиции поддержки семьи Пророка. Конечно, наиболее важная военная поддержка прибыла к Аббасидам из далекого Хорасана, лежащего в 1600 километрах на северо-востоке. Но географическая удаленность делала Хорасан крайне неудобным для размещения столицы империи. Ирак же имел хорошие связи со всеми провинциями, а старая хорасанская дорога, которая вела от равнин Ирака через теснины гор Загрос и перевалы, известные как Врата Азии, на Иранское плато, являлась одной из главных магистралей древнего мира.
Ирак был идеальной базой для нового режима — по ни один из развитых мусульманских городов страны не мог быть выбрал в качестве резиденции халифа. Куфа, расположенная возле древнего Вавилона, имела давние традиции политических беспорядков и раздоров между враждующими местными группировками. Портовый город Басра, ворота Арабского залива и выход в Индийский океан, была слишком удалена и вдобавок имела слишком выраженные свои интересы.
Имелись и другие причины искать новое место для столицы. Вне тесноты развитого городского центра халиф мог свободно планировать город по своему желанию, не нарушая уже сформировавшихся владений подчиненных. Здесь он имел возможность не только сам разрабатывать планировку будущего города, но и награждать своих избранных сторонников любыми участками земли.
Двор халифов являлся экономическим магнитом, который притягивал людей со всего Среднего Востока. Самые богатые люди мира жили тут, это был центр мира потребления, не столь привычного для данной эпохи. Тут постоянно имелось большое количество солдат — не таких богатых, как купцы или сановники, по все же получавших неплохое жалованье, которое они могли тратить. Тут крутились просители, поэты и охотники за удачей всех маетен, которые мечтали приблизиться ко двору. Недвижимость постоянно росла в цене. Халиф мог раздавать своим сторонникам земли, которые приобрел совсем дешево или задаром — а уж они обустраивали их и ловили свою удачу.
Сначала Аббасиды жили в маленьких городках или просто в палатках, как Мансур, когда приказал убить Абу Муслима. В 762 году Мансур решил обосновать новую столицу в Багдаде — тогда это была еще крохотная деревушка, не имевшая никакого политического или экономического значения. Это оказался крайне разумный выбор. Как определил сам халиф, поставки могли приходить по реке со всех направлении — зерно по Тигру и Евфрату с севера, финики и рис с юга, а предметы роскоши даже из далекого Китая. «Если я поселюсь в таком месте, куда нельзя будет завозить товары по земле и по морю, цепы будут высокими, вскоре обнаружится нехватка, трудной будет доставка пищи»
{261}.
Только хорошее водное сообщение давало возможность прокормить большой город. Тщательное экономическое планирование было одним из факторов, который гарантировал, что Багдад не разделит жалкую судьбу других столиц-однодневок, покидаемых жителями вслед за исчезновением их основателя или его династии. Новая столица осталась процветающим городом вплоть до наших дней.
Конечно, тот город, что построил Мансур, ныне полностью исчез. Даже его очертания невозможно проследить на карте по сохранившимся кое-где остаткам. Может быть, поколение назад еще можно было восстановить некоторые части первых стен и фундаментов, а также ответить на ряд вопросов, мучающих современных историков — но ныне эти возможности утеряны, и следы последующего развития сделали маловероятными какие-либо новые существенные открытия. Но мы все-таки имеем два очень подробных описания деятельности Мансура
{262} и рассказы о нем, а также кое-какие детали, разбросанные но множеству других источников. Кроме того, существует несколько сохранившихся укреплений того периода в городе Ракка и дворец Ухандира в пустыне; они могут дать некоторое представление о том, как выглядел город при Аббасидах.
Если сильно напрячь воображение, можно попытаться реконструировать тогдашний Багдад: мысленным взором мы увидим, где текли каналы, сможем пройти по дороге от официального города через
сук и книжный рынок. Мы двинемся по продуваемым ветром немощеным улицам, мимо прилавков с едой, к кварталам ткачей и ювелиров— и далее, в более бедные кварталы, где вдоль стен сидели на корточках недавно прибывшие переселенцы, а дорога исчезала на краю пыльной пустыни. Мы можем пройтись мимо глухих стен из илового кирпича и одноэтажных домов с плоскими крышами — такими удобными, чтобы спать на них в жаркие летние ночи. Мы знаем (хотя, конечно, не можем этого увидеть), что каждый дом окружен двором, который, велик ли он или мал, является настоящим центром жизни семьи. Мы знаем, где знатные люди построили свои дворцы, где их сады спускались к берегам Тигра. Мы знаем названия и местоположение мечетей, которые они любили, и кладбищ, на которых были похоронены.
Халиф распланировал будущую столицу очень широко и, даже несмотря на свою известную всем скупость, готовился вложить в ее строительство громадные суммы. Он заложил город в 762 году, когда правлению Аббасидов угрожало восстание Мухаммеда Чистая Душа и его брата. Мансуру требовалась безопасность — то есть в первую очередь городские стены и казармы для войск. В то же время он хотел также построить мечеть и дворцовый комплекс, которые будут поражать посетителей: Багдад должен был выглядеть настоящей имперской столицей, а не просто роскошной крепостью.
Центральное место в проекте Мансура занимал абсолютно круглый центральный город с четырьмя воротами, смотрящими на северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад. Дороги от ворот вели к Хорасану, Басре, Куфе и в Сирию. В центре этого города стояла мечеть, рядом с ней расположился дворец, известный как Золотые Ворота. Что еще должно было наполнять Круглый Город, не совсем ясно — похоже, первоначально он представлялся как пространство для рынков, но вскоре они выдвинулись далеко за стены, а все очерченное Мансуром пространство стало чем-то вроде официального огороженного места для солдат и чиновников.
Историков весьма интересуют источники этой грандиозной идеи. Шахи Сасаниды строили круглые города, следы которых все еще можно увидеть в таких местах, как Фирузабад в Фарсе. Однако очень похоже, что ни один из них не был так логично спланирован и сильно укреплен, как Багдад. Халифы Омейяды строили города и дворцы — но ни один из них не был круглым по форме. Похоже, концепция круглого города принадлежала самому халифу. Глядя сегодня на традиционные города Среднего Востока — Дамаск, Алеппо, Фес, Марракеш или Сану — легко предположит! что мусульманские города не имели планировки и развивались естественным образом. Узкие
суки и продуваемые ветром улочки, часто заканчивающиеся тупиком, предполагают отсутствие формального планирования и государственного контроля за строительством. Но планировка Багдада, а впоследствии Самарры, показывает, что это лишь часть истории, и халифы умели составлять такие же великолепные масштабные планы, как их римские или персидские предшественники.
Арабские источники, описывающие строительство Круглого Города, с удовольствием приводят нам статистику. Архитектор Рабах, который руководил возведением главной стены, сообщал, что между двумя соседними воротами
(это четверть круга) на каждый ряд кладки расходовалось 162 000 кирпичей. Кверху стена становилась немного тоньше, здесь требовалось лишь 150 000, а затем — 140 000 кирпичей
{263}. Большинство кирпичей было сделано из ила, их укладывали на мокрую глину; там же, где использовался обожженный кирпич, era цементировали известковым раствором
{264}.
Сами кирпичи тщательно изготовлялись по жестким требованиям. Согласно одному источнику
{265} каждый кирпич имел диаметр примерно в полметра (локоть) и весил около 80 килограммов (200
рапиюв), хотя эти параметры могли варьировать. Много лет спустя, когда сносили одну из секций стены, рабочие нашли кирпич с нанесенной красной краской пометкой, что он весит 117
ратлов (около 46 кг). Рабочие взвесили его и обнаружили, что вес указан точно
{266}. Конечно, со всеми цифрами этого периода мы должны быть осторожны и яс принимать их на веру полностью — но создается впечатление, что производство кирпичей контролировалось чиновниками достаточно строго.
Строительство Круглого Города было грандиозным инженерным проектом, требующим укладки миллионов огромных кирпичей, не говоря уже о более квалифицированной работе при постановке сводов и арок. Здесь нельзя было обойтись трудом одних рабов или малоквалифицированных неопытных рабочих. Говорили, что на стройке было занято 100 000 рабочих (вероятно, это преувеличение), и каждому ежедневно платили долю серебряного дирхема мелкими медными монетами. Как правило, обычный рабочий получал одну двенадцатую дирхема в день, мастер — в два раза больше. Это кажется не особенно большой суммой — но стоит заметить, что овца в то время стоила один дирхем, ягненок — четверть дирхема. На дирхем можно было купить 30 килограммов фиников или 8 литров масла. Выглядит так, что даже самый простой рабочий мог обеспечить пропитание себе и своей семье, а время от времени даже позволять себе мясо. Не удивительно, что со всего Среднего Востока сюда приезжали мужчины, чтобы работать на стройке.
В центре Круглого Города стояли мечеть и дворец, две арены существования владык. Они имели общую стену, и дверь вела непосредственно из дворца к отгороженному месту правителя в мечети
{267}.
Мечеть, построенная Мансуром, имела самую простую форму. Это было прямоугольное в плане здание с обширным двором в центре. Вокруг двора шла галерея, поддерживаемая деревянными колоннами, с залом для моления на одном конце, тоже с деревянными колоннами. Нет упоминаний о каких-либо выдающихся украшениях интерьера мечети. Это скорее было место для собрания мусульман, чем
для проявления высокого религиозного накала. В период поздней империи римские правители использовали театры, чтобы обращаться к собравшемуся народу во время кризисов или перед лицом наступающей опасности. Мансур использовал мечеть для той же цели. Он часто проповедовал верующим во время пятничных молений
{268}, и огромная доля его авторитета и репутации была основана на прилюдных появлениях монарха в мечети в сердце Круглого Города.
Известно, что его сын Махди в некоторых ситуациях тоже проповедовал на публике, но похоже, что позже халифы постепенно оставили эту практику — по крайней мере, арабские авторы больше не упоминали о случаях произнесения властителями речей в мечетях. Вероятно, они более не были так уверены в своей способности руководить толпой. Это стало частью более общего стремления монархов к уединению за воротами своих дворцов.
У нас есть довольно полное описание дворца халифов
{269}. Он занимал чуть более 200 квадратных метров. В его сердце находился огромный
иван размером примерно 15 на 10 метров. Дверь позади него вела в зал для приемов площадью 10 квадратных метров, перекрытый сводчатым потолком. Над залом находилось еще одно помещение со сводом десятиметровой высоты, до верха купола. Снаружи купол был зеленым и поднимался примерно на 40 метров над уровнем земли. Говорят, на его вершине стояла статуя, и он был виден даже с окраин города.
Дворец Золотые Ворота с зеленым куполом недолго оставался резиденцией халифов; уже Мансур стал постоянно жить во Дворце Вечности, который был построен на берегу реки, вне стен Круглого Города. Однако дворец Золотые Ворота сохранял при Аббасидах свое символическое значение: согласно свидетельству автора начала десятого века, «он венчал Багдад, был ориентиром для всего района и одним из великих достижений Аббасидов». Когда в марте 941 года он рухнул «в ночь проливного дождя, страшного грома и ужасающих молний», его падение было воспринято как предсказание падения самой династии
{270}.
Халиф искал идеи для монументального архитектурного сооружения, утверждающего его авторитет. За образец Мансур принял великие дворцы Сасанидов, чей облик отныне обеспечивал демонстрацию величия халифов: лишь в нескольких километрах от Багдада располагалась громада шахского дворца в Ктесифоне. Его огромная каменная арка, сохранившаяся до наших дней, является самым большим кирпичным пролетом, сооруженным в древности
{271}. Эта великая арка, даже лежащая в руинах и продолжающая рассыпаться, являлась наглядным примером величия и подвигала на повторение опыта Сасанидов. Для халифов она стала источником вдохновения и поводом к соревнованию. Согласно одному из рассказов, который вполне может быть неправдой, но все-таки вызывает благоговейное отношение к этому сооружению, Мансур попытался разобрать его, чтобы вновь использовать слагавший арку кирпич — но, как и те султаны Египта, которые пытались разобрать пирамиды, с удивлением обнаружил, что памятники древности способны противостоять усилиям потомков.
Существовали и другие персидские постройки, дававшие пример того, как монархи могут демонстрировать свою власть. По великой хорасанской дороге, там, где она начинала подниматься в горы Загрос, стоял дворец Сасанидов, называемый Каср-и Ширин (дворец Ширин). Должно быть, Мансур и его придворные знали о нем. Каср-и Ширин был более современным сооружением, чем Ктесифон; судя по сохранившимся руинам, он сочетал в себе два архитектурных элемента, которые позднее образовали ядро дворца Мансура и его наследников — зал
-иван и купольное помещение.
Хотя от этого творения Мансура ничего не осталось, другой дворец Аббасидов по большей части дожил до нашего времени. Это строение в Ухайдире, примерно в 80 километрах к юго-западу от Куфы.
[21] Дворец в Ухайдире — величественное сооружение, громадное и одиноко возвышающееся на плоской каменистой пустыне. Гертруда Белл, великий археолог и путешественник, посетила Ухайднр в 1909 году и написала о нем так:
Из всех прекрасных переживаний, которые я испытала на своем пути, первое появление на горизонте Ухайдира — самое памятное. Он вздымал из песка свои могучие стены, почти не тронутые временем, разрывая длинные линии пустоты громадными башнями, крепкими и массивными, будто бы являясь, как я поначалу подумала, творением природы, а не человека
{272}.
Даже Арчибальд Кресуэлл, глубокий, но весьма сухой знаток ранней мусульманской архитектуры, был настолько задет им, что написал:
«Ухайднр в своем одиночестве — одно из наиболее впечатляющих сооружений, которые я когда-либо видел»
{273}.
Дворец стоит внутри высокой прямоугольной ограды-укрепления размером 175 на 169 метров — если верить источникам, это лишь немногим меньше, чем занимала резиденция Мансура. Степы имели высоту около 17 метров — почти такую же, как степы Круглого Города в Багдаде, и так же, как в Багдаде, усилены множеством круглых башен. Посетитель проходил через главные ворота и под опускную решетку. Такие решетки были известны уже римлянам и часто использовались в раннемусульманской военной архитектуре. Однако, в отличие от классической железной решетки западных средневековых замков, арабские устройства подобного типа были из сплошного дерева или железа, они поднимались и опускались вертикально. Посетитель проходил по темному коридору в зал с кирпичным сводом и с помещениями для охраны по обеим сторонам, а потом оказывался на резком свете большого двора, окруженного глухими галереями с остроконечными арками, поддерживаемыми колоннами. Во дворе, точно напротив входа, находился открытый
иван с квадратным порталом.
В этом дворце
иван был меньше, чем в Багдаде, — всего лишь 10 метров в ширину и 6 в длину, он перекрывался цилиндрическим сводом. Дверь в дальнем конце зала вела в квадратное помещение, в котором халиф или принц мог ожидать своих посетителей.
Иван и зал приемов были окружены более мелкими комнатами, часть из которых имела великолепную отделку.
Материал дворца в Ухайдире — в основном булыжник вперемешку с обожженным кирпичом, используемым только для сводов. Здесь нет цельных каменных колонн, все опоры сделаны из кирпича и бутового камня. В разрушенном состоянии дворец смотрится грубо и неизящно, на нем не видно фресок и тонкой резьбы классической каменной архитектуры. Но совсем не это лицезрел посетитель восьмого века. Стены, которые ныне выглядят неровными и голыми, были тщательно оштукатурены. Подобно тисненым обоям, их покрывал повторяющийся рисунок из стилизованных растений и виноградных лоз. Штукатурка могла быть раскрашена, а полы покрыты коврами. Вне более крупных комнат стены были просто покрыты штукатуркой, ее фрагменты кое-где все еще можно найти. Все было предназначено для создания эффекта мрачного изобилия — особенно по контрасту с ярким и резким светом внутреннего двора и окружающей пустыни. Во дворце имелась маленькая мечеть и, «по самое важное для комфорта в пустыне — баня, где измотанный и грязный путешественник мог почувствовать облегчение и переменить запачканную в пути одежду.
Дворец был создан не для того, чтобы производить впечатление идеальностью архитектурных форм, а чтобы провести посетителя через ряд помещений, ведущих в зал приемов. Подобно анфиладам комнат в европейских дворцах семнадцатого века, это обеспечивало гостям возможность осмотра и оценки. Бедные или нежеланные посетители едва ли допускались за пределы плавного двора, почетные гости принимались в
иване или комнате для приемов, более приближенные допускались в комнаты поменьше, окружавшие официальное пространство. Именно в одном из таких мест Иса ибн Муса ожидал с сыном, пока его допустят к халифу Мансуру, когда заметил, что балки деревянной крыши трясутся, и на его одежду сыплется пыль. Когда его наконец вызвали, он предстал перед владыкой в грязной одежде — и тогда стало ясно, что все это организовал халиф, который хотел унизить гостя на публике
{274}.
У нас есть множество историй о том, что говорилось на аудиенциях, даваемых халифом в своем дворце, но лишь немногие рассказы описывают архитектурное окружение. Гостей из провинции принимали в
иване{275}. В одном рассказе
{276} упоминается, что на аудиенции у Мансура каждый день бывало до семисот придворных. Когда прием начинался, занавес над входом в зал открывался
{277}, и посетители допускались внутрь. Во времена Майсура это делалось четко по рангам, все организовывал управляющий Раби, и никакие мольбы не могли склонить его изменить ритуал. Однако халифы могли заставить тех или иных людей входить последними, если хотели оскорбить или унизить их
{278}.
Представители разных классов населения входили в определенном порядке. Поэт Исхак аль-Мосули славился своим знанием литературы и законов, а также как прекрасный певец. Однажды он попросил, чтобы ему позволили приходить на аудиенцию к Мамуну с писателями и интеллектуалами, а не с певцами, и это право ему было даровано. После этого он решил, что хотел бы продвинуться еще выше и присоединиться к ученым-религиоведам
(фукаха), и это было дозволено тоже. Финал социального триумфа поэта видели два возмущенных коллеги, наблюдавшие от стены зала для аудиенций: Исхака вел за руку вел не кто иной, как сам главный судья, и когда он дошел до халифа, то попросил разрешения появляться при дворе Аббасидов по средам в черном и присоединяться к халифу с его ближайшим окружением в мечети
{279}. Исхак использовал формальную процедуру аудиенций, чтобы показать, насколько он стоит выше своих товарищей-певцов.
Еще в одном рассказе из времен Мансура мы видим, что халиф сидит, скрестив ноги, на приподнятой платформе, укрытой
фарш, стегаными одеялами и подушками — хотя в другой истории говорится о халифе, сидящем на стуле, очевидно, представлявшем собой небольшую разновидность трона. Слева и справа от Мансура размещались ближайшие члены его семьи, включая сына и наследника Махди, если он находился в Багдаде
{280}. Герой истории, в которой это описывается, некий Ман ибн Занда, хотел привлечь внимание халифа, поэтому оделся чрезвычайно эксцентрично — в длинную кольчугу и длинный свободный тюрбан, а также взял изогнутый меч, который волочился по земле. Это произвело желаемое впечатление. Когда аудиенция была закончена и люди начали расходиться, Ман как раз собирался уйти за занавеску, но тут халиф потребовал, чтобы он вернулся. Раби приказали убрать всех из дворца. Затем последовал резкий разговор, во время которого халиф взял из-под
фарш железный жезл и погрозил им Ману. Однако затем он успокоился и, уверившись в лояльности Мана, предложил последнему довольно трудную должность правителя Йемена. Затем халиф вынул, опять из-под
фарш, бумагу о назначении — стандартный заранее подготовленный бланк, куда оставалось только вписать имя Мана. На следующий день Ман отправился к месту назначения.
Эксцентричный наряд Мана был тем более заметен, что при аудиенции требовалась придворная одежда. Со времени революции, которая привела Аббасидов к власти, черный стал цветом их знамени и военной униформы. Последняя включала высокую коническую шапку под названием
калансува, которую обычно делали из шелка, она была похожа на удлиненную феску
{281}. Эти странные шапки держались на внутреннем каркасе из дерева или тростника и по форме напоминали суживающийся кверху кувшин для вина. Гарун не любил этот головной убор, который к его времени, вероятно, уже выглядел старомодным, но
калансува снова была возвращена в обиход халифом Мутасимом в начале девятого века. Вне двора обычным головным убором для мусульман всех сословий был тюрбан, хотя тюрбаны знати, естественно, были гораздо наряднее; говорят, что золотое шитье на тюрбане несчастного халифа Амина было просто поразительным
{282}. Существовали также длинные
тайласаны, чем-то напоминающие капюшоны академических мантий
{283}. Покинув двор, человек испытывал истинное облегчение, имея возможность добраться до дома или временного пристанища я освободиться от тяжелого формального облачения
{284}.
На аудиенциях назначались чиновники и наместники, зачитывались официальные объявления. Когда халиф Махди захотел уговорить одного из лидеров дома Али выйти из укрытия и сдаться, он публично объявил на одной из аудиенций о том, что Алид будет в безопасности, и с ним будут хорошо обращаться. Ободренный этой гарантией, беглец действительно сдался, и его безопасность была гарантирована как юридически, так и народным мнением
{285}.
Халифы также использовали аудиенции как выпускной клапан для жалоб на администрацию. Эта процедура, известная как
мазалим, теоретически позволяла любому человеку, каков бы ни был его социальный статус, предстать перед халифом или его представителем, ища защиты — обычно от давления чиновников. Халифы вынуждены были делать это как хранители справедливости исламского общества. Хади приказал своему управляющему никому не запрещать
приходить к нему, «чтобы не лишиться благословения Аллаха»
{286}. Если халиф не проводил такого мероприятия в течение трех дней, его визирь упрекал государя за пренебрежение своими обязанностями, и халиф должным образом проводил открытую сессию, принимая жалобы весь день
{287}. Наши источники полны рассказов о том, как правители отвечали на жалобы бедняков и тех, кто лишился собственности по вине мелких тиранов-чиновников. Трудно сказать, сколько тут было от желаемого и насколько эти рассказы отражают реальность, но их политическая философия ясна: халиф должен быть доступен для народа, чтобы исправлять несправедливости, чинимые его слугами.
Вне политической области лежала домашняя сфера. В Ухайдире для внутренних служб дворца отводился ряд более мелких прямоугольных двориков с открывающимися в них комнатами. Каждый из таких двориков был отделен от других, но все их соединяли длинные сводчатые коридоры. Невозможно узнать. как их точно использовали; некоторые помещения могли предназначаться для гостей и их сопровождающих, другие отводились женам и членам семьи правителя.
Одной из черт, которая делала мусульманские дворцы того периода непохожими на огромные здания Западной Европы, с которыми мы знакомы куда лучше, было наличие помещений с особым, специфическим назначением, типичных лишь для мусульманского востока.
Иван и зал приемов имели абсолютно четкие функции, их архитектурные формы отражали их назначение. То же самое относилось и к дворцовой мечети, обычно определяемой археологами по крытому помещению, открытому двору, а главное — по наличию
михраба, то есть пиши, направленной в сторону Мекки. Особым помещением являлась и баня, окруженная рядом небольших комнаток с куполами.
Отдельно от этих сооружений располагались домашние постройки и здания общего назначения — все, что требовалось при крупной усадьбе. Обычно они отличались простой архитектурой и внешне не производили особого впечатления: роскошь достигалась внутренней обстановкой, в первую очередь создаваемой тканями и мягкой утварью — тем более, что
фарш легко можно было переносить из одной комнаты в другую.
В отличие от средневековых дворцов Запада или от стамбульского дворца Топкапи, в арабских строениях обычно не имелось жесткой мебели. Даже самые выдающиеся люди сидели на коврах, на полу или на
фарш. Традиционными являлись большие ковры, известные как
бассат, а молельные коврики
мусалла обладали высочайшим статусом; на таком сидел в своем дворце сам Мансур
{288}. Когда управляющему Раби не предложили сесть на молельный коврик во время посещения одного из его соперников по дворцовой администрации, он воспринял это как жестокое оскорбление и немедленно начал планировать месть
{289}.
Статус личных апартаментов означал, что туда допускались только немногие посторонние, но все же у нас есть несколько описаний, которые дают картины внутренней обстановки этих помещений. Как обычно, они имеют форму рассказа о людях и их поступках, ссылки на детали интерьера в них даются лишь вскользь. Одним из людей, допущенным в личные апартаменты халифа, был Мухаммед нон Сулейман. Он являлся кузеном халифов Мансура, Махди и Гаруна из младшей ветви семьи Аббасидов. Отношения с ним, очевидно, считались достаточно близкими, раз его принимали как члена семьи и допускали туда, куда другие проникнуть не могли.
Мухаммед ибн Сулейман был по-своему интересным человеком. Его семейная ветвь обитала в огромном портовом городе Басра и необыкновенно разбогатела. Сам Мухаммед слыл опытным политиком и военным, при этом не проявляя особых амбиции в отношении престола. Однако он играл важную роль — например, при обеспечении мирного вхождения в наследство Махди, когда во время паломничества неожиданно умер его отец Майсур. Мухаммед ибн Сулейман также
славился своей скупостью — когда он умер осенью 789 года, халиф Гарун послал чиновников конфисковать его огромные богатства; люди халифа обследовали все чердаки и складские помещения и обнаружили громадные количества предметов обстановки и тканей, благовонии и всевозможной утвари, а кроме того, описали множество рабов, лошадей и верблюдов. Похоже, Мухаммед никогда ничего не выбрасывал: в его доме были сложены подарки, присланные из земель вокруг Арабского залива, из Фарса, Омана и восточной, Аравии. Он хранил даже запачканную чернилами одежду, которую носил, еще будучи учеником. Люди Гаруна обнаружили так-же большие запасы рыбы, пряностей и сыров — почти все уже. испорченное. Проявив полное отсутствие уважения к горожанам, чиновники выбросили огромное количество испорченной рыбы на улицу-за дворцом покойного, и жители Басры вынуждены были много дней избегать этого прохода из-за вони
{290}.
Однажды Мухаммед ибн Сулейман пришел навестить Мансура в холодный. зимний день после его болезни — и был удивлен тем, что увидел:
Меня провели во внутренности дворца, которых мне никогда не показывали прежде. Я вошел в крохотное помещение, состоящее из одной комнаты с портиком с одной стороны, опиравшимся на единственную колонну из тиса: эта колонна отделяла комнату от дворика. Он занавесил портик тростниковыми циновками, как обычно делается в мечетях [зимой]. Я вошел в комнату, там лежал <. -.,ый ковер, а на нем лишь стеганый матрасик, подушка и одеяло, и ничего больше.
Я сказал ему: «Повелитель правоверных, желаю тебе быстрее покинуть эту комнату!» — но он ответил: «Это то место, где я сплю, брат». «И тут все, что у тебя есть?» — спросил я. «Все, что видишь», — ответил он{291}.
Ни стационарных кроватей, ни кушеток, ни декорированных потолков — самый могущественный человек в мире спал на стеганом матрасе на полу крохотной пустой комнатки. Салам аль-Абраш, который, будучи евнухом и членом домашней прислуги, тоже допускался в частные апартаменты, вспоминал, что халиф имел помещение с двориком и палаткой с матрасами и подушками. Его сын Махди спал в алькове с портиком, выходящим в помещение, гае спали его слуги, чтобы они могли слышать, когда ему что-нибудь нужно
{292}.
Идея жить в палатке, а не во дворце сначала может покататься странной, но это не являлось чем-то особенным. Мы видели, как перед возведением Багдада Майсур держал свой двор в палатках, даже осуществляя такое важное дело, как убийство Абу Муслима. Махди тоже находился в палатке, разбитой прямо во дворе его дворца, когда принимал отречение Исы ибн Мусы от прав на халифат
{293}. Подобную практику можно встретить повсюду в мусульманском мире: хивинские ханы в Хорезме девятнадцатого века обычно разбивали свои юрты во дворе дворца на специально установленных платформах. Они предпочитали жить зимой в палатках, так как там было теплее, а в продуваемых помещениях дворца обитали только летом.
Но не все жили в таких аскетических условиях. Однажды в 783 году визирь Якуб ибн Дауд был вызван халифом Махди во внутреннюю комнату дворца. Он нашел халифа в комнате, убранной розовыми подушками и тканями, глядящей в сад, полный роз, яблонь и персиковых деревьев в цвету. В комнате сидела девушка-рабыня удивительной красоты, также одетая в розовые одежды. «Тебе нравится? — спросил халиф, на что Якуб ответил, что действительно очень красиво, и он надеется, что халиф получает удовольствие. «Возьми все, — произнес халиф и добавил для полноты: — И девушку тоже, чтобы твое удовольствие было полным».
Благодарный визирь ушел, чтобы наслаждаться щедрым даром халифа. Он получал такое удовольствие от девушки, что никак не мог от нее оторваться, даже когда приходили гости. Визирь попал в классическую любовную ловушку. Халиф подозревал Якуба в изменнической связи с членами семьи Алидов, а девушка была шпионкой. Со своего места за занавеской она слышала все и докладывала об услышанном своему настоящему хозяину
{294}. Вскоре Якуба переместили из его розового гнездышка в черную зловонную темницу, из которой он вышел лишь много лет спустя, старым разбитым человеком, который не желал уже ничего — только уехать в Мекку и дожить свои дни в безвестности.
Халифы принимали меры, чтобы избежать изнуряющей жары иракского лета. И снова Мухаммед ибн Сулейман описывает эти домашние детали
{295}. Владыки Сасанидов, объяснил он, обычно каждый день покрывали крышу комнаты свежей мокрой глиной. Они также использовали тростниковые и ивовые желоба, идущие вокруг комнаты, в которые укладывался лед. Монархи и сановники пользовались таким примитивным способом кондиционирования, дабы наслаждаться послеобеденным отдыхом. Аббасиды усовершенствовали эту простую систему, догадавшись натягивать на окопные проемы мокрые полотнища. Говорят, что Мансур первым использовал
хайш, позже известный в Британской Индии как панках. Это устройство представляет собой кусок ткани или мешковины, натянутый на прямоугольную деревянную раму и подвешенный к потолку; рама может двигаться туда-сюда (с помощью специального слуги), работая своеобразным веером
{296}. Вскоре стало ясно, что чем тяжелее и мокрее ткань, тем более эффективно она охлаждает. Мы также знаем, что халифы часто пересиживали жару в своих летних домах — переносных сооружениях из дерева и ткани, открытых с одной стороны, обычно смотрящей на реку
{297}.
Обычно дворцы того времени были одноэтажными, но в некоторых имелись комнаты наверху. Согласно одной из историй, Махди сидел у окна верхнего этажа, когда увидел девушку с тарелкой груш, одна из которых была отравлена — и, как мы помним, стала причиной его смерти
{298}. Хади имел в своем иранском дворце, в котором он жил до того, как стал халифом, прекрасный бельведер.
Мухаммед ибн Сулейман дает описание приготовлений к послеобеденному отдыху халифа во время полуденной жары. Он нашел молодого халифа облаченным лишь в тонкую тунику, бедра его были обернуты широкой тканью с красным рисунком. Комната была пустой, без ковров, а дверь оставалась открытой, чтобы впустить прохладный бриз. Гарун не любил наличия в комнате
хеши — возможно, его раздражал движущийся механизм, либо он предпочитал полное уединение, — но одно из подобных устройств было прикреплено снаружи его комнаты, чтобы создавать в ней ветерок.
В очень жаркие дни в комнате ставился серебряный сосуд, наполненный благовониями — шафраном и розовой водой. Иногда к халифу приводили семь рабынь, облаченных в льняные тупики, которые тоже обмакивались в благовония. Такая девушка садилась на специальный стул с дыркой и медленно горящей под ним курильницей, от тепла которой высыхающая одежда начинала благоухать. После этого девушки были готовы доставлять удовольствие своему хозяину
{299}.
Дворцы Самарры
Дворцы халифов в Багдаде — Золотые Ворота, Дворец Вечности, расположенный вниз по реке от первого, а также дворец Махди в Русафе на восточном берегу и вес остальные — исчезли полностью, не оставив следов в ландшафте современного Багдада. И наоборот, существуют обширные остатки дворцов, построенных халифами в Самаррс за короткий период с 816 по 892 год, когда этот город являлся столицей империи
{300}.
Сами здания дворца в основном обвалились, но контуры планировок четко видны с воздуха, к тому же здесь проведено несколько раскопок. Ни одно из зданий не имеет никаких надписей, говорящих о его происхождении и времени строительства — но, используя обширную литературу периода расцвета халифата Аббасидов, мы можем с высокой точностью идентифицировать многие остатки строений того времени.
Основной дворец и место собраний правительства был известен под названием Дар аль-Халифа или Дворец Халифата. Он стоял на невысоком десятиметровом обрыве, возвышавшемся над поймой реки Тигр. Остатки дворцового комплекса занимают площадь около 125 гектаров, образуя огромный прямоугольник размером примерно 1346 метров с запада на восток и 1150 метров с севера на юг — более чем в шесть раз превышая размеры Золотых Ворот Мансура в Багдаде. Главная ось комплекса проходит с запада на восток, именно тут были найдены самые важные общественные здания. Возвышаясь над садами, которыми пользовались, чтобы выйти к Тигру, располагаются огромные общие ворота (Баб аль-Амма). Это единственная часть комплекса, которая все еще сохранила свою первоначальную высоту; хотя ворота реставрировались и потеряли свою облицовку, они все еще смотрятся могучим символом власти. Именно через них во дворец прибывали посетители — добровольно или нет. Именно сюда на слоне доставили Бабека перед казнью в 838 году, здесь тело опозоренного полководца Афшина было распято на всеобщее обозрение перед сожжением, после чего пепел выбросили в Титр.
Общественные ворота вели в Дар аль-Амму, или Народный Дворец. Его сводчатый зал (без сомнения, оцепляемый стражей во время государственных мероприятий) имел выход в маленький дворик, затем опять в ряд зданий и через еще один двор в сам зал официальных приемов. Южнее располагалась баня — может быть, специально для того, чтобы посетители могли привести себя в порядок перед встречей с халифом. Зал приемов состоял из центрального помещения с куполом и четырех
иванов с выходами на обе стороны. На южном конце южного
пеана находился еще один двор, в конце которого тоже имелось помещение с куполом, богато украшенное настенными росписями.
Похоже, что крестообразный зал приемов являлся местом для публичных аудиенций, но более любимых и близких товарищей халиф мог принимать в южном здании. Двигаясь по западно-восточной оси, посетитель прошел бы еще через несколько дворов, пока не достиг бы трибун, смотрящих на круг для скачек, который завершал восточный конец дворцового комплекса.
На север и на юг от главной церемониальной оси находилось множество более мелких помещений. В одном из них находилась государственная сокровищница,
батш аль-мал, и Купол Жалоб
(куббат аль-мазалим), где несчастливый халиф Мухтади в 870 году попытался оживить старые традиции доступа народа к халифу.
К северу от основной оси и немного восточнее зала для приемов лежит Великин Сирдаб (от персидского
срiад), означающего холод, и
аб, то есть воды). Это был круглый затененный бассейн, окруженный небольшими комнатами и двориками, здесь же располагалась баня. Придворный поэт Ибрахим аль-Мосули имел свой собственный
сирдаб с проточным бассейном, вода в который подавалась постоянно и спускалась в сад. Он любил проводить жаркую часть дня, отсыпаясь здесь; похоже, что халифы использовали свои
сирдабы подобным же образом. Существует рассказ о том, что однажды, задремав в
сирдабе, поэт научился прекрасной новой песне у двух кошечек, черной и белой, которые жили под ступеньками
сирдаба. Они предупредили его, что тот, кому он передаст эту песню, превратится в джинна. В итоге так и произошло: поэт научил песне свою девушку — и она превратилась в джиннию. Что снилось халифам, когда они спали в своих
сирдабах, для потомков утеряно
{301}.
К северу от
сирдаба внутри большего дворца выгорожено прямоугольное пространство. Его можно отождествить со зданием, известным по источникам как Джавсак ааь-Хакани. Термин
джавсак (возможно, правильнее будет произносить
«гав-сак») произошло от персидского слова
куиус означающего маленький дворец или павильон. После возведения дворцового комплекса в Самарре это слово стало использоваться для описания более поздних дворцовых построек, включая павильоны во дворце Топкапи в Стамбуле. Отсюда оно попало во французский и английский языки как
киоск. Так что, покупая газету в маленьком киоске у железнодорожной станции помните — его название посходит к дворцу халифов Аббасидов на берегу Тигра в Ираке.
Джавсак был, вероятно, более личной, домашней частью дворца, удаленной от основных помещений с доступом публики. Тут тоже стоял павильон, известный под названием «Совершенство Кабихи», построенный матерью халифа Мутаза для своего сына
{302}.
Джавсак служил также местом захоронения четырех халифов Самарры, включая Мутаснма, основателя города. Ни одна из гробниц пока не идентифицирована.
План дворца достаточно ясен, гораздо труднее представить себе внешний вид существовавших в те времена зданий. Наружные степы были сложены из обожженного кирпича. Длинные стены без окон и проемов, лишь с выступающими наружу на равном расстоянии друг от друга полукруглыми башнями придавали зданиям мрачный вид, делая их похожими на крепости. Почти все строения были одноэтажными, с плоскими крышами; в 870 году халиф Мухтади попытался (правда, безуспешно) уйти от своих преследователей по плоским крышам Самарры, перепрыгивая с одной на другую.
Внутренние помещения возводились из обожженного или илового кирпича, потолки делались либо сводчатыми, либо опирались на деревянные балки. Стены комнат приемов были покрыты штукатуркой или фресками, и, разумеется, все интерьеры были богато убраны коврами и драпировками. Полтора века спустя писатель Шабушти описывал тронную комнату в Самарре, как он ее запомнил.
Халиф Мутаввакиль с богатым воображением украсил зал золотом и серебром, и устроил здесь большой бас сейн, поверхность которого изнутри и снаружи была выложена пластинами серебра. Он установил в нем дерево, сделанное из золота, на котором щебетали и свистели птицы [вероятно, самый ранний пример использования механических игрушек]. У него был огромный трон из золота, на котором красовались два изображения огромных львов: ступени к нему тоже несли изображения львов и орлов, а также других животных — точно как описывают трон Соломона, сына Давида. Стены дворца изнутри и снаружи были покрыты мозаикой и позолоченным мрамором. 170 000 динаров было истрачено на этот дворец. Халиф сидел на своем золотом троне, одетый в халат из богатой парчи. И он приказал, чтобы все входившие в зал приемов в его присутствии были одеты в тонкую узорчатую парчу.
Продолжая рассказ, автор сообщает нам, что халиф страдал от бессонницы, и у него была лихорадка. Когда он поправился, то приказал, чтобы тронный зал снесли, а золотые украшения переплавили и начеканили из них монет
{303}.
Дворец Халифата оставался правительственным зданием и частной резиденцией халифов большую часть самаррского периода, но в это время строились и другие дворцы. Наследник Мутасима Васик жил во дворце под названием Гаруни (его собственное имя было Гарун), который находился в пойме Титра на северо-западе. Мутаввакиль тоже жил там большую часть времени своего правления. Местонахождение Гаруни известно, но из-за размещения в низине он был сильно разрушен наводнениями. Совершенно очевидно, что это также было впечатляющее сооружение; существует краткое описание халифа, сидящего во дворце в портике, над которым высится купол, «белый, как яйцо, за исключением полосы полуметровой ширины, опоясывающей купол и изготовленной из тиса, покрытого ляпис-лазурью и золотом. Он назывался Куполом Кольца»
{304}.
Мутаввакиль (царствовал в 847–861 годах) был неутомимым строителем дворцов. Арабские источники перечисляют двадцать два построенных им дворца и указывают их общую стоимость — более 200 миллионов дирхемов; последующие поколения историков удивляются такой расточительности и доступности ресурсов
{305}. Мутаввакиль был последним халифом, свободным от финансовых проблем. Некоторые из его дворцов, без сомнения, были совсем небольшими, но самый крупный занимал огромную площадь.
К югу от центра Самарры Мутаввакиль построил для своего сына и второго наследника Мутаза дворец Балку вар. План этого сооружения, четко прослеживающийся по сохранившимся руинам, повторял план Дворца Халифата — с центральной осью, идущей от берега реки через крестообразный зал приемов к дворикам и садам позади. К югу от основной оси расположен ряд меньших дворов, размещенных регулярным образом и окруженных небольшими комнатами. Именно в огромном
иване этого дворца Мутаввакиль устроил великолепный пир по поводу обряда обрезания своего сына Мутаза
{306}.
Самым крупным проектом Мутаввакнля был его новый город, скромно названный Мутаввакилия, который он начал возводить в октябре 858 года чуть севернее обжитых районов Самарры. Он явно считал новый город важным аспектом подтверждения своего царского сана. «Теперь я знаю, что я царь, — как говорят, заявил он, — потому что построил город, чтобы в нем жить».
Новый город имел новую мечеть, от которой ныне остались довольно крупные руины, и, разумеется, новый дворец
{307}. Говорят, что он стоил баснословных денег — 50 миллионов дирхемов, то есть халиф истратил на постройку дворца от одной пятой до четверти всей стоимости строительства. Дворец был возведен на северном краю городской территории и, похоже, намеренно размещен так, чтобы халиф мог сохранять дистанцию от солдат и населения города на юге. На западе он граничил с Тигром, на востоке ограда шла по широкому каналу. Как и Дворец Халифата, а также Балкувар, дворец Мутаввакиля располагается восточнее реки, а само его здание вытянулось с запада на восток более чем на километр. На восточном его конце, подальше от реки, находились залы приемов со сводами из обожженного кирпича, но все же самой замечательной деталью были ворота, смотрящие на реку, с залом приемов за ними. Вероятно, именно тут сидел халиф, выпивая и ведя беседу той декабрьской ночью, когда его убийцы-тюрки прокрались через ворота у реки.
Дворцы Самарры — удивительный пример величия замыслов и расточительности халифов. Вопроса пространства для них не существовало, и на распахнутых каменистых равнинах Самарры они могли закладывать бесконечные стены с контрфорсами и бессчетным числом комнат и двориков, как им хотелось, хоть до самого горизонта. Во дворцах имелось пространство, достаточное для проведения конных скачек или игры поло, здесь даже устраивались выгородки для охоты.
Большинство дворцов имело характерные купола и сводчатые залы для приемов, размещенные вдоль главной оси, а жилые дворики и помещения располагались к северу и к югу от нее. Ни в одном из них не было места, которое можно определить как помещение для гарема. Строительные материалы были дешевы, и возведение построек осуществлялось очень быстро. Так, Мутаввакиль вселился в свой новый дворец через неполных два года после начала строительства.
Кроме Дворца Халифата, которым пользовались на протяжении долгого времени и который переделывали весь период существования Самарры, строения жили очень недолго. Два больших дворца Шах и Арус, на которые Мутаввакиль истратил 50 миллионов дирхемов, были снесены халифом Мустаином (862–866 годы царствования), который отдал их строительный материал своим визирям
{308}. Дворец Мутаввакиля был заброшен и снесен, как только умер халиф, в нем жили не более нескольких месяцев.
Новые дворцы в Багдаде
Когда халиф Мутадид в 892 году восстановил Багдад в статусе столицы, он сразу же начал работы по строительству нового дворца, который оставался домом халифов до самого последнего момента, когда монголы в 1258 году захватили город. Дворец постоянно перестраивался, но оставался на том же месте, на восточном берегу Тигра, ниже по реке от ранее возведенных строений Русафы и Шаммасии. Дворец Круглого Города временами использовали как тюрьму, но р Дворце Вечности на западном берегу реки больше не было слышно вообще. Мы должны признать, что оба они оказались разоренными и заброшенными.
Вместе с новым дворцом семья халифа использовала также дворец Тахиридов в верхней западной части города — в качестве дома для членов семьи, которые не являлись ближайшими родственниками правящего халифа. Старый дворец, построенный Махди в Русафе на восточном берегу, использовался в качестве приданого незамужним принцессам из царской семьи и слугам гарема, которые больше не служили правящему халифу. У нас нет описания ни одного из этих дворцов, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, как они выглядели.
Другим центром власти в Багдаде был Дар аль-Визара иди Дом Визирей. Он был возведен Сулейманом ибн Вахбом, который в 877 голу недолгое время был визирем. После его падения этот дворец стал официальной резиденцией визирей — чем-то вроде Даунинг-стрит 10
[22] того времени. Без сомнения, он был обширным и богато украшенным. Говорят, он занимал площадь около 150 000 квадратных метров (300 000 квадратных локтей)
{309}. Располагался этот дворец в Мухарримс, на восточном берегу Тигра, совсем недалеко вверх по реке от дворца халифа, с которым мог легко сообщаться по воде.
Дом Визирей видели во всем его великолепии в 917 году, во время второго правления визиря ибн аль-Фурата, когда в столицу прибыли два византийских посла
{310}. Они остановились на восточном берегу во дворце, который раньше принадлежал визирю халифа Мутадида, но теперь являлся чем-то вроде официального дома для гостей. Ибн аль-Фураг приказал выстроить солдат; одетых в парчовые одежды и парчовые же островерхие шапки, в ряд от гостевого дома до Дома Визирей. Внутри дворца он выстроил собственных
гулямов вдоль всего пути послов, от ворот до самого зала приемов, где им должны были дать аудиенцию.
Византийцы прошли через общедоступное пространство дворца (
Дир аль-имма), куда публика имела право приходить по делу. Они попали во двор, полный солдат, и управляющий визиря пригласил их посидеть под колоннадой, которая обегала двор по краю. Затем управляющий повел их по длинному коридору
к двору Дома Садов и указал на зал, где сидел визирь. Все это было весьма впечатляющим спектаклем. Ибн аль-Фурат ждал гостей в роскошном зале с позолоченным потолком, где по стенам были развешены занавеси, выглядевшие как ковры и, возможно, с одним и тем же рисунком — 30 000 динаров было истрачено только на мебель, ковры и ткани. Визирь сидел на прекрасном молельном коврике, позади него стоял трон с высокой спинкой, перед ним слева и справа находились евнухи, а двор заполняли военные и знать. Обилие войск должно было внушить послам благоговейный трепет.
Послы предстали перед визирем и передали свои просьбы через переводчика — арабского военного, который долгое время служил на византийской границе и хорошо знал греческий. Они предлагали обменяться пленными и просили у визиря аудиенции с самим халифом. Ибн аль-Фурат пообещал посмотреть, что сможет сделать. Затем тем же путем послов повели назад в гостевой дворец.
Обстановка этой беседы не совсем ясна. Мискавайх, который делал ее запись, использует для описания места, где сидел визирь, слово
меджлис. Похоже, что это помещение было крытым, но наверняка смотрело в сторону двора, где собрались солдаты и остальная публика, и где стояли послы. Можно предположить, что это был
пеан с аркой, от крытый в сторону двора, хотя Мискавайх не употребил именно этого слова. Неясно, были ли позолоченные потолки кирпичными сводами, как уцелевшие строения в Ухандире и Самарре, или же плоскими деревянными конструкциями.
Когда финансовые проблемы государства стали более серьезными, и владыкам пришлось продавать ценности, чтобы оплачивать текущие расходы, Дом Внзирей оказался в опасности. В 933 году его действительно разобрали и распродали по кускам.
Но настоящим местом средоточия власти, конечно же, был Дворец Халифата, известный также как Дворец Султана или Дворец Царства (Мамлака). Впервые дворец на этом месте был возведен Мамуном еще до гражданской войны. Затем он передал дворец своему наместнику в Ираке Хасану ибн Сахлу, и он стал известен как Дворец Хасани. Тот, в свою очередь, передал дворец своей дочери Буран, которая жила в нем многие годы, пока халифы оставались в Самарре. Когда Мутадид в 892 году вернул резиденцию халифов в Багдад, он отобрал дворец у пожилой леди в собственное владение, и тот стал постоянной резиденцией халифов.
При Мутадиде и Муктафи ранний Дворец Хасани был сильно расширен, к нему пристроили так называемый Дворец Короны (Каср аль-Тадж); для этой цели халиф Муктафи брал обожженный кирпич из развалин старого дворца Сасанидов в Ктесифоне. Теперь дворец стал фактически городом в городе, огромным комплексом дворов, коридоров, залов и садов, окруженным мощными стенами с воротами, которые могли запираться в опасных ситуациях. Это было что-то вроде исламского эквивалента Запретного Города в Пекине. Дворец был разбит на множество более мелких групп построек — комнат для приемов, мест обитания женщин
(дар аль-хурам), апартаментов для принцев и для управляющего дворцом, который отвечал за безопасность и порядок во всем комплексе, а также контролировал доступ к халифу. Говорят, что когда в конце десятого века посетитель проходил через полупустой дворцовый комплекс, он казался человеку настоящим городом Ширазом — но относилось ли это к размерам строения или к общему впечатлению от него, не вполне ясно.
Ничего из этого дворцового комплекса не сохранилось до наших дней. У нас есть ряд описаний, которые дают некоторое представление о зданиях, составлявших комплекс, но они не дают ясной картины его общего плана. Многие из наиважнейших помещений выходили на реку; имелись также ворота, от которых лестничный спуск выводил на берег реки, куда могли причаливать барки посетителей.
Как и в случае с Домом Визирей, рассказ о посещении византийских послов в 917 году дает нам яркую картину дворца в период его расцвета. Описанное ниже выступление халифа на публике являлось чрезвычайно важным событием в жизни города, и еще более важным оно было для самого визиря. Вообще-то послы не являлись особо значительными персонами, как и дело, которое они приехали обсуждать — обмен пленными выполнялся множество раз и без всяких фанфар. Вероятно, послы были весьма удивлены и даже потрясены масштабом и манерой их приема. Но в Багдаде финансовые проблемы, которые сначала должны были коснуться визирей, а позднее халифа, уже ощущались. Ибн аль-Фурат прибег к одному из самых старых политических трюков — пустил иностранцам пыль в глаза, дабы они не догадались о существующих в халифате серьезных проблемах. Наверняка послы привезли домой в Константинополь сообщения о несметном богатстве и высокой культуре Аббасидов.
С рекламной точки зрения визит явно оказался успешным; у нас есть три или четыре его описания, которые углубляются в ценные детали великолепных мероприятий и рассказывают о впечатлении, которое они произвели на представителей древнего врага. Именно из этих рассказов мы можем попытаться реконструировать функции и внешний вид дворца Аббасидов.
Визит послов к халифу вызвал огромный интерес публики. Согласно традиции, оставшейся в царской семье от одной из наложниц халифа, византийцев заставили два месяца ждать в Тикрите на Тигре, чтобы подготовить для них дворцы
{311}. Когда они наконец прибыли в Багдад, весь город высыпал посмотреть на них. Рынки, улицы, крыши и аллеи восточного берега заполнились людьми, жаждущими хоть мимолетно увидеть послов; каждая лавчонка или выходящая на улицу комната сдавалась в этот день за большие деньги. Река была заполнена судами всех типов, украшенных и расположенных в определенном порядке. Выходя из гостевого дворца, византийцы прошли через рады конных войск в форме, с седлами из золота и серебра, при полном вооружении.
Самый полный рассказ о приеме послов был представлен Хилалсм ас-Саби (умер в 1056 г.), официальным историком при администрации Аббасидов, который утверждает, что выстроил свою версию по записям, оставленным одним из внуков Муктадира
{312}.
Он начинает с описания 38 000 занавесей, которые были развешены во дворце. Их изготовили из золотой парчи и украсили изображениями кубков, слонов, лошадей и верблюдов, львов и птиц. Парча была привезена из Васита в Ираке, из Армении и Бахнасы в Египте. Кроме того, было использовано 22 000 ковров и дорожек из Даврака в Хузистане, а также Джахрума и-Дастагирда в Фарсе; эти ковры расстелили по всем коридорам, где шли послы. Еще были ковры из Дабика в Армении и Табаристана, их развесили в залах и альковах — в местах, которые было видно, но в которые не заходили.
Послы вошли в большие общественные ворота и сначала их провели во дворец, называвшийся Приютом Лошадей
(хан аль-хайл), представлявшим из себя большой двор, окруженный аркадами с мраморными колоннами. Справа и слева на этом дворе стояли лошади с золотыми и серебряными седлами, сопровождаемые конюхами. Затем послов повели по коридорам и переходам к загородкам с дикими животными
(xaùp аль-вахш). Тут звери, приведенные из сада, подошли близко к людям, обнюхали их и приняли пищу из их рук. Затем делегация направилась во двор, где находились четыре слона, задрапированные парчой и атласом. На каждом слоне сидело по восемь человек из Синда и были установлены приспособления для метания огня. Наконец послов привели в загон для львов, где находились пятьдесят львов слева и пятьдесят справа — все в намордниках из ценен, каждого держал специальный работник.
Покончив со зверинцем, послы отправились в Новый Киоск, устроенный посередине сада. В центре павильона находился искусственный пруд размером примерно 15 на 10 метров, сделанный из полированного олова и окруженный рекой из такого же олова, которое сияло ярче, чем серебро. В «пруду» плавали четыре роскошные лодки работы мастеров из Дабика, украшенные парчой, золотом и серебром. Павильон окружал сад, в котором, как говорят, росло четыреста пальм по 2,5 метра высотой, и каждая была одета в резной тиковый футляр с медными кольцами от верхушки до основания. С каждой ветви свисали прекрасные финики, еще не совсем созревшие. Вдоль стен сада росли разные цитрусовые деревья — вероятно, в то время здесь были кислые апельсины, лимоны и лаймы; судя по всему, сладкие апельсины не были известны на Среднем Востоке и в Европе вплоть до конца пятнадцатого века, когда их привезли из Индии португальцы
{313}.
Следующим местом посещения стал знаменитый Дом Дерева. Здесь, в центре двора, посередине большого (и, похоже, естественного) пруда стояло искусственное дерево. Ветви его были в основном сделаны из серебра, хотя некоторые откованы из золота, на ветвях сидели золотые и серебряные птицы различных видов. Время от времени дерево раскачивалось, и птицы начинали петь. Дерево венчали фрукты, выполненные из драгоценных камней. Говорят, Дом Дерева был создан халифом Муктаднром. Похожие деревья существовали в византийских дворцах и во дворцах Европы позднего Средневековья. Испанский путешественник Клавихо видел такое во дворце Тамерлана в Самарканде во время его посещения в 1405 году. Оно поднималось на высоту человеческого роста и было увешано рубинами, изумрудами, бирюзой, сапфирами и жемчугами в форме фруктов. На ветвях сидели золотые птицы, будто собираясь клевать эти плоды
{314}. В истории имеется много упоминаний о царских развлечениях подобного рода — но похоже, что общий их стиль идет именно от Аббасидов, пример которых многие пытались превзойти, когда двор самих Аббасидов давно уже был разграблен, а их дворцы стояли в руинах.
Из Дома Дерева гостей повели в Райский Дворец, который содержал бесчисленное количество ковров и украшений. В вестибюле этого дворца находился арсенал, насчитывавший десять тысяч позолоченных кирас, развешенных по стенам. Затем они прошли по коридору 150 метров длиной, вдоль которою висело десять тысяч доспехов, состоящих из кожаных щитов, шлемов, кольчуг и расписных колчанов с луками. По обеим сторонам выстроилось две тысячи черных и белых евнухов.
Наконец после экскурсии по двадцати трем дворцам они прибыли во Двор Девяностолетия (что это такое — мы не знаем). Здесь стояла полностью вооруженная стража с мечами, топорами и булавами. Посланники прошли мимо управляющих, сыновей придворных офицеров и шеренги солдат; все были одеты в черное — официальный цвет Аббасидов. Повсюду слуги предлагали воду со льдом, напитки и фруктовые соки.
Халиф ждал гостей их в Коронном Дворце, который располагался у самого Тигра. Муктадир сидел на эбеновом троне, покрытом парчой из Дабика. Сам он тоже был одет в парчу из Дабика, затканную золотом, на голове монарха красовалась высокая шапка. Справа от него находились девять рядов драгоценных камней и еще семь — слева, образуя некое невероятное ювелирное украшение, которое затмевало своим сиянием дневной свет. Пять сыновей халифа сидели рядом с ним — три справа и два слева.
Послы подошли и поклонились, объяснив, что они поцеловали бы ковер, как велит протокол Аббасидов, если бы не беспокоились, что послов халифа в этом случае заставят делить то же самое в их стране. До нашего времени не дошло подробного описания самой беседы: похоже, халифу что-то объясняли официальные представители двора, но он сам протянул послам длинный письменный ответ для византийского императора. Затем послов вывели через личные ворота к Тигру, откуда лодки увезли их назад в гостевой дворец.
Таким помнился двор Муктадира через сто лет, когда блеск Аббасидов уже давно исчез. Насколько приведенное выше описание соответствует действительной обстановке, сказать почти невозможно, и конечно, все количественные характеристики выглядят преувеличенными. Однако описание многое говорит нам о придворном стиле, о том, как могли выглядеть дворцы. Дворцовый комплекс представлял собой лабиринт двориков, коридоров и залов. Там существовали внутренние сады, как натуральные, так и искусственные, а также зверинец. Из других источников мы знаем, что во дворце имелись бани и мечети. Похоже, ни одна из отдельных построек не была очень крупной, и пет свидетельств, что основная их масса была выше одного этажа. По-видимому, дворец производил впечатление богатством украшений и роскошью изделий, размещенных на стенах и полах. Сопровождающие, которые вели послов к халифу, явно хотели продемонстрировать им максимум того, что имелось при дворе Аббасидов, проведя иноземцев через огромное число двориков и помещений. Должно быть, им казалось, что они прошли многие мили, прежде чем увидели правителя. Но мы должны помнить, что подготовка к этому торжеству заняла два месяца — очевидно, повседневная жизнь дворца была гораздо менее величественной.
Совсем другое представление о дворце исходит из рассказа о свержении халифа Кахира двенадцатью годами позже, весной 929 года
{315}. Неумелое управление и финансовый кризис привели к падению Муктадира, осуществившего столь блистательный прием византийских послов. В поисках замены ему организовавшие путч военные отправились во Дворец Тахира в верхней части восточного крыла, где обычно жили принцы Аббасидов, и выбрали среди них юношу без опыта, не проявлявшего особых способностей и главное — амбиций. Ему был дан титул Кахир, что значит «Победоносный». Путч поддержала пехота армии халифа, которая теперь имела право потребовать традиционное денежное вознаграждение, выдаваемое солдатам, чтобы отпраздновать восхождение на престол нового халифа.
Начальник полиции Назук приказал закрыть ворота дворцового комплекса. Но он не хотел рисковать, устроив противостояние с недовольными войсками, поэтому приказал своим людям не проявлять по отношению к ним агрессии.
Дворец фактически находился в осаде, и вскоре собравшиеся вокруг него недовольные солдаты начали влезать в здание через окна, смотрящие на реку. Новый халиф, Кахир, принимал поздравления в портике Двора Девяностолетия поблизости и мог ясно слышать шум, который производили войска. Назук явно плохо себя чувствовал из-за усталости, проведя ночь в тяжелой попойке. Когда он появился в окне, чтобы пытаться успокоить солдат, они бросились на пего, он испугался и сбежал. Пытаясь спастись, начальник полиции добежал до двери, которую вчера сам же приказал заложить кирпичом; тут его схватили и убили. Солдаты утащили тело к Тигру и прибили на деревянный щит, который пустили по течению.
Теперь солдаты начали открыто призывать к возвращению старого халифа, Муктадира. Визирь с управляющим не стали терять время и ретировались, оставив несчастного Кахира фактически в одиночестве. Тем временем дворцовые слуги, которые были в основном евнухами или фаворитами Муктадира, заперли ворота.
Жалкий и брошенный всеми Кахир обратился к единственному из своих сторонников, который оставался с ним, Абу’ль-Хайдже Хамданиду. В отличие от большинства придворных и военных, Абу’ль-Хайджа был арабом, бедуином из древнего и знатного племени Таглиб. Когда он готов был присоединиться к всеобщему бегству, Кахир вцепился в него и взмолился:
— Абу’ль-Хайджа, ты собираешься бросить меня?
Как говорит хроникер, в Абу’ль-Хайдже проснулась гордость, и бедуинский вождь не смог оставить человека, молившего о защите.
— Нет, именем Аллаха! Я никогда не оставлю тебя! — ответил он и вернулся.
Абу’ль-Хайдже с Кахиром необходимо было спасаться из дворца, полного теперь врагов или вероломных слуг. Если бы они пробрались в город, то могли бы спрятаться там или же покинуть столицу и присоединиться к племени Абу’ль-Хайджи на свободных равнинах Джазиры. Они попытались открыть дверь комнаты и обнаружили, что она заперта. Затем они услышали крики, С ними все еще оставался один ил старших слуг, Фанк по прозвищу Круглолицый. Он послал человека выяснить, что там за шум. Человек вернулся и сказал, что убит Абу’ль-Хайджа. Круглолицый велел как следует подумать, что он говорит, и трижды повторите, сказанное, а потом буркнул: «Абу’ль-Хайджа тут, дурак!» Тогда посланный сказал, что ошибся — убили Назука, начальника полиции.
Смерть Назука означала, что надежды спастись из дворца не осталось. От возможности бежать зависели жизни мятежников. Абу’ль-Хайджа потребовал, чтобы Круглолицый открыл дверь, которая вела к речному берегу, но верность того явно поколебалась: он ответил, что за этой дверью расположено еще множество дверей, и это беглецам не поможет. Но потом Фанк все-таки открыл дверь. Когда двое мятежников вышли наружу, то обнаружили себя на плицах водяного колеса, которое поднимало воду реки во дворцы. Держась за руки, они взобрались по плицам вверх. То, что они увидели, подтвердило их наихудшие опасения: насколько видел глаз, вверх и вниз по берегу, а также перед ворогами дворца толпились враждебно настроенные солдаты.
Кахир начал спускаться, и Абу’ль-Хайджа подбадривал его. «Иди, мой господин, — говорил он, — клянусь могилой [моего предка] Хамдана, я не оставлю тебя, пока жив!» Они спешно пересекли пустынный теперь Райский Дворец, в котором двенадцать лет назад византийские посланники были так поражены обилием ковров и вооружения, и вышли на открытую площадь. Туг они встретили раба, сидящего верхом на лошади. Абу’ль-Хайджа спросил, откуда тот приехал, на что человек ответил, что он прибыл через Нубийские ворота. Абу’ль-Хайджа понял, что это может оказаться путем к спасению. Он взял у раба лошадь и, сняв черные придворные одежды, переоделся в грубую шерстяную
джуббу невольника. Он велел Кахиру ждать его и исчез.
Вскоре бедуин вернулся, однако новости оказались недобрыми. Он рассказал Кахиру, что добрался до Нубийских ворот и попросил хранителя ворот Джафара открыть их. Джафар ответил, что не может — сюда только что принесли голову несчастного Назука, а рядом собрались толпы солдат, пришедших поглазеть на нее. Им придется поискать другой путь из дворца.
Дворец, который казался таким впечатляющим и богатым византийским посланникам, стал для Абу’ль-Хайджя смертельным лабиринтом узких коридоров, запертых дверей и неверных слуг. Беглецы двинулись назад через Райский Дворец и другие дворы, пока не дошли до Дома Лимона. Здесь Круглолицый показал свое истинное лицо — он вдруг бросился назад и приказал нескольким слугам, которые еще оставались с ними: «Вперед и покончите с врагом вашего хозяина [Муктадира]!». Слуг было примерно десять человек, они имели луки и дубинки. Когда Абу’ль-Хайджа увидел опасность, он вытащил меч, обернул вокруг руки шерстяную
джуббу вместо щита и атаковал. Слуги в ужасе разбежались, некоторые из них попадали в бассейн. Затем бедуин отступил в Тиковую Комнату в саду Дома Лимона. Слуги выбрались из бассейна, но Абу’ль-Хайджа снова атаковал их, и они отступили к двери в углу двора, попытавшись удрать через нее. Когда слуги открыли дверь, то обнаружили за ней пехотного офицера с луком и стрелами, а также двух чернокожих рабов, вооруженных мечами и щитами.
— Где он? — спросил офицер.
— В Тиковой Комнате, — ответили они.
— Идите и сделайте так, чтобы он вышел.
Слуги вернулись и стали оскорблять Абу’ль-Хайджу. Тот отреагировал, как они и рассчитывали. Он атаковал «как разъяренный верблюд», выкрикнув традиционный клич бедуинов, сражающихся с врагом, а затем возопил: «О, племя Таглнба, неужели я буду убит среди стен?» — то есть как житель города, а не в открытой пустыне, подобно настоящему бедуину. Офицер пустил в Абу’ль-Хайджу стрелу, которая вошла как раз под сосок, затем другую, которая попала в горло, и наконец третью. На этот раз рука стрелка дрогнула, и третья стрела попала в бедро. Абу’ль-Хайджа вырвал ее и разломал. Затем он вытащил стрелу из груди и попытался бежать, но вскоре силы покинули его. Один из чернокожих рабов подошел и отрезал ему правую руку, которая держала стрелу, а другой раб от резал голову. Затем один из евнухов схватил голову и убежал с нею — вероятно, чтобы получить награду.
Тем временем сторонники Муктадира на плечах принесли халифа с баржи на ступени Двора Девяностолетия, где так недавно пытался короноваться Кахир. Когда монарх
прибыл, то первым же делом задал вопрос: что случилось с Абу’ль-Хайджой. Он послал за новостями служанку Зендан, чье жилище, как всегда, оказалось оазисом спокойствия в гуще всех описанных выше беспорядков. Зендан выяснила, что бедуин был в Доме Лимона. Муктадир немедленно попросил чернила и бумагу и собственноручно написал амнистию Абу’ль-Хайдже. Он вручил ее одному из евнухов, приказав поторопиться, или будет слишком поздно.
Но уже было поздно. Когда появился евнух, несший голову бедуина, Муктадир потребовал сообщить, кто его убил. Один из офицеров сделал евнуху знак хранить молчание и сказал, что бедуина атаковала смешанная группа. Евнуху, который надеялся на щедрое вознаграждение, повезло — он ушел живым. Муктадир помнил доброту Абу’ль-Хайджи к нему в недавнем прошлом и поддержку, которую получал от его семьи. Не было сомнений в искренности его горя — в течение нескольких последующих трудных лет Муктадир часто жаловался на потерю такого верного слуги халифов. Это продолжалось до тех пор, пока на поле сражения не отрезали его собственную голову и не пронесли се перед строем врагов.
Кахир был халифом лишь один день. Доставленный к Муктадиру, он бросился перед ним на землю, был прощен и отослан назад в Дом Тахира, где жили принцы.
Дворцы халифов постоянно совершенствовались, начиная с тех дней, когда Мансур держал свои двор в палатке. Дворец Золотые Ворота, который построил сам Мансур, был крохотным по сравнению с громадными комплексами, заложенными в Самарре; дворец более поздних халифов в Багдаде стал миром в мире. Первые халифы Аббасидов еще путешествовали, общаясь со своими чиновниками в лагере или охотничьих домиках. Ко времени правления Муктадира дворец халифа стал его личным царством, настоящей крепостью, сценой для публичных выступлений монарха, роскошным жилищем и смертельной ловушкой.
Глава VII
ГАРЕМ
При всех халифах из рода Аббасидов при дворе сохранялся особый женский домашний уклад, и этот мир во многом отличался от мужского мира, в котором существовали армия, чиновничество и публичные аудиенции — пусть даже эти две сферы различным образом пересекались. Обычно женский уклад при дворе называют общим словом
харим (гарем) и рассматривают как изолированный мир роскоши, безделья и появляющихся время от времени опасностей. В далеком десятом веке комментаторы с осуждением относились к роскоши и чрезмерному политическому влиянию гарема, рассматривая их как главную причину падения власти халифов
{316}.
Термин
харим означает защищенную или изолированную часть дома, которую позволяется посещаю» только мужчинам, являющимся близкими родственниками хозяина. На деле в источниках того периода данный термин использовался редко. Гораздо чаще халиф, говоря о своем
хурал — множественное число того же слова — просто имел в виду женщин при дворе, и в более общем смысле слова, — всех, находящихся под его защитой.
Хурал был скорее просто группой людей, чем определенным строением пли физическим местоположением.
При первых халифах Аббасидах женщины правящей семьи, похоже, имели свое домашнее хозяйство и даже дворцы — подобные тем, в каких жили их братья и прочие родственники мужскою пола. К началу десятого века, если не раньше, начинают появляться указания на то, что женщины стали более замкнуты в огромном, широко раскинувшемся царском дворцовом комплексе, и гарем стал отдельной изолированной структурой — так же, как знаменитый гарем Дворца Топкапи в Стамбуле.
В 974 году, когда халифы утратили свою политическую власть, Адуд аль-Давла
[23] из рода Буйвдов, в то время действительный правитель Багдада, посетил дворец халифа. По всему огромному комплексу зданий и дворов, многие из которых были пусты и уже превращались в руины, его провел управляющий Мунис адь-Фадл. Однако, когда они подошли к гарему, Мунис остановился и объяснил, что ни один мужчина, кроме самого халифа, не бывал там внутри — но, конечно, если эмир хочет осмотреть гарем, то пожалуйста. Адуд аль-Давла тактично отклонил предложение и продолжил осмотр остального комплекса
{317}.
Ясно, что к этому времени гарем был отдельным, четко определенным местом дворца. Неясно, когда стало складываться такое положение. В эпизоде, объясняющем падение Бармакидов в 803 году, Масуди, писавший в середине десятого века, утверждает, что Яхья Бармаквд, надзиравший
захурамам Гаруна аль-Рашида, очевидно, запирал его ворота на ночь и уносил ключи с собой домой. Кроме того, он запретил евнухам обслуживать женщин. Эго вызвало ярость грозной жены Гаруна Зубейды, которая в отместку решила подорвать власть семьи Бармакидов
{318}. Однако этот рассказ выгладит как проецирование назад, на ранний период Аббасидов, более поздних норм и, вероятно, более относится к положеншо дел в середине десятого века, нежели к концу восьмого. По археологическим данным невозможно идентифицировать какое-либо определенное место во дворцах Самарры как гарем — хотя к этому времени (середина девятого века) он скорее всего уже был отдельной, отгороженной частью комплекса.
К концу девятого века гарем халифа в полной мере приобрел свой фантастический образ отдельного мира, замкнутой среды роскоши и сексуального возбуждения с привкусом жестокости и опасности. Рассмотрим историю из «Книги Песен» — один из многих ее эпизодов, связанных со знаменитым поэтом и певцом Ибрахимом аль-Мосули
{319}.
Однажды халиф Гарун сообщил поэту, что хочет провести утро со своим гаремом, а вечер — выпивая с мужчинами. Поэт должен быть готов ни с кем не встречаться и не пить вина, пока ему не придет вызов, а если он ослушается, то наказанием будет смерть. Ибрахим держался целый день, а после вечерней молитвы его вызвали во дворец. По дороге он увидел большую корзину, свисающую на веревках со стены дворца, и рабыню, стоявшую рядом. Девушка пригасила его сесть в корзину. Поэт заподозрил, что это уловка, чтобы заставить его опоздать и подвести в плазах халифа — но после долгой дискуссии девушка все же уговорила его. Когда он сел в корзину, се подтянули до крыши дворца. Там он увидел еще несколько девушек-рабынь, которые смеялись, развлекая друг друга. Когда девушки увидели его, они закричали: «Боже, прибыл тот, кто нам нужен!» но потом пригляделись внимательнее и поняли, что ошиблись. Тогда они поспешили накинуть свои
хиджабы, запричитав: «О, враг Аллаха, что привело тебя к нам?». На это Ибрахим ответил в том же духе: «О, противницы Аллаха, кого же вы ожидали, и что есть у него такого, чего пет у меня?» Девушек, похоже, это совсем не рассердило, они продолжали смеяться, и поэт присоединился к общему смеху.
Затем одна из них сказала: «Тот, кого мы ждали, исчез, по этот тоже славный малый
[зариф], давайте праздновать с ним». Принесли еду, Ибрахима пригласили к столу, на что он согласился с некоторой неохотой. Затем появилось вино, и все принялись пить. Через некоторое время три девушки вышли вперед и начали петь, в то время как остальные скромно оставались за занавеской. Вспыхнул спор о том, кто написал песни, которые они поют, и тогда Ибрахим назвался, объяснив, какие песни написал он, а какие принадлежали другим авторам.
Девушки заволновались и теперь вышли из-за занавески все, чтобы доставить себе удовольствие общением со знаменитостью.
Когда Ибрахим сказал, что должен покинуть их, они потребовали объяснении. Тогда он поведал, что его вызвал халиф. Девушки ответили, что он попал к ним в плен, но пообещали отпустить его через неделю. Ибрахим испугался, что это для пего грозит смертью, но все же остался. Когда через неделю они прощались, девушки заставили его пообещать, что если он останется в живых, то вернется к ним. Затем поэт сел в корзину, и его спустили обратно вниз.
Когда Ибрахим добрался до дворца халифа, то обнаружил, что его ищут по всему Багдаду, его жилье обыскано, а выплаты денег прекратились. Евнухи потащили его к халифу. Гарун начал отчитывать его, обвинив в том, что он неуважительно отнесся к его приказу, тратя время в обществе низшего класса, и закончил эту филиппику, потребовав меч и циновку для исполнения приговора.
Подобно Шехерезаде из «Тысячи и одной ночи», поэт понял, что только красочный рассказ может спасти его жизнь. Он поведал, что с ним приключилась самая удивительная сказка, и попросил разрешения ее рассказать. Халиф, конечно, согласился — заявив, что если история действительно интересная, то, может быть, он и пощадит поэта. Когда Ибрахим закончил, халиф немного помолчал, а зятем произнес: «Эго удивительно! А можешь привести меня к тому месту?» — и когда Ибрахим ответил, что может, Гарун расслабился и пригласил его сесть и выпить.
На следующий день он вернулся на старое место, как и договорились; корзина и девушка-рабыня была там же. Снова Ибрахима тянули наверх, девушки обрадовались, увидев его, и поблагодарили Аллаха за его спасение. Поэт провел там ночь, а покидая девушек, сказал что у него есть брат, к которому он очень привязан: нельзя ли привести его и познакомить с ними? Они ответили, что рады будут его видеть. Он договорился о свидании на следующий день, и, явившись к Гаруну, рассказал обо всем.
Когда подошло время, Ибрахим и Гарун отправились вместе, предварительно переодевшись. Они подошли к дворцу, вошли в корзину, но, как позднее рассказывал Ибрахим, «Аллах послал мне предупреждение». Поэт велел девушкам оставаться за занавеской и не дать его спутнику услышать от них ни слова, пока он не даст сигнал, если будет уверен, что выбранные ими песни и стихи вполне приличны. Они согласились и не выходили из-за укрытия. Гарун и Ибрахим много выпили. Гарун приказал Ибрахиму не обращаться к нему по титулу, но когда Ибрахим принял сверх меры, то сказал по ошибке: «О, повелитель правоверных…» Тут девушки подскочили за занавеской и мгновенно исчезли. Тогда Гарун повернулся к поэту и произнес: «Ты избежал ужасной судьбы. Если бы хоть одна из них показалась тебе, я отрезал бы тебе голову! Пошли!»
Выяснилось, что девушки принадлежали ему, и что он рассердился на них и запер их в помещении, на крыше которого все и происходило. На следующий день халиф послал евнухов, которые вернули девушек назад в его дворец. Поэту выдали 100 000 дирхемов, а девушки позднее прислали подарки с заверениями благодарности.
Не стоит верить этой истории, которая вполне может быть старинной народной сказкой, переработанной в современном стиле, но вполне понятно, что она исторически интересна и является живой иллюстрацией существовавшего в багдадских литературных кругах представления о гареме халифа. Рассказ восходит к некоему Ахмеду ибн Аби Тахиру — авторитету в области истории литературы и анекдотов, который умер в 893 году. Поэтому он относится к периоду, наступившему спустя полвека после смерти халифа, и показывает, как развился мифический образ легендарного халифа и его гарема. Таинственный дворец, самоуверенные и нахальные девчонки, отнюдь не стесненные своим пленением, ревнивый халиф и умный, быстро соображающий поэт, легко нарушающий социальные нормы своего времени — все это явно плод литературной фантазии.
Трудно сказать, основан ли рассказ на каких-то реалиях правления Гаруна или он отсылает к реалиям времени, в котором жил его автор, — но ясно, что к середине девятого века гарем халифа был изолированным миром, в котором могло случиться что угодно, а удовольствие и опасность вполне сосуществовали во времени и пространстве.
Женщины правящей семьи не всегда пребывали в изоляции от дворца халифа и светского общества. В восьмом и в начале девятого века известные при дворе дамы имели в Багдаде собственные дворцы. Хайзуран владела в Багдаде дворцом, который позднее стал принадлежать военачальнику Ашинасу — это говорит о независимости данного жилища, которое явно не являлось частью дворца халифа. Дочь Мансура Асма имела дворец на восточном берегу рядом с дворцом сына Махди Убейд Аллаха
{320}. В следующем поколении любимая дочь Махди Банука имела дворец с землями, а рядом располагался дворец ее сестры Аббасы
{321}. которая, по слухам, позднее завела скандальные отношения с Джафаром Бармакидом. Зубейда во время правления своего сына Амина построила дворец на землях западного берега, которые ранее принадлежали одному из Бармакидов. Ее кузина, Умм Абд Аллах бинт Иса ибн Али, имела дворец в торговом квартале Карха, «где живут продавцы меда»
{322}. Одна из дочерей Гаруна, Умм Хабиб, приобрела дворец на восточном берегу во время правления Мамуна; этот дворец в некотором роде стал приданым для дочерей халифов, не имевших собственных дворцов. К концу девятого столетня такую функцию стал исполнять дворец Махди в Русафе, также расположенный на восточном берегу Тигра
{323}.
Жена Мамуна Буран унаследовала свой дворец в прекрасном месте на том же восточном берегу от своего отца, старейшины при дворе Мамуна. Когда она стала пожилой, много лет спустя после смерти мужа, халиф Мутадид, человек, который вернул в 892 году столицу халифата из Самарры в Багдад, попросил, чтобы дворец был передан ему под резиденцию. Пожелание халифа невозможно было не выполнить, и Буран пришлось смириться с потерей:
она попросила несколько дней отсрочки, чтобы могла выехать и передать ему дворец. Затем она отремонтировала дворец, оштукатурив, побелив его, обставив самой лучшей и изысканной мебелью, развесив занавеси на порталах. Она заполнила шкафы всем, что моею быть полезным для халифа, и наняла слуг и прислужниц, чтобы удовлетворяли все могущие появиться просьбы. Выполнив все это. она переехала и сообщила халифу, что он может перебираться в новую резиденцию.
Мутадид остался доволен, и дворец Буран стал сердцевиной дворца последующих халифов Аббасидов
{324}. Нет никаких сомнений, что Буран была хозяйкой собственного дома.
Передача Буран своего дворца халифу отметила конец прежней эры. После возвращения халифата в Багдад мы больше не имеем сведений о том, чтобы принцессы владели собственными дворцами или городскими домами. Насколько мы можем судить,
хурам теперь находился в помещении Дворца Халифата — огромной, расползшейся во все стороны резиденции, которая образовалась на месте дома Буран на восточном берегу Тигра. Кажется, эта выдающаяся женщина имела свои апартаменты внутри данного комплекса, и вероятно, именно с этого времени гарем впервые выделился как отдельное женское помещение внутри дворца.
Похоже, что в девятом веке дворец, первоначально построенный Махди, заложившем на восточном берегу квартал Багдада, известный под именем Русафа, стал чем-то вроде приданого для женщин семьи Аббасидов и их домочадцев. Последняя из знатных дам халифата Аббасидов, мать Муктадира, известная под именем Сейида (то есть «хозяйка»), жила в апартаментах Дворца Халифата и построила надгробный комплекс
(турба) в Русафе. Именно тут она хранила в тайнике деньги, отложенные на всякий случай — как говорят, 600 000 динаров
{325}, и здесь ее положили на вечный покой после смерти.
Устройство
хурама варьировалось, а количество его обитателей явно увеличилось, когда аппарат Аббасидов стал создавать более продуманную структуру дворца.
Существует несколько указании на количество женщин, которые могли жить в гареме вместе со слугами. Говорят, что Гарун аль-Рашид имел в своем
хураме более двух тысяч певичек и служанок
{326}, но согласно имеющимся записям, здесь жили примерно двадцать четыре наложницы, которые вынашивали его детей
{327}. В другом источнике заявляется, что халиф середины девятого века аль-Мутаввакиль содержал четыре тысячи наложниц и имел близость с каждой из них
[24]{328}. Учитывая, что он был халифом в течение четырнадцати лет, что составляет чуть больше пяти тысяч дней (и ночей)
{329}, а также глубоко укоренившееся мнение о том, что халиф испытывал склонность к алкоголю, подобные цифры предполагают выносливость и решимость, которую могут превзойти лишь немногие из нас. Однако поскольку эти цифры исходят от старого сплетника Масуди, который всегда охотился за сенсациями, нам следует принимать их с осторожностью.
Может показаться очевидным, что официальные жены халифов становились лидерами в
хураме. по на деле такое случалось довольно редко. По мусульманскому закону халифу, как и любому другому мужчине, позволялось иметь четырех жен, если он мог одинаково хорошо их содержать. Женой Мансура была Арва, больше известная как Умм Муса. Она имела аристократическое происхождение, уходящее корнями к домусульманской династии Химьяров, правившей в Йемене. Этот брак, по-видимому, стал крупной удачей тогдашних жалких Аббасидов — ведь Мансур женился на Арве задолго до переворота, который привел его к власти.
Вероятно, Арва настояла на добрачном соглашении, по которому, пока она была жива, у Мансура не будет ни другой жены, ни наложниц. Источники говорят, что он делал много попыток аннулировать соглашение — но во всех случаях ей удавалось убедить судей поддержать контракт. После се смерти, на десятом году правления Мансура, как говорят, ему подарили сто девственниц. Однако к этому утверждению стоит отнестись скептически — мы абсолютно уверены, что два его сына от Арвы, Махди и Джафар, были единственными, кого он считал своими наследниками
{330}. Кажется, позднее Мансур женился на женщине по имени Фатима, которая происходила из рода Таях и, великого героя раннеисламского периода; от нее он имел грех сыновей, но могли быть и другие. Также известно, что у Мансура имелись по крайней мере две наложницы— рабыня-курдка, чье имя в истории не сохранилось, и византийка по имени Неугомонная Бабочка; но мы знаем о них только потому, что они родили ему сыновей
{331}.
Его сын Махди женился только один раз и до того, как стал халифом — очень уважаемая и традиционная женитьба — на своей кузине Рите, дочери первого халифа Аббасидов Саффаха. Похоже, это была подходящая пара, но ни один из двух сыновей, которых родила Рита, не стал наследником. В то же время, будучи женат на Рите, Махди приобрел юную рабыню по имени Хайзуран, которой было суждено возглавить его
хурам. Может показаться странным, но между Ритой и Хайзуран не существовало традиционной вражды, и Рита даже оказывала своему мужу значительную помощь во время тревожного периода неопределенности, когда он утверждал свое положение после смерти отца.
Став халифом, Махди женился на Хайзуран, смело нарушив традиции, так как она не происходила из аристократического окружения, а была всего лишь рабыней, которую перед свадьбой требовалось формально отпустить на волю. В то же самое время он заключил более традиционный брак, женившись на Умм Абд Аллах, другой своей кузине
{332}. На следующий год он женился на Рокайе — вполне подходящей паре, так как она вела род от халифа Османа (644–656 годы правления)
О следующем халифе, мало прожившем Хади, известно гораздо меньше. Мы не знаем, женился ли он вообще, и хотя известны девять его зарегистрированных детей, семь сыновей и две дочери, все они были от наложниц
{333}. Гарун по всем правилам женился на своей кузине Зубейде, которая стала любовью всей его жизни и матерью его несомненного наследника Мухаммеда Амина. Став халифом, он взял себе еще несколько жен. Одной из них стала Гаднр (умерла в 789 году), она была наложницей его брата Хади, к которому Гарун был очень привязан. В более поздний период своего правления, после 803 года, Гарун женился еще четыре раза — всякий раз на членах своего разросшегося семейства. Умм Мухаммед и Аббаса были двоюродными сестрами, Умм Абд Аллах — более отдаленной кузиной. Другая жена, Азиза, являлась дочерью брата Хайзуран. Гарун женился и на женщине, чье имя неизвестно, по которая была потомком и халифа Османа, и Хасана ибн Али ибн Аби Талиба — таким образом, род ее восходил к самому Пророку. Ни один из этих аристократических союзов не дал детей — похоже, их цель была лишь сплотить семью, усилив связи между ее различными ветвями. Удивительно, но две женщины, Умм Абд Аллах и Азиза, раньше были замужем за другими членами правящей семьи и развелись, а Гаднр имела любовные отношения с братом халифа, что было широко известно. В некоторых случаях дело выглядело так, будто помещая этих женщин в свой
хурам, Гарун обеспечивал им свою защиту и высокий статус. Азиза умерла молодой, но остальные жены пережили халифа
{334}.
Похоже, что после смерти Гаруна в 809 году следующие халифы, за редким исключением, не женились вообще. Такое впечатление может создаться просто из-за отсутствия информации — но, что более вероятно, оно отражает реальные изменения в структуре династии. Причины этих изменений остаются неясными. Но понятно, что это происходило не потому, что халифы потеряли интерес к женщинам или к отцовству. Больше похоже на то, что они просто перестали чувствовать себя скованными условностями арабского аристократического общества, кроме того, стали скорее желать отдаления от собственной родни, а не усиления связей с пей. Основной опорой Аббасидов в Багдаде к этому времени стали восточные персы и тюрки, многие из которых происходили от рабов: то, что монархам приходилось вступать в альянс с такими людьми, не было ни подходящим, ни подобающим.
Таким образом, ведущей фигурой в хураме постепенно становилась мать халифа, а не какая-либо из жен или фавориток. Ни один из халифов девятого и десятого веков не имел таких любовниц, как Хайзуран или Зубейда, которые проявили бы себя сильными и энергичными фигурами на политической арене. Вместо них в придворной жизни стали доминировать матери халифов.
Интересно, что очень похожий процесс наблюдался при Оттоманском дворе семью веками позже. Сохранившиеся описания и документы за этот период гораздо полнее, и без сомнения можно утверждать, что турецкие султаны во второй половине пятнадцатого столетия прекратили жениться
{335} — за исключением Сулеймана Великолепного (1520–1566), чья женитьба в 1534 году на Хуррем (Роксолана в западных источниках) вызвала удивление и в значительной степени оказалась оскорбительной для оттоманских традиционалистов. Народ особенно озаботило то, что султан сосредоточил свое внимание на единственной женщине — это казалось совершенно неестественным, его, должно быть, околдовали
{336}.
В Турции шестнадцатого века фаворитки султана, среди которых Хуррем была просто самой успешной, в полном смысле слова правили гаремом. К началу семнадцатого века это положение изменилось. Теперь гаремом управляла Валид Султан, царица-мать: фаворитки исчезли, а наложницы султана стали тенями, временными фигурами, чьи имена были едва известны. Подъем статуса царицы-матери сопровождался другими изменениями в существовании дворца. Принцев больше не посылали в провинцию набираться опыта, приобретать друзей и престиж среди людей — вместо этого их держали в императорском дворце без своих дворов и владений. Женщины царской семьи, многие из которых имели собственный отдельный дом в пятнадцатом и шестнадцатом веках, теперь тоже жили в главном гареме
{337}.
Дом Аббасидов постепенно преобразовывался точно таким же образом. Халифы перестали жениться, а царица-мать сделалась самой главной женщиной в гареме. Дети халифа отныне держались во дворцах Багдада и Самарры, а не отсылались управлять провинциями. Дворцы, которыми владели дочери и кузины Мансура и Махди, перешли к короне или были распределены среди тюркских солдат.
Однако Мамун все-таки женился, и это превратилось в самую зрелищную церемонию, которую помнили потом века из-за расточительности, казавшейся следующим поколениям отражением великолепия и богатства эры Аббасидов. Вся церемония была тщательно разработанной демонстрацией обходительности и богатства, знаком возвращения добрых старых времен после долгих и ужасных лет гражданской войны. Это единственная церемония свадьбы халифа, о которой мы имеем подробную информацию
{338}.
Невестой была Буран, хозяйка дворца в Багдаде, который стал резиденцией халифа после 892 года. Ее отцом был Хасан ибн Сахл. Хасан являлся политическим представителем Мамуна в Ираке во время гражданской войны, которая началась после смерти Амина, а его брат Фадл исполнял должность наставника и главного советника до самого своего падения и казни. Частично свадьба была символом примирения и знаком благодарности семье, которой халиф был обязан столь многим. Похоже, что Хасан к концу войны заработал какой-то нервный срыв и в течение шести лет, последовавших за прибытием Мамуна в Багдад, жил, уйдя отдел. Он стал практически затворником, меланхоликом и беспокойным человеком, боящимся темноты, к тому же очень суеверным.
Свадьбу устроили в маленьком городке под названием Фам ас-Силх на Тигре, примерно в 200 километрах к юго-востоку от Багдада. Тут, среди пальмовых рощ и каналов нижней Месопотамии, находилось несколько богатейших сельскохозяйственных поместий Среднего Востока, а сам городок мог похвастать лишь службой в мечети по пятницам и своими рынками. Как и многие другие города этого региона, он был покинут и разрушен в более поздний период — но в девятом веке он находился на пике процветания.
Жених прибывал на лодке из Багдада. Аббас, его сын, приехал сюда заранее, и по его прибытии состоялся тщательно продуманный обмен любезностями. Хасан и Аббас встретились вне жилища Хасана на берегу Тигра, где по этому поводу был построен специальный павильон. Когда мужчины заговорили, первым в знак уважения приготовился спешиться Аббас, и Хасан стал просить его не делать этого; затем настала очередь Хасана попытаться продемонстрировать свое уважение, сойдя с лошади, но Аббас удержал его. Наконец, они обнялись, все еще сидя в седлах, а затем отправились в дом Хасана, Аббас двигался впереди.
Мамун отбыл из Багдада 23 декабря 826 года. Стоял Рамадан, и когда он прибыл в Фам ас-Силх, настало время вечерней молитвы. Он, его сын Аббас и его будущий тесть Хасан немедленно разговелись. После того, как они поели и вымыли руки, халиф попросил вина. Принесли золотой кубок, в который налили вина. Мамун отпил и протянул кубок Хасану. Повисла неловкая пауза: Хасан, добропорядочный мусульманин, никогда не пил вино, но отказ выглядел бы как оскорбление халифа. Его сопровождающий мигнул ему, чтобы он сделал вид, будто подчиняется, таким образом найдя выход. «Повелитель правоверных, — сказал Хасан, — я выпью с твоего позволения и следуя твоему приказу» — потому что раз сам халиф приказал ему сделать это, то как это может противоречить исламу? Халиф ответил, что без приказа он не протянул бы ему кубок. Напряжение было снято, и дальше они пили вместе.
На следующий вечер состоялась параллельная свадьба — сын Хасана Мухаммед женился на своей двоюродной сестре. На третий вечер имела место свадьба халифа. Буран сопровождали две старшие дамы из семьи Аббасидов, которые помогали ей готовиться к великому дню; одной из них была Зубейда, теперь уже крупная и важная дама, которая пережила несчастье — смерть своего нежно любимого сына Амина
и гражданскую войну в Багдаде. Оставшись в живых, она примирилась с Мамуном, человеком, ответственным за свержение ее сына, и жила жизнью необычайно богатой вдовы.
Как только все расселись, Зубейда принесла золотое блюдо, на котором лежала тысяча жемчужин, которое она опрокинула над невестой. После непристойной перебранки, когда выяснилось, что один из слуг под шумок стащил десяток жемчужин, их снова собрали, уложили на блюдо и поставили на колени невесте. Затем Мамун сказал: «Это подарок тебе на свадьбу, а теперь проси у меня что хочешь».
Буран не издала ни звука, и ее бабушке пришлось подбадривать ее. «Ответь своему господину, — сказала она, — потому что он приказал тебе сделать это». Тогда, явно подталкиваемая Зубейдой, невеста высказала две просьбы. Первая — чтобы халиф помирился со своим дядей, поэтом Ибрахимом ибн Махди, который попытался утвердиться халифом в Багдаде на последнем этапе гражданской войны, а вторая — чтобы Зубейде позволили отправиться в паломничество.
Обе просьбы были удовлетворены. Затем Зубейда подарила ей невесте
бадану Омейядов. Это была очень ценная вещь — безрукавка с рядом больших рубинов спереди и сзади, которая раньше принадлежала Аттике, жене халифа Омейяда Абд альМалика (685–705). Она переходила из рук в руки в царской семье Омейядов, а после переворота Аббасидов Умм Салама, жена первого халифа новой династии Саффаха, добилась, чтобы безрукавку отдали ей
{339}. Теперь, более чем сто лет спустя, безрукавка стала священной реликвией, и когда Зубейда передала ее Буран, это послужило знаком, что та становится ведущей фигурой в
хураме.
Этой ночью Мамун и Буран впервые спали вместе. Чтобы наполнить спальню ароматом, была зажжена свеча (или свечи), изготовленная из серой амбры и весившая более 3 килограммов. Серая амбра — это похожее на воск вещество, получаемое из спермы кита, которое составляло основу самых редких и самых дорогих духов того времени. Обычно ее находили плавающей в море или выброшенной на берег. Как многие очень дорогие предметы роскоши, она не всегда адекватно воспринималась потребителями — по крайней мере, Мамун пожаловался, «по ее дым слишком раздражает, так что слугам пришлось забрать эту свечу из амбры и замени гь ее обычными. Согласно более позднему рассказу, эта проблема оказалась не единственной в брачную ночь. Когда Мамун возлег с невестой, то обнаружил, что у нее как раз наступили месячные; ему пришлось отстраниться. На следующий день, когда главный судья Абу Юсуф подошел к нему с поздравлениями, Мамун с откровенностью, которая может удивить современного читателя, ответил маленьким стихотворением про жеребца, который приготовился атаковать поднятым копьем, чтобы пустить кровь — но его остановила кровь с другой стороны
{340}.
На следующее узро Мамун выполнил одно из обещаний, данных Буран. Ибрахим ибн Махди, который, по-видимому, прибыл из своего убежища на лодке, прошел от берега реки к дому, где поселился халиф. Его допустили к монарху. Когда занавес отодвинули, и Ибрахим оказался лицом к лицу с Мамуном, он бросился на пол, но халиф сказал: «Дядя, больше не волнуйся!» — и Ибрахим поднялся и поцеловал его руку. Затем ему подарили почетные халаты. Халиф послал за лошадью и опоясал ею мечом, прежде чем они вышли на публику, чтобы показать, что Ибрахим прощен и восстановлен в милости.
Праздники продолжались две недели, так как ведущие лица страны всячески демонстрировали свое богатство и щедрость. На одном пиру, который затем долго упоминался в историях и легендах, Хасан написал на листочках названия имений и разбросал записки среди гостей. Тот, кто смог подобрать листок, мог сразу же ехать в поместье и объявлять его своей собственностью. Согласно другой версии этой истории, гостям раздавали шарики мускуса. Внутри каждого из них находилась бумажка с названием поместья, именем девушки-рабыни или приметами коня; получившие такую бумажку мужчины шли к должностному лицу, которое подтверждало, что они действительно получают этот выигрыш
{341}.
Число одариваемых не ограничились несколькими приближенными персонами. Солдаты армии Мамуна, которые обычно платили за свое содержание из собственного жалования, были рады обнаружить, что теперь за все заплачено халифом, а том числе за пищу и фураж для их животных. И погонщикам верблюдов, сдавшим их в наем, и лодочникам — всем досталось от царских щедрот. А среди женщин, как описывают, прошло даже соревнование по величине трат, и когда одна из них заявила, что истратила 25 миллионов дирхемов, Зубейда уничтожающе ответила, что это ерунда, и что она истратила от 35 до 37 миллионов.
Но эта щедрость не пропала безответно — Хасану было отдано богатое поместье в Силхе и налоговые сборы провинции Фарс на юго-западе Ирана за целый год. Насладившись его двухнедельным гостеприимством, Мамун, его свита и молодая жена покинули хозяина и направились в Багдад, прибыв домой 5 февраля.
Буран и Мамун прожили вместе только восемь лет — до смерти халифа. Похоже, детей у них не было, но Буран сопровождала мужа во время кампании против византийцев и находилась с ним у его смертного одра. Она пережила мужа, поселилась, как мы видели, в собственном дворце в Багдаде и умерла в почете, в весьма преклонном возрасте восьмидесяти лет
{342}.
Рассказ о свадьбе Буран — история об экстравагантности и щедрости. Свадьбу использовали для того, чтобы показать всему миру великолепие нового двора и прогнать память о гражданской войне, лишениях и разрухе. Это было также собрание царской семьи, призванное залечить внутренние раны, продемонстрировать общее примирение и возврат благосклонности халифа ко всем родичам. Однако она не положила начало тенденции. Ни один из последующих халифов дома Аббасидов не был рожден в браке, и ни одна из цариц-матерей, которые заправляли в
хураме, не была замужем за отцом своих детей.
Девушки, составлявшие гарем халифов, происходили из самых различных земель и были представительницами разных культур — но так как исламские законы запрещали обращать в рабство мусульман, они обычно доставлялись извне империи. Некоторые девушки приобретались в качестве добычи после поражения врагов халифа.
В горах северного Ирана, на южной оконечности Каспийского моря, достаточно долго существовали независимые местные княжества. Хотя внешне они выказывали послушание халифам, но во многих вопросах фактически оставались полностью независимы от Багдада. Ислам медленно распространялся в этих отдаленных регионах, а старые обычаи этих мест все еще сохранялись после того, как давно исчезли в равнинных и более урбанизированных районах Ирана. Этими княжествами правили династии, ведущие свое происхождение с доисламских времен эпохи Сасанидов, а в некоторых случаях князья даже утверждали, что принадлежат к младшим ветвям старой персидской царской династии. В любом случае местные жители очень часто продолжали отрицать догмы ислама. Поэтому когда войска Аббасидов совершали набеги в эти районы, захваченных в плен принцесс здешних династий привозили в гаремы аббасидской знати.
Именно таким образом Махди среди прочих пленников получил наложницу по имени Бахтария, которая стала матерью его сына Мансура
{343}. Матерью халифа Мамуна была дочь знатного человека из Бадгиса (современный западный Афганистан), которую привезли в гарем Гаруна после самоубийства его отца. Семья матери халифа Мутасима, Мариды, происходила из далекой Согдианы в центральной Азии, хотя сама девушка выросла в иракской Куфе
{344}. Может быть, не было случайным совпадением, что семья Мариды происходила именно из той части Центральной Азии, откуда ее сын впоследствии набирал свою тюркскую стражу — из которой, в свою очередь, сформировалась новая военная аристократия девятого века.
Ни одна из этих женщин не являлась супругой халифа или другого знатного лица, которому принадлежала — но их аристократическое происхождение, безусловно, было частью их привлекательности. Политические контакты в странах их происхождения могли оказаться гораздо более важным, чем это предполагают арабские писатели, — ведь эти женщины становились матерями халифов, и такое происхождение обеспечивало Аббасидам родственные связи в районах, известных своими выносливыми воинами.
Рабыни из берберов Северной Африки высоко ценились с сексуальной точки зрения, и сам великий халиф Мансур был сыном одной из них. Однако в девятом и десятом веках аристократию гарема формировали в первую очередь гречанки из Византийской империи, и именно их сыновья становились халифами. Мать Васика Каратис
{345}, мать Мунтасира Хубшия
{346}, мать Мухтади Курб
{347} и мать Мутадида Дирар
{348} — все они происходили из Византии. Матери других халифов прибыли из Ирака, хотя мать Мустаина Мухарик считают славянкой
(сиклаби) — возможно, предполагая, что ее родиной является Восточная Европа
{349}.
Кроме того, женщины попадали в гарем также благодаря своим талантам, музыкальным или певческим. Восьмой и девятый века были наилучшими временами для девушек, обладавших слухом и голосом. В социальной среде, где свободных женщин из уважаемых семей все больше ограничивали и прятали, певица, причем именно рабыня
[25], могла принимать своего хозяина и его друзей (или, в некоторых случаях, его наложниц). Как гетеры классической Греции или гейши традиционной Японии, многие из этих девушек имели прекрасное образование, были искусны и остроумны. Вместе с мужчинами
надим (веселыми компаньонами) они являлись основными носителями дворцовой культуры того периода.
Образ поющей девушки в литературных произведениях, таких, как «Книга Песен», очень живой и привлекательный. Разумеется, такая девушка красива и вдобавок имеет прекрасный голос — но она также умна, великолепно воспитана и уверена в себе, она способна поставить на место грубого или непривлекательного мужчину.
Хорошая певица могла иметь репертуар из десяти тысяч строк, «в которых нет ни одного упоминания об Аллахе, возмездии пли наказании в потустороннем мире»
{350}. Они были также сексуально доступны — по крайней мере, для своих владельцев и покровителей. Джахиз, который написал эссе о певицах, описывает, как мужчины влюблялись в них, и как талантливая девушка могла дурачить нескольких мужчин одновременно, чтобы получить от них максимум. Он также описывает, как некоторые певицы теряли профессиональную независимость, если влюблялись в своих поклонников
[26].
С одной стороны, некоторые из этих девушек являлись великими артистками, но с другой — все они в первую очередь были успешными куртизанками, чьи музыкальные и интеллектуальные способности обеспечивали лишь фон для наиболее эффективного обольщения. Набожные люди, безусловно, не одобряли таких женщин — но как доказывал Джахиз, использование рабынь таким образом не противоречило законам ислама.
В начальном периоде правления Аббасидов святой город Медина был, как ни странно, самым известным центром образования и обучения певиц. Обучавшихся музыке девушек обычно называют рабынями — но они вполне могли быть дочерями бедных семей, которым такое образование давало шанс выйти в люди. Некоторых продавали учителям сами родители. Нам сообщают, что иногда сам халиф прослушивал выпускниц таких школ. В некоторых случаях придворные делали поиск подобных талантов своим промыслом, в котором крутились крупные суммы денег. Подобно современным футболистам с их трансферными гонорарами, девушки продавались и перепродавались, и при каждой сделке цена постоянно возрастала. Конечные суммы могли оказаться просто невообразимыми — так, Макнуна, мать принцессы Улайи, была куплена халифом Махди за 100 000 серебряных дирхемов. Другая девушка, Басбас, стоила казне 17 000 золотых динаров. Возник даже отдельный жанр анекдотов о благоразумных визирях, твердо намеренных удерживать таких халифов, как Махди или Гарун, от проматывания неимоверных сумм на покупку привлекательных девушек.
Существовали и другие сложности. Одна из историй рассказывает о том, как Ибрахим аль-Мосули продал Гаруну рабыню по имени «Девушка с родинкой» за огромную сумму в 70 000 дирхемов. Однажды Гарун заставил ее поклясться говорить только правду, а затем спросил, было ли что-либо между нею и ее прежним хозяином. Она призналась, что было, но лишь однажды, однако любовь халифа уже обратилась в ненависть, и он отдал рабыню одному из своих слуг по имени Хаммавайх. Но Гаруну не хватало ее песен, и однажды он упрекнул Хаммавайха за то, что тот держит девушку только для себя. Он договорился, что придет послушать ее пение на следующий день. Слуга расстарался произвести на своего хозяина наилучшее впечатление, взяв напрокат массу украшений, чтобы рабыня выглядела подобающим образом. Халиф удивился, увидев такую демонстрацию богатства одним из своих слуг, но вскоре выяснил, что произошло. Как это было традиционно для подобных историй, халиф заплатил за все драгоценности и спросил, чего девушка хочет еще. Она попросила, чтобы Хаммавайху (который, по-видимому, хорошо к ней относился) дали государственную должность. Что самое замечательное в этой поистине фантастической истории — чиновник по имени Хаммавайх действительно был правителем провинции Фарс в последние годы царствования Гаруна
{351}.
Даже Гарун не всегда мог позволить себе поступать так, как ему хотелось. Девушка по имени Инан была рабыней из Ямама в восточной Аравии
{352}. Там ее вырастили и обучили, а потом ее купил человек по имени Натифи. Инан оказалась живой, кокетливой и талантливой, особенно когда дело доходило до импровизации в поэзии; по находчивости она могла соревноваться в стихосложении с самим Абу Нувасом — самым знаменитым поэтом своего времени. Похоже, Натифи был ужасно ревнив и, как говорят, часто бил девушку, доводя ее до слез. В то же время он отказывался расстаться с ней. Гарун настолько сходил по ней с ума, что Хайзуран начала тревожиться, как бы та не заняла ее собственное место в сердце халифа. Она попросила совета у выдающегося учителя Асмаи, который пообещал поговорить с халифом. Однажды, когда Гарун бранил Натифи за отказ продать ему девушку, утверждая, что заинтересован в ней
исключительно из-за ее поэтического дара, Асмаи заметил, что если поэзия действительно все, что девушка может дать халифу, то не мечтает ли тот заняться любовью с Фараздаком — имея в виду знаменитого поэта эпохи Омейядов. Халиф рассмеялся, вероятно, поняв абсурдность своего утверждения.
Согласно одной версии, Гарун попытался купить Инан, но Натифи сказал, что хочет за нее не менее 100 000 золотых динаров. Даже по меркам Гаруна это была запредельная цена, поэтому он попытался поторговаться, предложив заплатить 100 000 — но серебряными дирхемами по курсу 7:1 (обычный курс был примерно 20:1). Натифи отказался, и Гаруну пришлось объяснить девушке, что он не может заплатить достаточно, чтобы удовлетворить ее хозяина, поэтому должен ее вернуть, хотя она уже находилась в его гареме.
Некоторое время спустя Натифи умер, и Гарун увидел в этом шанс. Натифи оставил много долгов, которые нужно было оплатить, дабы сохранить поместье, и наследники решили, что Инан — та самая ценность, которую можно продать, чтобы сохранить остальную собственность. Поэтому ее отвезли на рынок рабов у ворот Карх, чтобы продать с аукциона. Она сидела на скамье, закрываясь, как могла, поливая насмешками и ругательствами тех, кто довел ее до такого низменного положения. Тогда Гарун послал на аукцион Мансура, главного евнуха и мастера на все руки, чтобы тот купил ее. Услышав обвинения девушки в адрес тех, кто допустил се падение, Мансур решил, что это относится к халифу, который в снос время отказался купить ее, и отвесил рабыне увесистую пощечину. Когда начался аукцион, Мансур предложил 200 000 дирхемов, но другой человек предложил на 25 000 больше. Тогда Мансур ударил его и воскликнул: «Как смеешь ты перебивать владыку правоверных!» Но в конце концов кто-то неизвестный купил девушку за 250 000 дирхемов и увез ее в Хорасан, где она умерла на много лет позже Гаруна.
Изложенная здесь история может быть полной выдумкой, но она рисует весьма яркую картину превратностей жизни талантливой девушки. Она также показывает границы власти халифа. Он не мог наказать Натифи без реального к тому повода и был не в состоянии просто забрать девушку после смерти ее хозяина, когда наследники и их юристы решили выставить ее на публичные торги. Но есть и более счастливая история, рассказывающая о двух девушках, которые во время обучения привлекли внимание халифа, что позволило им попасть в его домашнее окружение
{353}. Гарун послал за Асмаи, который во многих подобных рассказах играет роль его постоянного творческого советника. Тот приехал из Багдада в Ракку, где в это время располагался двор. Первую девушку спросили, что она знает, и она ответила, что самое важное — то, что Аллах велит в своей Книге, а уже потом то, что интересует людей в поэзии, языке и литературе с историей. Тогда Асмаи подверг ее детальному в экзамену, включив такие темы, как разночтения Корана, на что девушка отвечала так, будто считывала ответы прямо из книги. Потом он перешел к грамматике, поэтическим размерам и историческим повествованиям, и обнаружил, что девушка великолепно подготовлена по всем темам. Ее подруга, хоть и не так блестяще, тоже вскоре закончила экзамен.
Когда Асмаи уже составил отчет халифу и был на пути в Багдад, его догнал человек с рабыней, вручивший эксперту толстый кошелек с тысячей динаров и записку, в которой говорилось что его «дочь» хочет поделиться с ним своим успехом: халиф наградил ее деньгами и целым шкафом одежды, а в кошельке — доля Асмаи. Более того, девушка обещала продолжить окатывать Асмаи свое расположение и действительно поступала так, пока он не потерял с ней контакт в хаосе гражданской войны во время правления Амина, когда разбросало почти весь старый двор.
В этом, как и в других рассказах, рабыня вовсе не является пассивной жертвой. Наоборот, принадлежность к
хураму халифа считалась желанным и весьма доходным статусом, успешной карьерой для девушки, которая имела столь мало других возможностей проявить себя. Без сомнения, сексуальная привлекательность в такой ситуации была важна — но столь же важной являлась широкая образованность и быстрый ум.
Социальную и эмоциональную жизнь женщин в гареме восстановить почти невозможно. Традиционны рассказы о печали и горькой ревности, но есть и другие — о дружбе и взаимопомощи. Одно из повествований запоминается особенно хорошо благодаря сведениям, которые оно дает о существовании лесбийских отношений в гареме, и об опасностях, которыми они были чреваты. Дело происходило при дворе мало прожившего халифа Хади. Был вечер, халиф сидел, свободно общаясь с маленькой группкой близких ему людей. Один из них, Али ибн Яктин, и рассказал нам о происшедшем. Пусть же он изложит все своими словами:
Вошел слуга и шепнул что-то на ухо [халифу]. Тот быстро поднялся, бросив «не расходитесь!», и на некоторое время вышел из комнаты. Потом он вернулся, тяжело дыша, рухнул на подушки и некоторое время отдыхал, пока не успокоился. С ним вошел евнух, неся поднос, накрытый куском ткани, и дрожа, остановился перед ним. Мы все гадали, что происходит. Затем Хади сел и велел слуге: «Поставь его!» Тот поставил поднос на пол. Потом халиф приказал: «Подними покрывало!» Там на подносе лежали головы двух рабынь. И боже, за всю свою жизнь я никогда не видел более красивых лиц и более прекрасных волос. В их волосы были вплетены драгоценности, и воздух наполнился запахом их духов. Мы были поражены. Тогда он спросил: «А знаете, что они делали?» «Нет», — ответили мы. «Нам сообщили, что они влюбились друг в друга и встречались с порочной целью. Я послал этого евнуха понаблюдать за ними и рассказать мне обо всем. Он пришел и сказал мне, что они вместе, я поймал их под одним одеялом, занимающимися любовью, и убил обеих». Затем он сказал: «Мальчик, забери эти головы!» — и продолжил разговор, будто ничего не произошло{354}.
Кажется, история эта поведана скорее для того, чтобы показать ревность халифа и его вспыльчивый характер, а вовсе не осудить поведение девушек — но невозможно сказать, насколько их поступок или его реакция были типичны для того времени и ситуации.
Была еще одна черта гарема, далекая от очаровательного мира модных певичек. Одной из тайн семейной жизни Аббасидов является судьба дочерей халифов. До эпохи Гаруна они, похоже, выходили замуж за членов правящей семьи, включая самих халифов. Последними такими женитьбами, описания которых существуют, были союзы между двоюродными сестрами и братьями — дочерей Гаруна Фатимы и Хамдуны с сыновьями его брата и предшественника Хади, Исмаилом и Джафаром. Примерно в то же самое время юного Мамуна женили на Умм Исе; свадьба эта, вероятно, имела место перед смертью Гаруна в 809 году.
Женитьба Мамуна не была фиктивной, пара имела двоих детей — Мухаммеда и Убейд Аллаха
{355}. Мамун использовал своих дочерей, чтобы укрепить династические связи с семейством Али, с которым был очень близок. Он выдал Умм Хабиб замуж за Али Риду, а ее сестру Умм Фадл за другого члена семьи. Али Рида вскоре умер при странных обстоятельствах, а брак Умм Фадл был длительным
{356}.
Что происходило с дочерями халифов в девятом веке, абсолютно неясно. Если они и выходили замуж традиционным образом, то есть за членов своей семьи, то эти браки уже не считались достаточно важными событиями, чтобы историки писали о них. Или же принцессы жили призрачной изолированной жизнью во дворцах Багдада, и статус не позволял им выходить замуж вообще? Похоже, наверняка узнать это мы уже не сможем.
Принцессы Аббасидов имели привилегированный статус, но их жизнь была очень серьезно стеснена требованиями этикета и социальных обычаев. В большинстве случаев мы не знаем об этих женщинах ничего, кроме их имен, но одна из них, Улайя бинт Махди (777–825) стала настолько известной поэтессой, что некоторая биографическая информация о ней появилась в «Книге Песен».
Мать Улайи, Макнула, была одной из самых привлекательных девушек-рабынь в Медине; она обладала прекрасными чертами лица. Хотя некоторые критики утверждали, что у нее слишком маленький зад, у псе была прекрасная грудь и великолепная фигура, которую она умела показать в выгодном свете. Она произвела большое впечатление на Махди, и Хайзуран говорила, что не было другой женщины, которая стоила бы ей стольких тревог.
Похоже, что Улайя была единственным ребенком Макнуны, и когда выросла, то стала одной из лучших поэтесс и певиц своей эпохи. У нее была врожденная отметинка на лбу, поэтому она изобрела особую повязку, усыпанную драгоценными камнями, чтобы прикрывать родинку.
Улайя жила, зажатая в тисках противоречий своего положения. Говорят, она была религиозна и много времени проводила в молитвах и изучении Корана. Поэзия и песни были ее единственной радостью — но она, как сообщают нам источники, не пила вина и пела лишь в периоды месячных, когда женщинам запрещалось молиться. Как она говорила, «Аллах ничего не запрещает, не давая возможности делать что-либо другое взамен»; еще она говорила, что Аллаху не придется прощать ей грехи, потому что ее поэзия — это всего лишь игра
{357}.
Однако ее творческое отношение к ограни честям исламских законов не разрешило более фундаментальной двусмысленности ее положения. В таланте Улайи как поэта сомнений ни у кого не имелось: она могла сохранить свое лицо рядом с величайшими мастерами того времени, Ибрахимом аль-Мосули и Ибрахимом ибн Махди. Но в отличие от них, она не имела права выйти на открытую аудиторию. Ее отношения со сводным братом Гаруном складывались, с одной стороны, из его любви к ней и истинного обожания ее поэзии, а с другой — из его ревностного ограждения чести женщины своей семьи и глубоко спрятанною ощущения, что женщине такого происхождения не подобает сочинять стихи, которые уходят в народ, даже если она сама никогда не появляется на публике. Несмотря на подобную напряженность, они, похоже, были искренне привязаны друг к другу. Во время своей последней поездки в Хорасан в 809 году Гарун пригласил сестру сопровождать его, по она очень тосковала по Ираку, и он позволил ей вернуться. Когда он умер, ее захлестнуло горе
{358}.
Улайя бипт Махди могла иметь аудиторию только на семейных вечерах. Певица Хариб, которой, хотя она и женщина, позволялось присутствовать на подобных мероприятиях, описала один день, проведенный с Ибрахимом ибн Махди, Улайей и их братом Якубом, который прекрасно играл на
замаре — духовом инструменте, немного похожем на гобои. Улайя начала первой, спев одно из собственных сочинений, а Якуб аккомпанировал ей; затем свое пел Ибрахим, потом Якуб снова играл на
замаре. Хариб говорила потом: «Я никогда прежде не слышала ничего, подобного их пению, и уверена, что никогда более не услышу»
{359}.
Свидетелем другого такого же вечера оказался один из сыновей Гаруна, Абу Ахмед. Ои попал на него вместе со своим братом, халифом Мамуном, и двумя дядями, Мансуром и Ибрахимом, сыновьями Махди. Через некоторое время Мамун сказал Абу Ахмеду: «Можешь встать и уходить, если хочешь». Тот так и хотел сделать. Но, оглянувшись, увидел, что занавес со стороны женской половины поднят. Почти немедленно он услышал самые чарующие голоса. Его брат, халиф, повернулся к нему и объяснил, что Абу Ахмед слышит свою тетку Улайю, которая поет с его дядей Ибрахимом
{360}.
Даже до следующего поколения дошло ощущение неловкости от ее достижений. Один из внуков халифа Хади, Мухаммед ибн Исмаил, описал
{361}, как он присутствовал на встрече халифа Му-тасима с несколькими поэтами. Были пропеты несколько строк из Улайи, и халиф спросил, кто сочинитель. Повисла неловкая тишина, пока Мухаммед не выпалил, что строки принадлежат Улайе. Он сразу же понял, что совершил ошибку, и халиф умышленно проигнорировал эти слова. Но Мухаммед все же счел нужным исправить ситуацию, повторив, что он, как и халиф, тоже является племянником поэтессы и поэтому разделяет любой позор, который мог бы обрушиться за родство с женщиной, чья поэзия вышла на публику.
Особая проблема была связана с любовными стихами. Для поэта, конечно, было важно иметь предмет любви. Для мужчины, пусть даже члена правящей семьи, в этом не имелось серьезной проблемы — в качестве объекта воздыхания ему подошла бы любая женщина; но для дамы с высоким социальным статусом такие стихи вызвали бы все возможные скандальные кривотолки. Даже полностью воображаемый возлюбленный вызвал бы предположения, что за вымышленным героем существует какой-то реальный прототип. Улайя решила направить свои чувства на
хадима по имени Высокий. Весь смысл здесь зависел от интерпретации слова
ходим. Первоначально оно обозначало просто слугу-мужчину — но ко времени Улайи значение этого термина сузилось до слуги-евнуха. К девятому веку слово
ходим уже совершенно определенно означало именно евнуха. Таким образом, выбрав евнуха в качестве возлюбленного, Улайя могла писать любовную лирику и избежать при этом скандала.
Жизнь Улайи была полна парадоксов.
С одной стороны, она была талантливой женщиной, которая жила в богатой и комфортной обстановке, имела хорошее образование и могла просто позволить себе «купить» стихи у Исхака аль-Мосули за 40 000 дирхемов, пригрозив ему смертью, если когда-нибудь он проболтается, что это стихи не ее
{362}. Когда она заподозрила, что управляющий ее имением ведет с ней нечестную игру, то приказала его бить и позорить, пока не собрались соседи и не сказали ей, что на самом деле он честный человек, и ему можно доверять
{363}. С другой стороны, ее жизнь протекала в подобии золотой клетки: тот же Исхак аль-Мосули мог слышать ее пение, но лишь из-за занавески, даже не имея возможности видеть ее. Стихи Улайи часто оставались анонимными для других, потому что она не могла показаться на людях. Есть что-то невыразимо печальное в истории этой талантливой и умной женщины, которая, склонившись перед законом непереносимых социальных условностей, могла выбрать в качестве лирического возлюбленного лишь существо, которое никак не могло исполнять на этом месте самую основную функцию.
Большинство женщин, которые были возлюбленными или наложницами халифов — не более чем имена или вообще призраки. не имеющие даже имен. Но в некоторых исключительных случаях мы имеем достаточно информации, чтобы представить себе их личности и их деяния. Четыре влиятельные женщины выделялись в те дни в
хураме и оставили свой след как в исторической литературе, так и в народной памяти. Это Хайзуран — жена Махди и мать Хади и Гаруна, Зубейда — жена Гаруна и мать Амина, Кабиха — мать Мутаза и Шагаб — мать Муктадира.
Хайзуран господствовала в
хураме Махди, став первой выдающейся женщиной, которая играла столь важную роль в жизни двора Аббасидов. Ее захватывающая карьера означала, что она привлекла пристальное внимание окружающего мира — хотя сама Хайзуран проводила большую часть жизни в замкнутом, отделенном от мира
хураме и многое из написанного о ней, без сомнения, является домыслами и фантазиями. Но образ этой женщины интригует, а большинство литературных деталей хорошо совпадают с известными историческими фактами ее жизни.
Ее происхождение едва ли могло быть более скромным. Она являлась рабыней, принадлежавшей живущему в Йемене арабу, и привлекла внимание молодого принца Махди на невольничьем рынке в Мекке. Ее хрупкая красота вдохновила Махди дать ей имя Хайзуран, то есть Тростинка, и именно под ним она и осталась в истории. Они с Махди были очень преданы друг другу; рассказы говорят нам о дружеских, даже товарищеских отношениях — когда, например, они вдвоем шутили по поводу известной всем скупости его отца Мансура
{364}. Во всяком случае, с его стороны это явно была любовь, так как Хайзуран не имела ничего, кроме красоты и живого ума. Ей также повезло выносить для Махди двух здоровых сыновей, взошедших позднее на трон. Это были Хади и Гарун — мальчики смогли превзойти всех остальных детей Махди, включая сыновей от его первой жены Риты.
Когда Махди стал халифом, он освободил Хайзуран и женился на ней. Это было смелым нарушением обычаев — есть свидетельства, что дамы старшего поколения Аббасидов не одобрили ее. История, рассказанная Масуди, претендует на раскрытие роли Хайзуран и ее личности в обстановке жесткой соревновательности придворного мира.
Действие этой истории происходит во дворце Хайзуран в Багдаде, где матери детей халифа и молодые представительницы царствующей семьи расселись на армянских коврах и подушках. Возглавляет группку Зейнаб, дочь Сулеймана ибн Али. Сулейман был одним из дядей Мансура и ключевой фигурой династии. Его дочь воспитывалась как носительница традиций династии и царствующего дома, и Махди посоветовал Хайзуран проводить с нею больше времени, чтобы научиться от нее придворному этикету и манерам.
Был объявлен посетитель; в комнату вошла изящная женщина в рваном поношенном платье. Женщину спросили, кто она. Оказалось, что это Музна, супруга последнего халифа из рода Омейядов. Теперь она сильно нуждается, ей приходится жить среди простолюдинов с риском сексуальных унижений; словом, ей требовались помощь и покровительство. У Хайзуран сразу же возникла симпатия к этой женщине, и ее глаза наполнились слезами. Но Зейнаб была сделана из более крепкого материала. Она встречалась с Музной прежде и при совсем других обстоятельствах, когда Омейяды еще были у власти. Тогда Зейнаб приходила к ней просить тело своего дяди Ибрахима, казненного Омейядами, но Музна отказалась помочь, заявив: «Негоже для женщины вмешиваться в дела мужчин», — и отослала ту прочь. «Даже Мерван [последний халиф из Омейядов], — заявила Зейнаб, — был более вежлив, чем ты. Он клялся мне, что не он приказал убить моего дядю. Конечно, это была ложь, но все-таки он предложил мне или отдать тело, или организовать похороны».
Музна ответствовала — перемена в их судьбах означает, что у Зейнаб есть возможность оказаться добрее, чем была она в дни ее благополучия. Но Зейнаб не захотела быть добрее, и Музна ушла в слезах. Хайзуран не хотела открыто бросать вызов Зейнаб, но послала одну из своих рабынь перехватить Муз-ну, привести ее в укромное помещение, дать женщине несколько платьев и проследить, чтобы о ней позаботились.
Махди часто приходил, чтобы провести вечер с любимой женщиной. На этот раз собрание было неофициальным, а Зейнаб к тому времени уже ушла. Когда Хайзуран рассказала Махди об инциденте, он поздравил се с тем, что она сделала, и при следующем появлении Зейнаб Махди постарался усадить Муз-ну, теперь прекрасно одетую, на почетное место. Ен выделили во дворце несколько комнат, обставили их и дали штат евнухов, как и другим женщинам. Избавленная от лишений и бесчестия, Музна дожила на пансионе Аббасидов до правления Гаруна, и когда она умерла, ее оплакивал весь
хурам.
Эта история должна была продемонстрировать доброту Хайзуран и щедрость Махди по сравнению с жестокостью Зейнаб; но она говорит также о солидарности аристократии. Махди обращался к Музне «дочь дяди» — вероятно, рассудив, что если она будет обесчещена, это станет позором и новой правящей династии, а не только старой.
Центральной темой большинства рассказов о Хайзуран постоянно остается ее твердое намерение сохранить любовь Махди. Это было нелегко: он являлся мужчиной, стремившимся наслаждаться женским обществом во всех возможных ситуациях. Иногда по утрам его можно было застать в компании с очередными фаворитами и с визирем, обсуждающими свои сексуальные подвиги прошедшей ночи
{365}. Постоянно покупались новые рабыни, они всегда находились рядом с халифом, вдобавок многие из них были талантливыми певицами, и халиф наверняка увлекался некоторыми из них. Хайзуран не имела права настаивать на моногамии (которой, как говорят, потребовала от его отца Умм Муса) — но она смогла организовать
хурам таким образом, что ни одной из новых пассий халифа не удалось вытеснить ее. Похоже, что даже к моменту смерти Махди их отношения оставались такими же близкими, какими были ранее
{366}.
Кроме двух знаменитых сыновей, Хади и Гаруна, и их менее известного брата Исы, Хайзуран родила также дочь по имени Банука. Дочка была хорошенькой, смуглой, со стройной фигуркой. Когда она была совсем молоденькой, баловавший се отец подарил ей собственный дворец в Багдаде. Махди очень любил девочку и во многом обращался с ней как с мальчиком. Он позволял ей ездить верхом в своей свите, одетой пажом, в черном плаще, тюрбане и с мечом на ремне, хотя, как сообщил один внимательный свидетель, который видел ее, проезжавшую мимо, «можно было заметить, как выпуклости грудей приподнимают плащ». Махди быв безутешен, когда его дочь умерла молодой, а поэты соперничали в написании наиболее трогательных элегий, посвященных несчастной принцессе
{367}.
Хайзуран использовала свое положение и для продвижения родственников. Согласно одной легенде, она ложно поклялась осторожному старому халифу Мансуру, что у нее нет родных, и это стало одной из причин, почему тот позволил сыну привыкнуть к новой наложнице — ведь в этом случае не появится прихлебателей, претендующих на внимание и подачки. Но молодая женщина должна была прочувствовать безопасность собственного положения, прежде чем признаться, что скрыла правду. У нее оказалась сестра Асма (которая, как утверждали сплетни, некоторое время тоже была любовницей Махди)
{368} и брат по имени Гизриф ибн Ата, сделавший довольно скромную политическую карьеру во время правления своего племянника Гаруна.
Хайзуран была настоящей помощницей и надежной поддержкой своему мужу во время его правления — но лишь в качестве царицы-матери она приобрела реальное политическое влияние. По причинам, о которых мы никогда не узнаем, Хайзуран оказывала заметное предпочтение младшему сыну Гаруну перед его старшим братом Хади. Это стало заметно еще при жизни Махди, а после его смерти ее личные предпочтения превратились в основной вопрос внутренней политики. Существует множество хроник, излагающих подробности вступления Хади на престол, его скорой смерти и последующего прихода к власти Гаруна. Большинство этих записей принадлежат непосредственным свидетелям событий. Однако, как и следовало ожидать, рисуемые ими картины сильно разнятся; события развивались весьма стремительно, и многое из происходившего явно представляло собой семейную драму, разыгравшуюся в узком домашнем кругу. Посторонним оставалось лишь гадать, что стоит за всем этим.
Когда Махди умер (скорее всего, это был несчастный случай на охоте), Хайзуран находилась в Багдаде, Хади — в далеком Джурджане на юго-востоке от Каспийского моря, а Гарун —
с отцом. За новостью о смерти Махдн последовали волнения в столице, когда взбунтовались войска. В этой сложной ситуации Хайзуран, похоже, взяла управление в свои руки и призвала на помрщь управляющего Раби и Яхью Бармакнда.
Раби ответил на ее призыв и смог успокоить город, а Яхья оказался более осторожным, зная, как сильно Хади возмущается вмешательствами матери в государственные дела. Когда после сумасшедшей скачки Хади прибыл из Джурджана, им с матерью
пришлось уладить свои распри, но вскоре напряжение стало нарастать снова. Одной из причин волнений было то, что Хайзуран пыталась играть публичную роль в государственных делах, чему ее сын категорически противился. Чиновники и военные продолжали навещать ее, прося о помощи и пытаясь использовать се влияние при дворе. В конце концов Хади решил, что должен положить этому конец: он пригрозил страшными карами любому, кто посетит дом его матери. Вторая проблема заключалась в том, что вскоре Хади задумал отстранить Гаруна от наследования и заменить его собственным сыном Джафаром. Одно направление в наших источниках предполагает, что Гарун вовсе не огорчился таким поворотом событий, и главной заботой Хайзуран стало обеспечение физической безопасности любимого младшего сына. Однако другое направление настаивает, что она играла гораздо более активную роль и была твердо намерена расстроить замыслы Хади.
Из этих рассказов ясно лишь то, что отношения между Хади и матерью окончательно испортились, когда он приложил все усилия, чтобы отстранить ее от политического влияния, а ее любимого сына — от наследования престола. Хади также хотел сместить главного советника и сторонника Гаруна — Яхью Бармакнда. Как в старомодном детективном романе, существовало сразу несколько крупных фигур, которые могли желать смерти Хади. Когда халиф заболел, Хайзуран при своих связях в
хураме могла немедленно узнавать в подробностях о его болезни. Был ли он отравлен или же задушен рабынями его матери, как утверждают некоторые — мы уже никогда не узнаем. У Хайзуран были мотивы и возможности для такого убийства, но есть одно свидетельство, говорящее, что какое-то время Хади болел, а внезапная смерть столь молодого человека всегда дает повод для сплетен. Ясно лишь то, что после смерти Хади женщина должна была действовать очень быстро. Она обеспечила освобождение из тюрьмы Яхьи Бармакида и объявление претензий Гаруна до того, как сторонники юного Джафара смогли мобилизовать свои силы.
Восшествие Гаруна на престол было несомненным триумфом Хайзуран. Она стала очень влиятельной персоной при новом дворе, но отныне мы гораздо больше слышим о ее благочестивых пожертвованиях. Она в третий раз отправилась в хадж и использовала часть своего крупного состояния на украшение усыпальниц. Она купила дом, в котором, согласно легенде, родился Мухаммед, и устроила там мечеть Рождества: дом Пророка, хотя и полностью перестроенный, дожил до наших дней. Она сделала то же самое с соседним домом Аргама, где встречались первые мусульмане, и устроила там фонтанчики, из которых могли пить паломники.
Последние три года жизни Хайзуран прожила не любимицей халифа, а великой вдовствующей царицей династии Аббасидов. Хранимая любовью и благодарностью нового халифа, она стала необычайно богата. Согласно Масуди, ее годовой доход составлял 160 000 000 дирхемов, что равнялось половине годовых налоговых сборов всего халифата. Даже предположив, что эта цифра многократно преувеличена, мы все равно можем оценить размеры богатства этой женщины. Как и многие другие знатные люди того времени, она вкладывала большие суммы в освоение земель, финансировала строительство нового оросительного капала возле Анбара к западу от Багдада, а в самом Багдаде ее именем был назван целый район. Омар ибн Михран, в течение долгого времени являвшийся ее личным секретарем, был известен своей бережливостью и финансовой проницательностью: именно он был нанят Гаруном, чтобы провести тайную проверку финансового состояния Египта.
Хайзуран умерла в ноябре 789 года; дождливым осенним днем сын сопровождал ее тело до могилы, помогая нести похоронную платформу, босиком, по грязи. Однако сразу же после похорон он поступил вопреки ее инструкциям и предложил хранение печати халифата Фадлу ибн Раби. Может быть, он хотел сбросить с себя опекунство матери точно так же, как это пытался сделать его брат, только Гарун оказался более осторожным и терпеливым.
Место Хайзуран в качестве хозяйки
хурама заняла Зубейда. Хайзуран начинала свою карьеру, поднимаясь из самых низов, Зубейда же родилась и воспитывалась в среде правящей семьи; как жена и как вдова она обладала манерами и гордостью аристократки. Ее мать, Сальсаль, была сестрой Хайзуран, существование которой та хранила в тайне, пока не упрочила свое положение. Когда Сальсаль появилась при дворе, она расположила к себе брата Махди Джафара, и Зубейда вместе со своей сестрой-двойняшкой родилась примерно в 765 году. Похоже, это случилось в Мосуле, где Джафар занимал пост наместника
{369}. Зубейда была примерно ровесницей Гаруна и его кузиной как по материнской, так и по отцовской линии. Говорят, всегда суровый дед, халиф Мансур, очарованный живой и пухленькой внучкой, назвал ее Зубейда — то есть «маленький масляный шарик».
При сложившихся обстоятельствах женитьба Гаруна на Зубейде, которая состоялась около 782 года, была традиционным и политически удобным союзом. Эту свадьбу еще помнили в гораздо более поздние века — как и свадьба Мамуна с Буран или церемония обрезания Мутаза, она получила репутацию одного из крупнейших празднеств своего времени. Свадебный пир был устроен во Дворце Вечности в Багдаде. Там были представлены все существующие драгоценные камни и все прекрасные благовония, чаши с золотыми динарами ходили среди гостей, а знаменитая безрукавка Омейядов, которая принадлежала Хайзуран и в свою очередь перешла к Буран, легла на плечи новой невесты
{370}.
Но эти отношения отличались от других подобных бракосочетаний силой любви: Гарун, всегда довольно застенчивый и неуверенный, оказался чрезвычайно преданным мужем и, вероятно, полностью доверял Зубейде. Рассказы о ранних годах их замужества следуют привычному канону: Зубейда начинает волноваться из-за увлечения Гаруна новой девушкой в гареме и однажды отвлекает его, подарив десять новых рабынь, три из которых стали матерями его сыновей
{371}. В другой истории она ищет совета у сводной ссоры Гаруна, поэтессы Улайи, и они организуют процессию прекрасно одетых певиц, чтобы отвлечь его
{372}, В некоторых версиях Зубейда порой отвергает халифа, который вынужден искать способы помириться с ней. Однажды он обидел ее, а она, в свою очередь, отказалась его простить. Несчастный Гарун не может уснуть и приказывает устроить ему постель в комнате, выходящей на Тигр. Сидя там, он слышит летящую над водой песню о реке, которая течет в долину возлюбленной. Конечно же, он посылает за поэтом и певцом, который развлекает его до зари — а потом поднимается и идет к своей отдалившейся жене, и они мирятся
{373}.
Зубейда сразу же стала богатой женщиной. Кроме подарков, которыми, несомненно, осыпал ее халиф, она имела обширные земельные владения, включая городское имение в западном районе Багдада, где находились ее дворцы, сады и помещения для слуг
{374}, а также загородные имения в Саваде в Ираке. Она следила за своим достоянием и тратила его сообразно своему пониманию. Для управления имуществом она имела собственных секретарей, которые иногда вступали в конфликт с Гаруном, и свой штат курьеров и горничных
{375}.
Как и Хайзуран до нее, она тратила много денег на благочестивые цели
{376}. Она совершала хадж не менее пяти раз. Паломничество 806 года пришлось на осень, и в пути неожиданно обнаружилось, что запасы воды практически исчерпаны, а люди ужасно страдают от жажды. Даже священный колодец Замзам дал совсем мало воды. Зубейда, поставленная перед необходимостью исправить положение, приказала дополнительно углубить Замзам на 4–5 метров, и там нашлась вода
{377}. Но это оказалось лишь началом больших работ
{378}. Зубейда истратила три четверти миллиона динаров на улучшение поставок воды и построила акведук от ручья в Хунейне. «Ручей Зубейды» на равнине Арафат, где собирались паломники, вспоминали еще в течение многих веков. Благочестивые деяния почтенной ламы были увековечены в надписях.
Но и на этом она не остановилась. Дорога паломников через пустыню из Ирака была чревата трудностями, и Зубейда оплатила ее расчистку, а также устройство водных станций на всем протяжении пути через пустыню, В то время как большая часть ее жизни и деяний стала пищей для сплетен и легенд, построенная Зубейдой для паломников дорога, Дарб Зубейда (Дорога Зубейды) — археологический памятник, сохранившийся до нашего времени. Этот щедрый дар паломники помнили много времени спустя после ее смерти.
Еще до смерти Гаруна роль Зубейды изменилась с любимой жены на царицу-мать. От Гаруна она имела лишь одного ребенка — мальчика Мухаммеда, позднее несчастного халифа Амина. Ему было только пять лет в 791/2 годах, когда влияние его матери обеспечило ему публичное признание наследником
{379}. Назначение же сына Гаруна Абд Аллаха (позже названного Мамуном) наследником после Амина представляло явную угрозу для положения Зубейды. Это отразилось во множестве рассказов из тех времен, в которых описано, как ей приходится оказывать помощь своему менее талантливому сыну, чтобы не позволить его сводному брату затмить Амина
{380}. По мере того, как текли годы правления Гаруна, вокруг двух наследников собрались противоположные политические группировки. Сторонники Мамуна были озабочены поддержкой, которую Амин получал от членов семьи Аббасидов «и Зубейды со всеми ее деньгами»
{381}.
Зубейда не сопровождала Гаруна в его последнем путешествии в Хорасан, она находилась в Ракке на Евфрате, когда пришло сообщение о смерти халифа. Узнав об этом, Зубейда немедленно забрала свои сокровища и отправилась на юг, в Багдад. Сын встретил ее в Анбаре
{382}. Зубейда, конечно, поддерживала его в борьбе против Мамуна, но в наших источниках нет никаких указаний на то, что она играла какую-то роль в разрыве отношений между Амином и его братом, который привел к гражданской войне.
Существует ряд рассказов о том, как она пыталась сдерживать проявления неподобающего поведения сына и его придворных, но эти истории нужно воспринимать с долей скептицизма, потому что они — часть обдуманной попытки источников очернить имя Амина и доказать, что он не годился в правители. Безобразные нападки поэтов должны были озаботить Зубейду, и говорят, что она предприняла шаги, чтобы отвадить сына от наиболее неподходящих друзей. Она организовала группу рабынь, одетых как юноши, пытаясь отвлечь его от тяги к евнухам
{383}. Историк, живший веком позже, рассказывает, что
Она нарядила их в тюрбаны и одежду, сшитую и украшенную в царских мастерских, заставила их сделать на волосах челки и локоны и закрепить их на затылке у шеи, как это носили юноши. Она надела на них облегающие халаты с широкими рукавами, называемые габа,
и широкие ремни, которые подчеркивали их талии и округлости.
И отослала их к сыну. Его очаровал их вид, и он появился с ними на публике. Именно тогда во всех слоях общества появилась мода на молодых рабынь с обрезанными волосами, одетых в габы
с поясом. Их называли «девушки-пажи» (гулямийят){384}.
Положение Амина постепенно ухудшалось, армии врага приближались, но мать оставалась с ним во дворце в Багдаде. Но после его смерти Зубейда не приняла предложение возглавить движение, стремящееся отомстить за смерть прежнего халифа. Напротив, она решила попытаться примириться с победившим Мамуном. Он принял ее жест и вернул ей все состояние. Когда Мамун вернулся в Багдад, Зубейда сразу же приветствовала его, заявив, что потеряла одного сына, который был халифом, но Мамун для нее все равно что новый сын
{385}. После этого Зубейда жила в богатстве и почете, уйдя от дел — мы уже говорили о ее роли на великолепной свадьбе Буран и Мамуна. Она умерла в июле 831 года и похоронена в Багдаде, хотя, вполне вероятно, совсем не в той гробнице, которая теперь носит ее имя.
Если благочестивые деяния Зубейды принесли ей благодарность более поздних поколений, то нельзя сказать то же самое о следующей гранд-даме гарема Аббасидов, о личности которой мы имеем достаточно подробную информацию. В гареме жила красавица-рабыня по имени Кабиха, то есть «уродина», которую преданно любил халиф Мутаввакиль. В девятом веке стало принято давать девушкам неприятные имена — вероятно, чтобы привлечь особое внимание к их реальной красоте или же, возможно, дабы отвести ревность и несчастье. Мы мало знаем о происхождении Кабихи и ранних годах ее жизни. Впервые она появляется в рассказах лишь как соблазнительная возлюбленная халифа. Одна история повествует о том, как халиф рассердился на нее и швырнул в нес подушкой, которая угодила девушке в лицо. Она разрыдалась, и находившийся с ней се маленький сын Мутаз тоже расплакался; халифу пришлось идти искать поэта, чтобы тот сочинил стихи и успокоил девушку.
В другой раз она протянула ему в подарок на Навруз, персидский Новый год, некую прозрачную жидкость в кубке из горного хрусталя. На щеке она черным мускусом написала имя халифа — Джафар, и он находит черную надпись на белой щеке абсолютно неотразимой
{386}. Может быть, именно власть, которой она обладала над своим хозяином, и помогла уговорить его признать ее сына Мутаза вторым наследником. Интересно, но говорят, что она также была архитектором-любителем и построила для своего сына Мутаза павильон пол названием «Великолепный» во дворце халифа Джавсак Хакани в Самарре.
С процедурой обрезания маленького Мутаза сопоставимы лишь свадьбы Зубейды и Буран — самые великолепные празднества времен Аббасидов
{387}. Кабиха приказала отчеканить миллион новых дирхемов с надписью «Господь да благослови обрезание Абу Абд Аллаха аль-Мутаза би Аллаха» (полное имя принца) и распределила их между цирюльником, который делал операцию, и остальными присутствующими — гостями, стражей и слугами. Список гостей включал всех самых могущественных и знаменитых людей халифата.
Этот день, должно быть, стал днем великого триумфа для Кабихи. Но вполне естественно, что такой успех породил недовольство части элиты. Многие даже считали, что растущее предпочтение, проявляемое Мутаввакилем по отношению к Мутазу в ущерб своему первому наследнику Мунтасиру, был одной из причин жестокого убийства халифа в 861 году.
Со смертью Мутаввакиля Кабиха перешла из фавориток на положение матери вероятного наследника, а затем матери молодого халифа Мутаза, который взошел на престол 25 января 866 года. К этому времени Кабиха была уже необычайно богата. У нее имелись собственные секретари и свой штат прислуги. Имеется мало сведений о ней, относящихся к тому краткому периоду, когда ее сын был халифом. Когда в июле 869 года Мутаз был арестован и свергнут теми же самыми тюрками под предводительством Салиха ибн аль-Васифа, которые посадили его на трон три с половиной года назад, она ничего не сделала, чтобы помочь сыну. Он отчаянно нуждался в 50 000 дирхемов, чтобы заплатить недовольным солдатам, и обратился к ней — но мать холодно ответила, что у нее нет денег, хотя на тот момент у нее имелись некоторые векселя, и если бы солдаты подождали, их можно было бы обналичить
{388}. Но тюрки не могли или не захотели ждать — и сын Кабихи погиб очень рано, в возрасте двадцати четырех лет
{389}.
После этого Кабиха исчезла. Похоже, она уже предприняла меры предосторожности на случай, если ей придется спасаться. Она прокопала туннель от своих личных апартаментов во дворце к тайному месту, где можно было спрятаться. После свержения ее сына солдаты принялись искать царицу-мать, чтобы изъять ее богатства. Они обыскали весь дворец, но обнаружили лишь то, что она бесследно скрылась. Даже когда нашли ее туннель, никому так и не удалось узнать, куда же она делась.
На самом деле Кабиха нашла убежище у своей бывшей подруги по гарему Мутаввакиля, которая теперь была замужем за крупным военачальником. Однако она узнала, что группировка, убившая се сына, теперь пытает слуг, и испугалась, что секрет ее местонахождения вскоре откроется.
В конце концов в середине августа она явилась к Салиху ибн аль-Васифу и сдалась. Она приказала продать часть своего имущества. Пол миллиона динаров было привезено в Самарру и выплачено войскам. Однако Салих, все еще нуждавшийся в деньгах, был уверен, что у Кабихи еще есть что скрывать. К нему явился шпион и сообщил, что знает, где Кабиха прячет свои сокровища, и Салих отправил его вместе с ювелиром — оценить все драгоценные камни, которые они найдут. Сохранилась запись ювелира о том, что произошло далее
{390}:
Шпион привел нас к маленькому аккуратному домику, в который мы вошли и обыскали от верха до основания, ничего не найдя… Тогда он сходил за топором и начал вскрывать стены, ища места, где могли бы быть спрятаны деньги. Он делал это до тех пор, пока не ударил по месту, которое зазвучало как пустота. Когда он разрушил стену, за ней открылась дверца. Мы открыли ее и вошли. Она вела в туннель, и мы оказались в подвале, расположенном точно под дамам. Там мы нашли деньги, разложенные в расставленные по полкам корзины, всего примерно миллион динаров. Ахмед взял 300 000 динаров. Затем мы открыли три корзины, одна содержала примерно пять килограммов изумрудов такого качества, какого я даже представить себе не мог у Мутаввакиля — не говоря уже ни о ком другом. Меньшая по размерам корзина содержала около двух с половиной килограммов крупного бисера, а третья, еще меньшая, вмещала полтора килограмма рубинов, каких я не видел никогда прежде. Я оценил, что рыночная стоимость всех камней составляет около двух миллионов динаров. Мы забрали все ценности и принесли их Салиху. Когда он услышал о их стоимости, то едва смог поверить, пока ему не показали все добро. Затем он заметил: «Да проклянет ее Аллах! Она не отдача за жизнь собственного сына 50 000 динаров, хотя имела такие богатства!»
Новый халиф, Мухтади, приказал забрать Кабиху в паломничество в Мекку и держать ее там. Похоже, она прожила в Мекке до самой своей смерти восемью годами позже, в 877 году
{391}.
Последняя из великих женщин двора Аббасидов также купалась в богатстве и власти, но закончила свою жизнь трагически и в неизвестности. Как и Кабиха, Шагаб (то есть «Неприятность») тоже получила «плохое» имя — но обычно
к ней обращались «Сейида» или «Хозяйка». Происхождение ее было сверхскромным: согласно одной версии, первоначально она была рабыней и принадлежала дочери Мухаммеда ибн Абд Аллаха из рода Тахиридов — но как она попала в
хурам халифа, мы не знаем. Известно лишь, что она была обязана своей судьбой тому факту, что ее юный сын Муктадир в 908 году оказался выбран на роль халифа тогдашним визирем — хотя ему было всего тринадцать лет, и он еще жил в гареме. Это был весьма коварный шаг со стороны визиря, который сделал такой выбор в обход более образованных членов семьи Аббасидов, поскольку надеялся держать уступчивого монарха под своим жестким контролем.
На деле молодость юного халифа и его неопытность означали, что его мать со своими друзьями могли влиять на него куда более эффективно, и враги визиря использовали ее, чтобы добираться до уха халифа.
Хозяйка правила абсолютно сложившимся женским двором, который существовал параллельно доминирующему мужскому миру визирей и военных. Она имела собственных придворных. Наиболее важными из них были управительницы (по-арабски
кахрамана). Первой среди них, как мы знаем, была Фатима, которая утонула, когда ее лодку в ветреный день затянуло под мост в Багдаде. Все военачальники и судьи явились на ее похороны — это был весьма необычный знак уважения к женщине. На ее место Хозяйка назначила принцессу из рода Аббасидов по имени Умм Муса.
Умм Муса сделала себя необходимой в качестве посредницы между халифом (который, похоже, проводил очень много времени в гареме) и визирями, которые, конечно же, не могли входить туда
{392}. Однажды она пошла навестить визиря Али ибн Ису, чтобы спросить его о подарках, которые собирались раздавать на празднике жертвоприношения для обитателей
хурама и их прислуги. К несчастью, это было время, когда визирь не принимал посетителей, и ее отослали прочь. Когда визирь обнаружил, что произошло, он понял, что случилась беда, и отчаянно попытался исправить положение, но Умм Муса была в ярости и не приняла извинений. Она немедленно отправилась к халифу и его матери и донесла на Али. Это нечаянное пренебрежительное отношение стоило визирю его должности
{393}. Нельзя быть слишком формальным с такими могущественными дамами.
Умм Муса также использовала свое положение, чтобы позволять соперникам визиря встречаться с халифом и сохранять государственные посты для своих фаворитов
{394}. Но те, кто преуспевал в интригах и манипуляциях, могли быть погублены столь же легко. Умм Муса выдала свою племянницу замуж за молодого принца из Аббасидов, который приходился внуком халифу Мутаввакилю. Он был не только богат и необычайно щедр, имел роскошные одежды, прекрасных лошадей и лодки, но также являлся потенциальным претендентом на трон. Чтобы отпраздновать свадьбу, Умм Муса устроила для членов двора — и знатных, и незнатных — щедрый прием, который длился семь дней. Прием дорого ей стоил — ее враги убедили Хозяйку и халифа, что Умм Муса замышляет посадить на трон своего племянника. Ее и брата арестовали и отдали зловещей личности — управительнице Сумаль.
Сумаль имела репутацию очень жестокого человека. До того, как попасть ко двору Хозяйки, она работала на араба по имени Абу Дулаф, который нанял се для наказания тех из своих рабынь и рабов, кто его раздражал. Теперь она использовала свое дьявольское мастерство против Умм Мусы, ее сестры и брата: их заставили отдать огромные суммы денег и громадное количество ювелирных изделий, одежды, мебели и благовоний. Современник событий, писатель Сабит ибн Синап, оценивал стоимость драгоценностей, тканей, одежды и денег, изъятых у семейства Умм Мусы, в миллион динаров
{395}, говорят, что имения ее и ее брата приносили доход 100 000 динаров в год.
Сумаль была печально известна своей жестокостью, но мы также знаем о другой управительнице с более мягкой репутацией. Зейдан также выполняла роль тюремщицы для важных политических фигур, когда они лишались расположения власть имущих. Однако быть отданным Зейдан и переведенным в тюрьму
в се части дворца означало содержание в относительном комфорте. В июне 912 года визирь ибн аль-Фурат был смещен со своего поста и подвергнут наказанию. Его усадили на солнцепеке в тяжелом шерстяном халате и навесили на него цепи, в итоге он уже был близок к смерти. Но один из слуг
хурама успел рассказать об этом Муктаднру, после чего бывшего визиря передали во дворец, в личные апартаменты Зейдан, где ему оказали медицинскую помощь
{396}.
Впоследствии, когда ибн аль-Фурат и его могущественный соперник Али ибн Иса попеременно то возвышались, то опять падали, апартаменты Зейдан становились то тюрьмой, то убежищем для того, кто терял милость. Когда Али ибн Иса в мае 928 года потерял милость халифа, судебное разбирательство Проводились с соблюдением некоторых внешних приличий. Доверенный человек халифа пришел к визирю и протянул ему послание, сообщающее, что он смещен и отправлен под домашний арест. Затем посланник сообщил, что он присядет здесь и подождет, пока Али соберет вещи. Тот вскоре появился в уличных туфлях, в тюрбане и
тайласане, с Кораном и перочинным ножиком в рукаве. Али попросил посланника халифа приглядеть за его женщинами и детьми, что тот охотно согласился сделать. Затем арестованного отвели во Дворец Халифата и поручили заботам Зейдан
{397}.
После того, как Муктадир в 908 году сделался халифом, Шагаб тут же разбогатела.
Ее сын в рассрочку выделил ей в качестве имения участок земли с высоким годовым доходом. Она продолжала докупать землю вплоть до того дня, когда ее сын был свергнут [первый раз] в 929 году. Общий годовой доход от земель, которые она купила, и от ее поместий составлял 700 000 динаров{398}. Она имела магазины и склады в Багдаде. где накапливалось зерно, и однажды во время голода халиф приказал их открыть и продать содержимое по ценам ниже рыночных{399}. У нее был свой диван, управлявший поместьями, секретарь дивана назначался или ею, или одной из управительниц{400}. Ее сестра тоже имела секретаря, чтобы приглядывал за ее собственным диваном{401}.
Вдобавок к доходам от сельских поместий женщины гарема получали также субсидии из общественных денег. Согласно бюджету, составленному визирем Али ибн Исой, из общего годового бюджета в 2 560 960 динаров 743 196 тратилось на нужды Хозяйки, а также прочих женщин, принцев и евнухов. Если эти цифры более или менее точны, они говорят, что содержание, выплачиваемое казной гарему, было чуть больше, чем доход от собственности короны. Эти суммы сравнимы с личными тратами халифа: на награды — 271 520 динаров, на строительство и ремонт — 51 000 динаров, на наем гребцов — 1280 динаров. Гарем требовал значительных расходов, хотя и не сравнимых с расходами на армию
{402}. Не удивительно, что он создания значительное напряжение государственных финансов во время кризисов. В 917 году Али ибн Иса был вынужден сократить оплату
хурама до восьми месяцев в год, а евнухов — до шести. Это была разумная экономическая мера, которая, однако, опять стоила ему места визиря, когда соперник Али убедил халифа, что сможет оплатить расходы сполна
{403}.
Доходы царицы-матери принадлежали лично ей, она могла распоряжаться ими по своему желанию. Как открыл несчастный Мутаз, халиф не мог автоматически рассчитывать на них или иметь к ним доступ, когда ему это требовалось. Хозяйка полностью контролировала свое имущество. Когда Багдаду в 928 году угрожали восставшие карматы
[27], визирь Али ибн Иса отчаянно нуждался в деньгах, чтобы заплатить армии, противостоящей мятежникам. В городе возникла паника: купцы закрывали лавки, грузили свои товары на лодки, чтобы увезти их вниз по реке в Васит или по суше в Иран. Армия была недовольна, а правительство оказалось банкротом. Перед лицом отчаянной ситуации Али попросил Муктаднра пойти к матери и выяснить, не может ли она помочь. Али вынужден был действовать убедительно и дипломатично. Он объяснял халифу:
В прежние дни халифы копили деньги для единственной цели — обороны нашей веры от таких врагов, как хариджиты, для защиты ислама и мусульман. Со времени смерти Пророка никакого более серьезного несчастья, чем это, не происходило с мусульманами. Он [предводитель карматов] — это неверный, который неслыханным образом напал на паломников в 924 году [идущий в хадж караван был атакован на дороге через пустыню от Ирака до Святых городов, и почти все паломники оказались перебиты]. Он наводит ужас на целые страны и отдельных людей. Мутадид и Муктафи [предыдущие два халифа] собирали деньги именно для таких крайних случаев. Сейчас в казне очень мало денег. Побойся Аллаха, о повелитель правоверных, поговори с Хозяйкой, ведь она благочестивая и добродетельная женщина. Если у нее есть какие-либо деньги, которые она сберегла на крайний случай, угрожающий ей или государству, то теперь самое время использовать их. Если же у нее нет ничего, тебе и твоему двору лучше собраться и уходить в самые далекие районы Хорасана [то есть как можно дальше от карматов].
Халиф посетил мать, и она согласилась, чтобы пол миллиона динаров перевели из ее личных запасов в государственную казну
{404}. Частично благодаря этим деньгам Али смог организовать защиту Багдада, и город был спасен. Поразительно, но это, похоже, не истощило капиталов Сейиды: когда Муктадир в 929 году был свергнут (как оказалось, временно), в гробницу
(турба) Хозяйки в багдадском районе Русафа направили специального человека, который отыскал 600 000 динаров, спрятанных здесь царицей-матерью
{405}.
Кажется, это был один из первых случаев в исламе, когда надгробный комплекс построили при жизни человека; не менее важно, что принадлежал он не халифу, полководцу или визирю, а царице-матери. Однако очень похоже, что к моменту смерти Муктадира в 932 году финансы ее сильно истощились. Когда ее сын был атакован армией под командованием Муниса, один из военачальников объяснил халифу, что
«солдаты сражаются только за деньги; и если им заплатить, в сражении не будет надобности — большинство сторонников Муниса исчезнут, и ему придется бежать или прятаться». На подкуп армии противника требовалось всего 200 000 динаров, но ни у халифа, ни у его матери таких денег не оказалось
{406}.
После убийства Муктадира в конце октября 932 года удача совсем отвернулась от Хозяйки: ее статус сделался весьма невысоким. Новым халифом стал дядя Муктадира Кахир. В дни своего процветания Хозяйка поддерживала с ним хорошие отношения и была щедра к нему, даже дарила ему рабынь
{407}, но теперь все это было забыто. Сейида оказалась в безнадежном положении; уже больная, она сходила с ума от того, что сын ее убит и не был похоронен подобающим образом. Кахир, убежденный, что она все еще необычайно богата, пришел допросить ее лично. Сначала он был ласков, дал ей хлеб, соль и воду, но постепенно начал угрожать. Она клялась, что у нее не осталось денег — только несколько сундуков с украшениями, одеждой,
фарш и благовониями. Все это находилось в комнате рядом с той частью Дворца Халифата, где она жила. Сейида показала новому халифу комнату и сундуки, и печально добавила:
«Если бы у меня были деньги, я не допустила бы, чтобы моего сына убили», — возможно, намекая при этом на свою предшественницу Кабиху.
Однако новый халиф не хотел верить ей. Он стал грубым, ударил ее, а потом подвесил за ногу и принялся методично избивать— как осторожно выражается хроникер, «по мягким частям тела». Физические пытки женщин были неизвестны в мусульманском обществе того времени, хотя являлись довольно обычным делом в отношении мужчин, поэтому Кахир вышел далеко за рамки приличного поведения. По даже тогда женщина не сообщила ничего сверх того, что уже рассказала по собственной воле.
В это время прибыли министры, наперебой твердя, что им нужны деньги, чтобы раздать войскам в качестве подарка по поводу вступления на престол. Кахир рассказал им, что предпринял, но Хозяйка настаивает, что денег у нее нет. Затем он повел всех в комнату с сундуками. Они нашли там халаты из дорогой цветной ткани, византийские вышивки, а также вышивки из Тустара (город в Хузистане), щедро украшенные золотом, кожаные коврики, полосатые шелка и шерстяные ткани. Некоторые сундуки содержали великолепные платья, немного золотых и множество серебряных украшений, а также большое количество благовоний — алоэ из Индии, серую амбру, мускус, камфору и камфорных кукол. Все это стоило около 130 000 динаров, за исключением камфорных кукол, которых оцепили в 30 000 дирхемов. Большая часть найденных богатств была распродана, чтобы заплатить армии, но Кахиру позволили оставить себе немного добра для собственного пользования
{408}.
Земельные владения Хозяйки оказались конфискованы, была создана даже отдельная служба для управления ими. Кроме того, Сейида организовала ряд благотворительных заведений или
вакуфов. По исламским законам они считались неприкосновенными — земли и имущество, принадлежащие подобным организациям, были защищены от конфискации, а годовой доход от них уходил на благотворительные нужды. Хозяйка создавала их, чтобы помочь бедным и нуждающимся в Мекке и на границах империи. Когда ее выпустили из тюрьмы, она отказалась отменить эту опеку, заявив судье, что так поступать незаконно — что было чистой правдой. Судья сообщил об этом халифу, и тот велел судье поклясться, что она аннулировала данный статус, чтобы иметь возможность продать эти земли вместе с остальным имуществом
{409}. В отличие от Зубейды, Хозяйку никогда не вспоминали потом за ее богоугодные деяния.
После смерти сына и нанесенных ей оскорблений Хозяйка была заперта во дворце, где и умерла под домашним арестом 3 июня 933 года
{410}. Так завершилась целая эпоха: последняя из великих женщин дома Аббасидов умерла в бедности и позоре. Таких, как она, больше не было.
Не удивительно, что огромные богатства Хозяйки и суммы, которые тратились на гарем, часто подвергались критике — в основном со стороны тех, кто считал, что сам имеет право на часть доходов государства. Говорили, что в начале своего правления Муктадир «все свое время стал посвящать удовольствиям. Он стеснялся мужчин и отослал прочь всех приятелей и певцов. Он общался почти исключительно с женщинами, и постепенно хурам с евнухами стал заправлять в государстве»
{411}.
К 920 году дело дошло до критической точки, и главнокомандующий Мунис написал Муктадиру, что армия горько сетует по поводу количества денег и земель, которые тратятся на евнухов и женщин, на дворцовую администрацию. Он потребовал, чтобы всех фаворитов уволили и убрали из дворца, а их имущество конфисковали. Муктаднр написал в ответ длинное письмо. В нем он упомянул о своем глубоком уважении к Мунису и сказал, что жалобы основаны на недопонимании, и если Мунис и его сторонники получше обдумают это, то согласятся.
Однако Муктадир был вынужден пойти на некоторые уступки. Кое у кого из придворных поместья наметили для конфискации, а имущество обложили налогом, потребовав заплатить все пошлины, которые они задолжали казне. Халиф согласился отставить тех, кого можно было удалить из дворца законным путем. Он добавил, что сам возьмет на себя административные дела и разберется с рядом вопросов, которые поднял Мунис. Короче, он пообещал ряд косметических перемен, но без реальных действий.
Не удивительно, что Мунис был разочарован ответом. Он явился во дворец в отсутствие наиболее влиятельных сторонников халифа; Мухтадир, его мать, сестра и любимые рабыни были взяты под стражу
{412}.
Потом на короткое время Муктадиру удалось восстановить свою власть, но его слабость к женщинам осталась все такой же очевидной. Когда он в конце концов был убит, и лидеры переворота встретились для того, чтобы обсудить, кто же станет халифом, Мунис предложил возвести на трон юного сына покойного халифа. Однако он встретил сильные возражения: «После всех трудностей, которые мы только что перенесли, чтобы избавиться от одного правителя с его матерью, тетей и евнухами, нам не нужен другой такой же», — докатывали противники, и предложение Муниса было отвергнуто
{413}.
Некоторые современники и более поздние историки считали расточительство
хурама и его вмешательство в политические дела причиной тех бедствий, которые в конце концов разрушили халифат в начале десятого века. Они были готовы согласиться с громкими жалобами халифа Хади на вмешательство своей матери Хайзуран в политические дела. Это в какой-то мере так — мы видели, что гарем действительно поглощал значительную часть годового дохода государства, а царица-мать, ее родственники и друзья оказывались очень богаты. Также нет сомнения, что эти люди использовали свою привилегию доступа к халифу как способ укрепить свои позиции и материальное благосостояние.
Но проблемы халифата уходят корнями гораздо глубже. Те же военные оказывались и дороже, и опаснее для правительства и общества, нежели женщины и придворные слуги. К тому же в период Муктадира гарем вносил в придворную политику и некий положительный вклад. Мы видели, что женская половина дворца предлагала свое помещение под место содержания придворных чиновников, которые теряли расположение халифа. Вмешательство Хозяйки в политику часто имело целью спасти опытных специалистов, по тем или иным причинам потерявших расположение монарха; она скорее играла роль примирителя, нежели мстительной ведьмы.
Более того, собственность царицы-матери во времена кризисов становилась для халифов неким родом финансовых резервов. В обществе, где правительственные займы у банков или частных лиц были невозможны, богатство гарема оказывалось ценным буфером в периоды финансовых неурядиц. Вдобавок гарем тратил деньги на ткани и другие предметы роскоши, покупка которых должна была стимулировать местную экономику. Среди многих других ремесленников весьма пострадали ткачи Тустара и ковроделы Армении, когда гарем перестал быть их основным клиентом.
Падение Хозяйки в 932 году означало конец гарема Аббасидов в том виде, в каком он сложился с аскетичных дней Мансура примерно за два века до того. Певиц раскидало по миру, их судьбы нам более не известны; прекрасные ткани были распроданы или погибли, многие древние легенды безвозвратно исчезли. Но память о гареме Аббасидов оказалась сохранена такими историками, как Табари и Мискавайх; она отложилась в литературных памятниках, подобных «Книге Песен». Гарем Аббасидов стал моделью для последующих гаремов исламских владык, и лишь к двадцатому веку, с окончательным падением султанского гарема в Стамбуле, традиция, возникшая в Багдаде и Самарре, пришла наконец к своему концу.
Глава VIII
ОТ МАМУНА ДО МУТАВВАКИЛЯ
Когда выдающийся филолог и литературный критик Салаб (умер в 904 году) оглядывался на ранние годы своей жизни, то всегда вспоминал особый момент, застрявший в его памяти.
В Багдаде август, летнее солнце уже высоко стоит в небе.
Я увидел халифа Мамуна, он возвращался из Хорасана. Он только что проследовал через Железные ворота и двигался в Русафу. Люди выстроились в две шеренги [чтобы поглазеть, как проследует халиф со свитой]: отец поднял меня на руки и сказал: «Это Мамун, год [двести] четвертый [то есть 819-й нашей эры]». Я запомнил эти слова навсегда, мне было в то время четыре года{414}.
Отец Салаба хорошо осознал это мгновение как момент необычайной важности — без сомнения, он надеялся, что прибытие халифа в город, основанный его прапрадедом, знаменует собой начало новой эры. Вероятно, Мамун решил оставить Мере и переселиться на запад в начале 818 года, но его продвижение проходило медленно и не без несчастий. К середине февраля кортеж халифа достиг Сарахса. Пока он находился там, группа людей напала в бане на визиря халифа, Фадла ибн Сахла, и убила его.
Именно Фадл настаивал на задержке Мамуна в Мерве, и едва ли приходится сомневаться, что его смерть оказалась очень удобна халифу. Убийцы были вскоре пойманы и оказались людьми из собственной свиты халифа. Они заявили, что действовали по приказу — но это не спасло их: халиф приказал отрубить всем головы
{415}.
В начале сентября халиф достиг города Тус, где умер и был похоронен его отец. Здесь он посетил гробницу отца, здесь же произошел еще один несчастный случай с одним из видных представителей с ни ты халифа. Его наследник, Али ар-Рида, погиб при странных обстоятельствах. Было сообщено, что он съел слишком много винограда и умер от колик в животе, но многие считали, что он был отравлен, чтобы расчистить дорогу Мамуну, примирив его с семьей Аббасидов и людьми в Багдаде
{416}. Его похоронили возле Гаруна.
Хоть Али и умер, память о нем осталась. У шиитов могила этого нового мученика стала центром паломничества. Под персидской формой своего имени, Али Реза, он стал почти святым покровителем Ирана. Память о Тусе ныне почти забыта, центр здешнего поселения передвинулся на повое место, ныне известное как Мешхед («место мученичества»). Гробница Али увеличилась и стала богаче. В пятнадцатом веке царица Гавхар Шад из рода Тимуридов построила здесь мечеть, которая все еще является одним из самых великих памятников исламской архитектуры в Иране. Сегодня Мешхед стоит в одном ряду с Кумом как один из двух шиитских святых городов в Иране. В то же время гробница Гаруна, не ценимая и нелюбимая, стала лишь объектом осмеяния и оскорблений.
Должно быть, халиф провел зиму в Хорасане, потому что в июне 819 года мы находим его в Рее. Отсюда он отправился по великой хорасанской дороге через перевалы гор Загрос, проводя по одному-два дня на каждой перевалочной станции. Когда он достиг Нахравана на берегу великого канала, который орошал обширные земли к востоку от Тигра, его встретил Тахир, члены его семьи и первые лица Багдада. Отсюда Мамун планировал свой триумфальный вход в город.
В итоге Мамуна приняли как халифа, но для этого ему пришлось пойти на компромиссы. Самым очевидным был вопрос одежды. Аббасиды с самого начала приняли черный цвет, и черное придворное одеяние являлось обязательным для официальных придворных приемов. Однако в Мерве Мамун и его двор стали носить зеленое — а к этому времени, если не раньше, данный цвет стал знаком сторонников Алидов. Даже после того, как халиф прибыл в Багдад, к нему не допускали никого, если тот не был одет в зеленое, и его сторонники обрушивались на всякого, кто носил черное. Однако эта мера оставалась крайне непопулярной, и сопротивление народа проявлялось совершенно открыто. «Повелитель правоверных, — говорили халифу, — ты отвергаешь одежду своих предков, членов твоей семьи и сторонников твоей династии!»
Согласно одной версии, Тахир лично смог уговорить халифа, что зеленый цвет никогда не будет принят народом, я его требуется сменить на черный. К концу первой недели пребывания халифа в столице ненавистный зеленый цвет наконец-то исчез, и его уход символизировал окончательный отказ от первоначальной политики Мамуна. С этого времени он правил как истинный халиф рода Аббасидов в городе своих предков.
Однако если Мамуна приняли в Багдаде и в Иране, то в большинстве западных земель империи власть оставалась в руках местных военачальников, которые воспользовались беспорядками и безвластием. Багдад же был разрушен и доведен до нищеты постоянными сражениями, значительная часть города лежала в руинах. Поначалу Мамун поселился во дворце, который его дед Махди построил на восточном берегу Тигра, но позднее он передвинулся вниз по реке, построив на берегу новый дворец
{417}. Во дворце Золотые Ворота в Круглом Городе больше уже не жили, хотя здешней мечетью продолжали пользоваться; Дворец Вечности на западном берегу тоже был заброшен. Наиболее вероятно, что оба они были разрушены в ходе боев — так, что не подлежали восстановлению. Как это часто случалось в Багдаде, легче было построить новое, чем ремонтировать старое.
Главными сторонниками халифа в новой его политике были Тахир и его семья. После смерти Амина братья Бану Сахл умело оттерли Тахира от власти. Его послали в Ракку, подальше от центра событий в Багдаде; там он, как говорят, занял себя чтением трудов по философии. Теперь же Мамун пригласил Тахира встречать его вступление в город, и Тахир стал его правой рукой. То было начало партнерства Тахиридов и Аббасидов, которое продлилось полвека и принесло некоторую стабильность в управлении державой и в политике.
Тахириды внесли также большой вклад в культурную жизнь двора и более широкого столичного общества. Но в основном они управляли своим родным Хорасаном, а после того, как халиф переехал в Самарру — и Багдадом. Как минимум вплоть до смерти Мутаввакиля в 861 году система работала безотказно: в Багдаде царил мир, из Хорасана регулярно поступали налоги. В конце концов, Тахир
с семьей по своему происхождению были Хорасанскими аристократами, и они уважали интересы таких же аристократов.
В то же самое время присутствие Тахиридов в Багдаде обеспечило появление альтернативного двора, что делало отъезд халифов в Самарру более переносимым. Мамун подарил Тахиру старый дворец на западной стороне, который принадлежал одному из евнухов Мансура. Здесь Тахир и его семья построили громадный дворцовый комплекс, который обычно называют Харим Тахир — «вклад Тахира». Во второй половине девятого века, после того, как Тахириды исчезли со сцены, этот комплекс стал второй резиденцией Аббасидов. Здесь были похоронены халифы Мутадид (умер в 902 году) и Муктафи (умер в 908 году). Это было жилище принцев правящей семьи, наполовину дворец, наполовину тюрьма для тех, кто мог претендовать на трон. Когда в начале тринадцатого века это место описывал знаменитый географ Якут, оно все еще было обитаемым — хотя давно уже перестало быть резиденцией Аббасидов, став чем-то вроде маленького городка за стеной, вокруг которого царило сплошное запустение
{418}.
Тахир был назначен правителем Хорасана в начале 831 года. Едва получив назначение, он разбил в садах на окраине города лагерь и начал собирать караван. В мае он отправился на восток
{419}. Это назначение было источником многих споров, как в то время, так и позднее. Ходила история, согласно которой Мамун просто не мог переносить Тахира рядом, так как вид его постоянно напоминал, что Тахир лично отвечает за смерть брата Амина. Чувствуя, что не все идет хорошо, Тахир уговорил своего друга, который имел доступ к ушам халифа, организовать это назначение, которое позволяло ему с почетом убраться от греха подальше.
Тахир правил Хорасаном всего год, но его семья контролировала большую часть Ирана следующие пятьдесят лет. Более того, некоторые говорили, что как раз перед своей смертью Тахир открыто продемонстрировал нелояльность халифу, опустив его имя в пятничной молитве. Тахира можно считать основателем первой персидской династий, которая откололась от Аббасидов и создала независимое государство в Иране. В действительности тут было гораздо меньше разрыва, чем может показаться на первый взгляд — все наследники Тахира признавали верховенство Аббасидов, и семья Тахиридов сложным образом вплелась в государственную ткань империи.
Сын Тахира, Абд Аллах, остался на западе и был назначен командовать армией Аббасидов в северной Сирии, где местная знать отказалась подчиниться новому режиму. Абд Аллах ибн Тахир был человеком, о котором наши источники не говорят ничего, кроме хорошего. Рассказы дают светлый образ храброго, мужественного, богатого, щедрого и культурного человека — преданного слуги халифа и заботливого отца своих людей. Мы никогда не узнаем, соответствует ли этот образ реальности, но достижения Абд Аллах ибн Тахира были вполне реальными: Сирия и Египет снова перешли под контроль Аббасидов без крупных битв и массовых кровопролитий; позднее ибн Тахир в мире и благополучии правил Хорасаном.
Историки этого периода сохранили текст длинного письма, якобы написанного Тахиром, который давал советы своему сыну, как быть хорошим правителем
{420}. Основная идея этих советов: Абд Аллах получил власть от Господа и должен использовать ее на благо людям, которыми правит. Он отвечает за свои действия перед Аллахом. Он должен регулярно молиться и искать совета ученых людей по религиозным вопросам. Особое внимание уделяется «умеренности во всем» — не надо двигаться слишком быстро, не надо быть слишком подозрительным к подчиненным, но в то же время требуется проверять, что они не угнетают людей. Правитель не должен собирать большие богатства:
Пусть накапливаются сокровища, но склады, которые ты будешь наполнять, должны содержать благочестие, страх перед Аллахам, справедливость, достойное состояние твоих подданных и процветание их земли, знание их дел, защиту людей и помощь тем, кто в печали. Знай, что богатства, которые собраны и сложены в казначействе — это не плоды; когда же они растрачиваются на улучшение условий жизни людей, на обеспечение справедливого сбора налогов и на снятие со спин непомерной ноши, то растут и приумножаются.
Благожелательное отношение к людям сделает сбор налогов легче и эффективнее. Необходимо регулярно платить армии, а платежные документы должны быть в порядке, чтобы «их правильное ведение было для тебя источником силы»
{421}. Справедливость будет уважаться. Взимание налогов — это центральный момент:
Внимательно вникай в дела о налоге на землю, который обязан платить подданный. Господь сделал его источникам силы и власти для ислама, и средством поддержки и защиты людей; но он сделал его также и источником волнений для его врагов и врагов мусульман, источником поклонения и раболепства для неверных при заключении договоров с мусульманами. Раздели налог среди плательщиков по справедливости. относясь одинаково ко всем. Не снимай со знатного человека часть обязательств платить налог из-за его богатства, или с любого из своих секретарей, или с личных слуг. Не требуй от человека большего, чем он способен вынести, не взыскивай больше, чем обычная норма{422}.
Под справедливым управлением земля будет процветать, а экономический рост даст еще более высокие налоги.
Есть еще и то, что можно описать как благотворительный аспект обязанностей правителя, который должен
следить за делами бедных и лишенных всего — тех. кто не может сам донести тебе свои жалобы о плохом обращении. и тех из жалких сословий, которые не знают, как заявить о своих правах… Направь свое внимание на тех, кто пострадал несправедливо, и на их сирот и вдов, обеспечь им содержание из государственной казны, следуя примеру владыки правоверных, да возвысит его Аллах в проявлении сострадания к ним и оказании им денежной поддержки, чтобы мог он таким образам принести некоторое облегчение в их каждодневную жизнь и посредством этого доставишь себе духовную пищу, Господне благословение и расположение. Дай из государственной казны пенсию слепому и сделай облегчение тому, кто знает Коран или большую его часть наизусть. Устрой больницы, где страждущие мусульмане могли бы найти приют, и назначь в эти места таких работников, которые будут сердечно обращаться с несчастными, и врачей, которые излечат их болезни{423}.
Для правителя очень важно позволить людям видеть, что он слышит их жалобы.
Оставь людям, насколько это возможно, доступ к своей персоне, показывай им свое лицо как можно чаще. Прикажи страже обращаться с людьми вежливо, будь с ними прост и делай вид, что одобряешь их. Спрашивая их, будь мягок и дари им часть своих благодеяний{424}.
Чиновники тоже должны регулировать доступ к правителю:
Внимательно следи за официальными лицами своего двора и за своими секретарями. Выдели каждому определенное время каждый день, когда они могут приносить тебе официальную корреспонденцию и любые документы, требующие подписи правителя. Они могут сообщать тебе о нуждах различных чиновников и обо всех делах провинций. которыми ты управляешь. Затем устреми все свои способности, уши. глаза, понимание и разум на дело, которое они положили перед тобой; рассмотри его и потом не раз вернись мыслями к нему. И, наконец, предприми те действия, которые согласуются с трезвым суждением и справедливостью{425}.
Документ заканчивается общим призывом к благочестию и послушанию Аллаху.
Мы не можем быть уверены, что Тахир действительно писал это сам — но современники, похоже, свято верили в это. Наши источники сообщают, что документ сей был широко распространен. Каждый хотел иметь этот текст, и халиф сделал копии и разослал всем административным органам провинций. Самая ранняя запись о документе, дошедшая до нас, принадлежит перу ибн Аби Тахира — писателя, не являвшегося родственником правителя и жившего в середине девятого века, то есть современника или почти современника событий.
Трактат Тахира должен был отражать идею хорошего правителя, которая существовала в то время. Правитель в нем показан благонамеренным деспотом. Его авторитет абсолютен, и он отвечает не перед народом, а перед богом. Не существует никаких известных пределов его власти — и, конечно, нет упоминания о каких-либо санкциях, которые его подчиненные могут использовать, если он властью злоупотребляет. Правитель обязан вести себя милостиво и совестливо, потому что он отвечает перед Господом и будет держать ответ перед небесами, если поступит аморально. Халиф обязан также следить за благосостоянием своего народа, потому что это осмысленно — зажиточные подданные платят больше налогов и вызывают меньше проблем. До некоторой степени этот совет является прагматичным и даже циничным: справедливость правителя увеличивает его могущество. Ио он также очерчивает круг мусульманских добродегелей. Мысли всех мусульманских политических теоретиков возвращают нас все к тому же: сильная, но добродетельная тирания одинаково приносит пользу и правителю, и народу.
Особое внимание в трактате уделяется также умеренности во всем. Возможно, эта идея идет напрямую от греческой философии — может быть даже от чтения философских книг, с которыми Тахир, как говорят, коротал время в своей почетной ссылке в Ракке в последние годы великой гражданской войны.
В документе есть также заметные пропуски. Кроме краткого упоминания об использовании налогов для унижения неверных, ничто в работе Тахира не дает указаний на то, что большой процент, или даже большинство населения, которым он правил, было христианами. Он коснулся только того, как мусульманский правитель должен относиться к своим мусульманским подданным. Здесь не упоминается необходимость обращать немусульман в ислам. Также не упомянут
джихад или священная война: мусульманское сообщество представлено как мирное и внутри себя, и с соседями.
Трактат Тахира выражает лишь желаемое. Нам сообщают, что Абд Аллах ибн Тахир, сын правителя, к которому обращается документ, следовал изложенным в нем советам, и, если наши источники не врут, пользовался доброй репутацией. Нечего и говорить, что многие правители не внимали этим советам — власть часто была слабой, ненасытной и тираничной, но трактат Тахира дает четкую модель того, каким современники представляли себе именно хорошее правительство.
Основной целью первых лет правления Мамуна в Багдаде было примирение. Высшее общество было расколото долгими годами гражданской войны. Люди, ранее сотрудничавшие при дворе Гаруна, теперь стали ярыми врагами, стремившимися уничтожить друг друга. Сельская местность была опустошена и обеднела, и новому правительству пришлось установить значительные налоговые послабления, чтобы создать хоть какую-то возможность для восстановления хозяйства
{426}.
Примирение при дворе проходило на более персональном уровне. Мать Амина Зубейда после смерти сына держалась незаметно, но теперь она помирилась с халифом, который вернул ей кое-что из ее состояния. Мать Мамуна умерла, когда он был совсем ребенком, и в прежние дни Зубейда обращалась с ним по-доброму. Теперь отношения восстановились, и хотя они никогда не были чересчур близки, Зубейда в какой-то мере сыграла роль матери Мамуна, когда он женился на Буран в 824/5 году
{427}. Примирение с Зубейдой было и причиной, и символом более общего примирения с семьей Аббасидов. Теперь, когда Мамун снова был в Багдаде и носил черное, у них не осталось возражений против него как халифа.
Никто не мог вернее вызвать гнев Мамуна, чем Фадл ибн Раби, дьявольский гений за спиной Амина, пытавшийся убрать Мамуна с дороги. Как сказал сам халиф:
Он захватил контроль над моими командирами, моими войсками, моим оружием и всем, что отец оставил мне, и перешел со всем этим к Амину [в Багдаде], оставив меня в одиночестве в Мерее. Он предал меня и настроил моего брата против меня, а результат мы все знаем. По мне, это было самое худшее из всего!{428}
Но даже Раби вышел из своего укрытия. Учтя многие годы службы его и его отца Аббасидам, а также из-за тесных связей с правящей семьей, халиф вернул ему благоволение
{429}. Раби ценили также за многолетний опыт политика, и даже восходящая политическая звезда тех лет, молодой Абд Аллах ибн Тахир, искал его совета
{430}. Когда весной 824 года Раби мирно умер в своей постели, его уход означал конец эпохи.
Противник халифа, Ибрахим ибн аль-Махди, талантливый поэт, но неудачливый политик, тоже скрылся, когда Мамун вошел в Багдад
[28]. Шесть лет он тайно жил в Багдаде, прячась в основном у друзей и родственников, пока в апреле 825 года его не выследила стража халифа. Переодетый женщиной, он переходил ночью в сопровождении двух настоящих женщин из одного убежища в другое, но их остановил стражник, потребовав ответа, куда это они направляются в столь поздний час. Ибрахим, похоже, запаниковал и предложил стражнику крупный рубин со своего пальца, если он позволит им пройти и не будет больше задавать вопросов. Это немедленно насторожило стражника. Он отвел задержанных к командиру ближайшего поста стражи, и тот потребовал, чтобы «женщины» подняли чадру. Ибрахим отказался, но офицер сорвал чадру, и всем вокруг открылась его борода. Его отвели к начальнику стражи, который узнал его и отправил к халифу.
На следующий день задержанного представили во дворце Мамуна всем членам семьи Аббасидов. Ему намотали вокруг шеи чадру, а вокруг груди женские одежды, чтобы все знали оскорбительные обстоятельства его поимки. Но Ибрахим больше не был угрозой для Мамуна, а кровь Аббасидов все еще чтилась. Халиф вспомнил историю Иосифа и его братьев и, повторяя слова Иосифа из Корана, сказал: «Нет тебе упрека сегодня. Аллах да простит тебя, а он самый милостивый из всех, оказывающих милосердие»
{431}.
Мамун посадил Ибрахима под домашний арест, под присмотр двух старших военных, но пленнику предоставили просторное жилье, с ним находились его мать и семья. Ему позволили также ездить верхом с охраной во дворец Мамуна, чтобы навещать халифа. За это халиф получил единственную монету, которой мог еще платить Ибрахим — стихи с грубой лестью и благодарностями. Ибрахим прожил достаточно долго, чтобы украсить собою двор Мамуна в Самарре. Когда он умер в Самарре в июле 839 года, халиф лично читал над ним похоронные молитвы
{432}.
Постепенно Мамун смог восстановить контроль над провинциями, который Аббасиды потеряли за годы слабости и гражданской войны. Смесью дипломатии и угроз Абд Аллах ибн Тахир восстановил правление Аббасидов в Сирии в 825 году и в Египте в 826 году. Правда, некоторые области Ирана все еще сопротивлялись власти Багдада, но в этом не было ничего нового. За исключением Туниса, который в ходе гражданской войны стал действительно независимым, Мамун восстановил империю в границах, которые существовали во время правления его отца.
Летом 830 года он решил последовать примеру отца и возобновить священную войну с Византией. Это была атака двумя ударами: халиф сам вел армию из Тарса на западе, а дальше на востоке его сын Аббас вел армию из Малатни
{433}. Было захвачено несколько второстепенных крепостей — но, как это часто случалось, главной целью экспедиции было представить халифа военным лидером мусульман, а его сына Аббаса будущим халифом.
После завершения набега Мамун вернулся не в Багдад, а в старую столицу Омейядов — Дамаск. Мамун даже перезимовал здесь — и может быть, именно в это время заставил изменить надпись на Куполе-на-Скале
[29] в Иерусалиме. Эта надпись, один из самых древних сохранившихся образцов арабской эпиграфики, четкими величественными буквами из золотой мозаики заявляла, что строителем купола был Омейяд, халиф Абд аль-Малик (685–705 годы правления). Пытаясь заявить о своей славе и славе своей династии, халиф приказал заменить имя Абд аль-Малика на свое собственное. Попытка никого не обманула, и до наших дней надпись является свидетельством его обидчивого тщеславия или угодничества его советчиков.
Перезимовав в Дамаске, летом 831 года Мамун опять отправился на север,
к византийской границе. Он взял Гераклею (которую его отец уже брал четверть века тому назад, но она была отбита византийцами во время гражданской войны) и снова вернулся в Дамаск на зиму. Ранней весной 832 года он посетил Египет — единственный из всех правящих халифов Аббасидов, кто это сделал. После короткого визита он опять направился на север к границе и осадил крепость под названием Лулуа.
Однако кампания развивалась не в его пользу. Гарнизон ожесточенно сопротивлялся, и после ста дней осады халиф отошел, оставив одного из своих командиров, Уджайфа, следить за противником. Византийцы контратаковали и взяли Уджайфа в плен. Когда пришло известие, что атаку возглавлял сам император Феофил, Мамун решил, что наступило время заключать мир.
Табари приводит письма, которыми обменялись халиф и император
{434}. Искренние они, нет ли, но в письмах хорошо отражен взгляд мусульман на диалог с неверными. Император предлагает арабам мир, чтобы «ты отвел тяготы войны от нас. Мы можем быть друзьями». Он выражает надежду, что мир позволит развиваться торговле между мусульманами и византийцами, а также предлагает освободить пленных с обеих сторон — но заканчивает тем, что может привести войну глубоко на мусульманскую территорию, если его предложения будут отвергнуты. Халиф отвечает в более агрессивном тоне. Его ответом будет отправка военных сил «на поиск Господнего благоволения, и тогда прольется ваша кровь». Его солдаты «больше стремятся вперед к орошаемым кровью местам смерти, чем вы, слишком рвутся, чтобы уберечь вас от пугающей угрозы их нападения на вас». Халиф подчеркивает, что его людям обещано одно из двух — или скорая победа, или возвращение к Аллаху мучениками, но обе эти перспективы их удовлетворяют
{435}. Император может избежать гибели и позора немедленным принятием ислама для себя и своих людей. После этого халиф предлагает возвращение к объективно существующему положению, то есть перемирие в обмен на уплату дани. Похоже, именно это в конце концов и произошло. Ибо за всей высокой риторикой по существу крылась экономическая подоплека — как обычно и бывает между двумя великими силами, недостаточно мощными, чтобы одна окончательно преодолела другую.
Следующей весной (833 года) Мамун снова отправился к границе. На этот раз он, похоже, был твердо намерен расширить свою территорию и создать постоянную базу на северной стороне Тавра, куда мусульмане никогда не добирались прежде. Халиф намеревался занять и укрепить город, по-гречески именуемый Тиана, а среди арабов известный как Тувана — современный Кемерхисар, расположенный в 20 километрах южнее Нигде.
Войско халифа было набрано в Сирии — совершенно необычная ситуация для времен Аббасидов, при которых большинство солдат набиралось в Иране и восточнее него. Солдатам платили по 100 динаров в кавалерии и по 40 — в пехоте. Вдобавок к четырем тысячам сирийцев имелись еще войска из Египта и две тысячи из Багдада. Операция предстояла достаточно крупная.
Во главе всей кампании Мамун поставил своего сына Аббаса. Тот выступил в мае и вскоре прибыл на место, начав строить обводную стену крепости. Как говорят, она должна была иметь в длину три
фарсаха (18 километров) и четверо ворот, каждые из которых усиливались крепостной башней
{436}.
Мамун продвинулся с сыном на север до самых гор, но огромное расширение границы мусульманских земель, которое было запланировано, осуществить так и не удалось. 9 августа 833 года халиф внезапно умер от лихорадки в крохотной деревушке Будандун (греческое название Подандос, современное — Позанти) по дороге на север от Войлочных ворог. Было ему сорок шесть лет
{437}. У нас есть рассказ предполагаемого очевидца обстоятельств смерти халифа — чтеца Корана, который сопровождал Мамуна по его требованию
{438}.
Я нашел его на берегу реки с [его братом] Мутасимом по правую руку. Он пригласил меня присоединиться к ним, они с братом полоскали ноги в реке.
Легко представить себе эту сцену. Стояла летняя жара, и прохладный поток с гор Тавра должен был казаться манящим и приятым.
Он предложил мне: «Поставь тоже ноги в воду, и заодно попробуй ее; видел ты когда-нибудь воду прохладнее, слаще и чище, чем эта?» Я сделал, как он сказал, и согласился, что никогда не встречал ничего подобного. Затем он спросил, какая еда подойдет тут лучше всего, и я ответил, что он разбирается в этом лучше. «Свежие зеленые финики сорта азад», — сказал он.
В этот момент мы услышали звон уздечек всадников почтовой службы. Он обернулся и увидел, что некоторые мулы несут на крупах короба с подарками. Он велел одному из слуг посмотреть, есть ли там, среди даров, свежие финики, и если есть, то какого сорта, не азад ли. Торопясь, вернулись слуги с двумя корзинами фиников азад, которые выглядели так, будто были только что сняты с пальмы. Он поблагодарил Аллаха, и мы все поели и затаи финики водой. Но позднее, когда мы поднялись, нас начало знобить. Для Мамуна болезнь оказалась смертельной, Мутасим болел до самого возвращения в Ирак, а я поправился быстро.
Масуди представляет другой рассказ
{439}, переданный ему в Дамаске — хотя его информатор не утверждает, что сам был свидетелем. Халиф и тут находится в Буданлуне:
Очарованный прохладной водой, чистой и прозрачной, а также красотой местности, зеленею, он велел нарезать длинных ветвей и уложить их над потоком. На них устроили что-то вроде павильона из жердей и листьев с деревьев, и он устроился в этом примитивном убежище. В воду бросили свежееотчеканенный дирхем; она оказалась такой прозрачной, что можно было прочитать надпись на лежащей на дне монете, и такой холодной, что никто не решался выкупаться.
Между тем в патоке появилась рыба около полуметра длиной, сверкающая, как серебряный слиток. Таму, кто решился бы поймать ее, была назначена награда. Один слуга бросился вниз, схватил рыбу и начал карабкаться на берег, но когда он приблизился к павильону, где сидел Мамун, рыба изогнулась, выскользнула из рук и камнем плюхнулась в глубокую воду. Плеснувшая вода окатила халифу грудь, шею и ключицы, намочив одежду. Слуга бросился назад, снова поймал рыбу и, дрожа, положил ее, завернутую в салфетку, перед халифом.
— Зажарьте ее! — сказал халиф.
Но в этот момент его внезапно охватила дрожь, и он не смог двинуться. Бесполезными оказались обертывания в покрываю и стеганые одеяла: он продолжал дрожать, как пальмовый лист, и твердить:
— Мне холодно, мне холодно!
Они отнесли его в палатку, укрыли, развели большой костер, но он продолжал жаловаться на холод. Когда рыбу зажарили, блюдо принесли ему, но он не захотел даже попробовать; он слишком сильно страдал, чтобы притронуться к рыбе.
Невозможно определить, что правда в этих двух рассказах, но описания этого печального события дают заглянуть в личную жизнь халифа в дороге.
Перед смертью Мамун успел сделать завещание, в котором определял, как его хоронить
{440}. После признания, что грешен, и молитвы о прощении он продолжает:
Когда я умру, поверните меня лицом к Аллаху, закройте мне глаза, сделайте малое омовение и обряд очищения, и проследите, чтобы меня правильно завернули в саван [в традиционной мусульманской практике похорон гроб не используется]… Затем положите
меня на бок на носилки и
поторопитесь со мной. Когда вы положите меня для молитвы. пусть один из вас, самый близкий мне по крови и самый старший по годам, выйдет вперед, чтобы вести службу. Пусть ведущий молитву произнесет такбир [то есть формулу «Аллаху Акбар, Господь Всевеликий»] пять раз, а начнет его словами «Будьте угодны Аллаху, благословение на нашего хозяина и хозяина всех посланцев, которые были уже отосланы». Затем должна идти молитва за всех верующих мужчин и женщин, тех, кто еще жив, и тех, кто умер, а затем молитва за тех, кто предшествовал нам в вере. Затем ведущий молитву должен произнести такбир четвертый раз, а затем дайте ему вознести благодарение Аллаху, провозгласить признание в вере в Него, восхвалить Его и попросить даровать мир. Затем положите мой труп себе на плечи и отнесите к моей могиле. Вознесите щедрые благодарности Аллаху с упоминанием его имени. Уложите меня на правый бок и разверните в направлении Мекки. Откиньте саван с моей головы и ног, а затем возведите нишу из глиняного кирпича и забросайте меня землей. Потом уходите и предоставьте меня моей судьбе, потому что никто из вас не в силах будет мне помочь или защитить от наказания, которое на меня может быть возложено.
Присутствующие воздержались дурно отозваться о нем, когда он попросил: «Не допускайте рыдающих женщин ко мне, потому что горестный плач беспокоит больного».
Затем простые похороны и соответствующий скромный конец обозначили уход величайшего из властителей того времени. Его тело увезли в горы Тавра и погребли у дома, принадлежащего одному из евнухов его отца. И ныне туристам все еще показывают его гробницу
{441}.
Похоже. Мамун не оставил ясного распоряжения о наследовании. Может быть, он испытывал отвращение к чрезмерно проработанному завещанию своего отца — и к хаосу и страданиям, обрушившимся в результате на халифат. Но возможно, что он составил завещание, однако его впоследствии скрыли. Сын Мамуна Аббас был к этому времени уже взрослым и имел значительный опыт ведения войны против византийцев. Он, казалось бы, представлял совершенно естественный выбор — но все же халифом стал его брат Мутасим, от которого произошли все последующие халифы Аббасидов. Эго означало, что существовали скрытые, но могущественные механизмы, содействовавшие возвышению Мутасима и внешне не встретившие серьезного сопротивления. Однако, внимательно читая источники тех лет, можно убедиться, что все было не так уж просто.
Абу Исхак, известный как халиф Мутасим, являлся самым младшим сыном Гаруна аль-Рашида от рабыни неарабского происхождения, уроженки Куфы по имени Марида. Более о ней мы не знаем ничего. Он родился примерно в 796 году во Дворце Вечности в Багдаде и был на десять лет моложе своих братьев, Амина и Мамуна
{442}. Он был еще мальчиком, когда умер его отец, и не играл никакой роли как преемник по завещанию Гаруна. Вероятно, он провел время гражданской войны в Багдаде.
Молодой принц был целеустремленным и решительным. Пока другие принцы крови проводили время с поэтами и певцами, он использовал все свои ресурсы, чтобы набирать солдат, которые были бы верны только ему одному. Весь 815 год, до самого возвращения Мамуна в Багдад, Мутасим скупал у хозяев в Багдаде тюрков-рабов, среди которых были Ашинас, Итах, работавший у предыдущего хозяина поваром, и Васиф, мастер плетения кольчуг.
После утверждения столицы халифата в Багдаде Мутасим начал скупать рабов напрямую у купцов из Центральной Азии. Все эти люди были тюрками по национальности. В то время порки жили не в современной Турции, а в коренных тюркских землях
[30] — на обширных просторах степей и пастбищ, которые простирались за границами поселений в северо-восточном Иране, в областях, которые теперь стали Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией. Они были людьми с ярко выраженной монголоидной внешностью (как современные казахи и киргизы) и жили как племенные кочевники. Для Мутасима, создающего свою «армию нового строя», эти люди были весьма привлекательны в качестве преданных солдат.
Сначала они были чужаками в мусульманском мире. Они не тащили за собой никакого политического груза — ни семейных обязательств, ни контактов, которые отвлекали бы их от преданности новому вождю. Еще большее значение имел тот факт, что они были необычайно выносливы и привычны к необыкновенно примитивному быту в очень тяжелых условиях окружающей среды. Кроме того, они принесли с собой новый стиль ведения боя, поскольку этих людей изначально учили стрельбе из лука, умению выпускать стрелы с быстро скачущей лошади. Росшие с лошадьми с самого детства, учившиеся ездить верхом раньше, чем ходить, тюрки великолепно умели управлять своими животными. Они жили на кобыльем молоке и конине. Не испорченные манерами и политикой оседлого общества, они представляли собой идеальных воинов.
Отдельных тюрков нанимали и предыдущие халифы — но бойцов Мутасима отличало то, что они образовали целостную военную единицу, численностью всего в несколько тысяч, но сильную, жесткую, дисциплинированную и преданную своему хозяину. Ни один другой член семьи Аббасидов не имел такого ударного кулака.
Появление тюрков привело к возникновению при дворе Аббасидов новой фигуры —
гуляма. Первоначально этот термин означал юношу или пажа, но тюркские
гулямы были гораздо большим. Они стали солдатской элитой халифов, их защитниками, а иногда и самыми смертельными врагами. Эти стройные молодые люди с их обманчиво красивыми лицами и едва пробивающимися бородками часто могли становиться объектом сексуальных желаний.
Гулям, чьи брови как выгнутый лук, а глаза мечут стрелы взглядов, стал частым объектом для вдохновения арабских и персидских поэтов девятого и десятого веков. Некоторые юноши могли быть для хозяина одновременно рабами, телохранителями, музами и любовниками в постели. Появление
гулямов навсегда изменило лицо двора Аббасидов.
Мы не знаем, когда — если это вообще произошло — Мамун начал рассматривать своего брата как наследника. Не существует никакой записи о публичном провозглашении Мутасима наследником — такой, какие оставляли своим наследникам Мансур, Махди и Гарун. Относился ли Мамун к вопросу наследования без
должной заботы или просто не
допускал возможности столь скорой и неожиданной смерти? Стал ли Мутасим явным наследником только тогда, когда они с халифом сидели, беседуя у реки в Будандуне, болтая ногами в воде? Или же идея возведения его на престал возникла уже после смерти халифа — у самого Мутасима либо у кого-то из его сторонников?
Мы знаем только, что влияние Мутасима росло, и Мамун назначил его наместником Египта и других земель. Когда Абд Аллах ибн Тахир двинулся в сторону Хорасана после смерти своего брата в 828/9 году, Мутасим занял его место в качестве правой руки халифа на западной границе. Возможно, в таких обстоятельствах Мамун действительно стал считать его потенциальным наследником. С другой стороны, это выглядит странно — исключить из наследников собственного сына Аббаса.
Может быть, Мутасим просто по чистой случайности находился с братом в момент его смерти, в то время как Аббас стоял лагерем на другой границе империи. Может быть, именно это отсутствие в столь критический момент стоило Аббасу халифата и в конечном счете жизни. Нам рассказывают, что в армии многие поддерживали Аббаса и с нетерпением ждали, когда он заявит свое право на трон — но или потому, что он растерялся, или потому, что не хотел вызывать гражданский раздор, однако сын Мамуна принес клятву верности своему дяде и его военным сторонникам, так что не осталось места для дальнейших треволнений
{443}.
Новый халиф имел бледное лицо и черную бороду, подкрашенную хпой. Он был физически здоров и очень силен
{444} — говорят, что Мутасим без труда вскакивал с земли на спину лошади. Гораздо более поздний источник сообщает, что он был неграмотен, что абсолютно невозможно для принца Аббасидов — но может быть, его просто не привлекало чтение
{445}. Он, конечно, не был интеллектуалом, как его умерший брат. С другой стороны, он живо интересовался военными делами, и, похоже, легко чувствовал себя в среде командиров и солдат своей новой армии; его первый визирь, Фадл ибн Мсрван, говорил, что халиф проводит больше времени в военных экспедициях, чем где-либо еще.
Говорят, когда речь заходила об архитектуре, он не проявлял интереса к украшению зданий — единственной заботой Мутасима была прочность постройки. Ибн Аби Дувад, один из его основных советников, вспоминает, как в 833 году отправился с халифом на осаду Амориона. Обычно ибн Аби Дувад и халиф уравновешивали друг друга на верблюжьих носилках, располагаясь по разным бокам горба и болтая по дороге, по на этот раз Мутасим решил ехать один на муле, оглядываясь на ибн Аби Дувада, который вынужден был склоняться вниз, чтобы ответить ему. Они оставили армию позади и выехали к реке, где не увидели явного брода. Халиф немедленно оказался впереди на муле, прошлепал по воде налево и направо, ища мелкое место для переправы, потом нашел его, и верблюд ибн Аби Ду вада благополучно перешел реку следом
{446}. Трудно представить себе изнеженного Гаруна, еще труднее — любого из более поздних халифов, получающими такое явное удовольствие от активности вне дома.
Первой заботой Мутаснма было вернуться в столицу и утвердить себя халифом. Кампания против византийцев и строительство Тианы были немедленно прекращены. Новый халиф приказал разрушить все, что было построено. Всех рабочих и оборудование, которое можно было транспортировать, вывезли, а остальное сожгли. Колонисты, которые пришли поселиться в новом форпосте, были отосланы домой
{447}.
Похоже, Мутасим без труда утвердил свой авторитет в Багдаде. Ключевыми фигурами его режима стали командиры тюркскою войска Ашинас и Игах, несмотря на свое скромное происхождение, поднявшиеся до выдающихся людей государства и лидеров новой армии. К ним Мутасим добавил еще одного человека с совсем иным прошлым, известного в истории как Афшин. Афшин — это не имя, а титул. Он не был рабом. Афиши являлся правителем маленького горного княжества Ушрусан в далеком горном массиве к юго-востоку от Самарканда. Это княжество находилось на самой дальней границе мусульманского мира — за ним лежали непроходимые горы Памира, а еще дальше — Китай. В тех местах очень мало кто был мусульманином; наоборот, местные правители активно отбивались от деятельности миссионеров, а большинство их подданных продолжало считать своих правителей богами.
Но Ушрусан был бедной и удаленной землей, а молодого Афшина соблазнила служба у самого халифа. Он привел с собой закаленных горцев, которые служили ему без лишних вопросов. Афшин стал самым блестящим военачальником Мутасима — и все-таки всегда оставался аутсайдером среди бывших рабов, поваров и торговцев маслом, которые окружали халифа. Всегда ощущая свое аристократическое происхождение, он был изолированной фигурой и оказался без союзников, когда пришел его трудный час.
Гражданской администрацией сначала управлял Фадл ибн Мерван, получивший образование в традициях Бармакидов. Он был умелым и опытным администратором, но в большей степени просто бухгалтером. Если в сокровищнице не было денег для представительских расходов — например, чтобы сделать подарок поэту, — он так и говорил. Добрые друзья советовали ему быть более дипломатичным: чем впрямую говорить об отсутствии денег, он мог бы заверить своего хозяина, что оплату можно сделать через день-другой, чтобы дать тому время найти выход из положения. Но Фадл ибн Мерван так никогда и не приобрел соответствующей сноровки.
Однажды Мутасим гулял в дворцовом саду Багдада со своим шутом и насмешником по имени Хафти, которому халиф пообещал подарок, а подарок этот Фадл ибн Мерван, распоряжавшийся расходами, так и не выплатил. Мутасим быстрым шагом пересекал сад, наклоняясь к росшим там ароматным травам и деревьям, а Хафти, который был коротышкой и к тому же толстяком, с трудом поспевал за хозяином. «Двигайся проворнее!» — бросал ему халиф время от времени, и Хафти пожаловался, что хотел бы спокойно пройтись рядом с халифом, а не бежать, как курьер. Разговор пошел дальше, и Мутасим стал говорить, какой он удачливый и как многого он достиг. Естественно, Хафти ответствовал, что халиф не хозяин в собственном доме. История невыплаченного подарка вышла наружу — и, как говорят, убедила халифа, что ему нужно избавиться от нудного и прямолинейного бухгалтера.
Фадл был более удачлив, чем большинство чиновников того времени. Он потерял работу, но ему позволили переехать в маленькую деревушку Синн на Тифе, к югу от Мосула, где он, похоже, жил на пенсии в уединении до самой смерти
{448}.
Его заменили богатым коммерсантом Мухаммедом ибн аль-Зейятом, — то есть «сыном торговца маслом». Как говорит его имя, отец Мухаммеда сколотил серьезное состояние, снабжая Багдад растительным маслом. Сам Мухаммед процветал на правительственных заказах на палатки, церемониальные зонтики и оснастку для верховых верблюдов
{449}. Фадл ибн Мерван обращался с ним презрительно, как городской чиновник с мелким предпринимателем. Когда ибн аль-Зейя г сделался придворным и появился в официальной придворной одежде — длинном черном плаще
дурра’
а, застегивающемся спереди, с мечом на поясе, — визирь спросил его: «Какое право имеешь ты, простой торговец, носить придворную одежду с мечом?» Оскорбленный ибн аль-Зейяг был обязан дать объяснение
{450}. Теперь он стал одним из полудюжины самых важных людей государства.
Осенью 835 года Мутасим сделал еще одно перемещение, которое оказало основательное влияние на историю халифата Аббасидов: он перенес свою резиденцию из Багдада на новое место у берега Тигра, примерно в 160 километрах к северу. Здесь он начал строить город, известный с тех пор как Самарра.
Халифы часто покидали Багдад и прежде: Гарун в более позднем возрасте провел много лет в Ракке, которая стала чем-то вроде его второй столицы. Но, несмотря на интенсивное появление дворцов вне городских стен, сама Ракка никогда не стала чем-то большим, чем скромный провинциальный город. Мамун, как мы знаем, последние три года своей жизни посещал Дамаск гораздо чаще, чем Багдад.
Но переезд Мутасима в Самарру носил совсем иной масштаб. С самого начала халиф решил, что город должен стать новой постоянной столицей. У него имелись веские причины для переезда. Арабские источники подчеркивают рост напряжения между вновь набранными
гулямами Мутасима и местным населением Багдада — в особенности членами общества
Абна, которые составляли элитный костяк старой армии Аббасидов.
Гулямы постоянно находили своих товарищей убитыми прямо в жилищах. Местное население считало их грубыми варварами, которые даже не умеют говорить по-арабски, лишь носятся верхом по улицам, сбивая мужчин и женщин, топча копытами детей. В ответ багдадцы стаскивали гвардейцев халифа с лошадей и били, иногда даже убивали. Как часто упоминается в старинных хрониках, в конце концов единственное высказывание, дошедшее до халифа, заставило его принять тяжелое решение
{451}.
Шел один из величайших мусульманских праздников года — то ли праздник жертвоприношения, то ли конец поста, и Мутасим возвращался с многолюдной молитвы на площади (Мусалла), когда у него на пути встал старик. «О, Абу Исхак», — начал древний старик, но прежде, чем он успел продолжить, стража навалилась на него: он не только загородил путь, но и обратился к халифу по его семенному
куниа, а не торжественным титулованием «повелитель правоверных». Но халиф жестом приказал страже отойти и спросил старика, чего он хочет. Ответ был прямым и честным: «Мой Аллах не наградит тебя за пребывание тут, среди нас! Ты живешь с нами, а привел этих варваров и поселил их, чтобы и они жили с нами. Из-за них наши дети остаются сиротами, ты делаешь наших женщин вдовами, когда убиваешь наших мужчин!» Мутасим выслушал эту речь и вернулся во дворец. Далее о судьбе старика не говорится ничего, если даже он существовал вообще — но смысл этой истории в том, что откровенность не причинила ему вреда. На следующий год халиф решил переселиться в Самарру.
Жители Багдада всегда сопротивлялись засилью тюрков. Расселение грубых и довольно-таки распущенных солдат среди культурного и привыкшего к комфорту городского населения часто приводило к конфликтам. Тот факт, что многие из них не говорили по-арабски и совсем недавно обратились в ислам, если вообще обратились, делало отношения еще более конфликтными. Для многих багдадцев существовал дополнительный повод к недовольству — все эти люди занимали их место в качестве отборных войск халифата. Теперь тюрки получали высокие оклады и положение при дворе, а багдадцев отправляли на пенсию, в гражданскую жизнь, в лучшем случае переводили в ополчение. Едва ли приходится удивляться, что сопротивление тюркам пышно расцветало и постоянно росло, а дикие инциденты становились все более обычным явлением.
Имелись и другие практические причины, почему повое место было привлекательным. Багдад к этому времени стал весьма развитым городом, в нем было нелегко и недешево найти места, чтобы расселять новых солдат. По контрасту со столицей Самарра оставалась открытым пространством, хотя данное определение может создать представление о неосвоенности этого места, чего на самом деле не было. Но с прибытием халифа город еще более увеличился и постепенно растянулся на 15 километров вдоль восточного берега Тигра. Здесь имелись широкие и прямые главные улицы, а также ряд столь же прямых боковых улиц.
Изначально план этих улиц раздали военачальникам и чиновникам для проработки. Были возведены огромные мечети и громадные дворцы с арочными перекрытиями, комнатами, садами и парками. Были заложены ипподромы, а у реки — порт. Хотя первоначально город строился на восточном берегу, на западном вскоре тоже выросли пригороды с парками, дворцами и павильонами.
В отличие от Багдада, который всегда оставался заселенным с тех пор, как Мансур основал его в 762 году, большая часть Самарры опустела, когда в 892 году двор вернулся в Багдад. Здесь всегда имелись проблемы со снабжением питьевой водой. Несмотря на крупные финансовые вложения, вокруг Самарры так никогда и не была создана сеть рек и каналов, какие имелись в Багдаде и его окрестностях — и когда правительственные дотации иссякли, многие участки вернулись в свое обычное засушливое состояние. В результате большую часть первичного плана города и его построек все еще возможно различить. На уровне земли остатки строений в основном не производят впечатления. Кроме нескольких сооружений из обожженного кирпича, таких, как внешние стены Великой мечети и примыкающий к ней спиральный минарет, стены города представляют собой чуть больше, нежели просто бесформенные холмики глины, медленно распыляемые ветром по Месопотамской равнине. Однако с воздуха, особенно в косом солнечном свете раннего утра или вечера, выявляется весь план города, который можно с большой точностью воспроизвести на карте
{452}.
То, что мы видим здесь, совсем не похоже на исламский город обычного типа. Самарра не была городом узких, продуваемых ветром улиц и кривых тупичков — это широко распахнутые прямые улицы с регулярной ортогональной планировкой. Эта планировка красноречиво говорит о власти и авторитете халифа, который строил этот город.
В Самарре был создан новый двор, и новая армия вкупе с чиновничеством перебрались сюда. Мутасим стал полным хозяином в своей новой столице, окруженной войсками, которые были всем ему обязаны. Багдад с его непокорными жителями и энергичной торговой жизнью оказался в стороне. Халиф так и не понял, что эта изоляция войск сделает Самарру тюрьмой и в конце концов мертвой ловушкой для его сторонников.
Этот новый режим должен был доказать свою состоятельность более широкой мусульманской общине, видевшей перед собой халифа, чьи притязания на трон были как минимум шаткими, и армию, которую составляли в основном выходцы из немусульман, не имевшие исламских корней. Халиф обязался содержать новую армию для единственной цели, на которую были согласны все мусульмане — войны против неверных. Только таким образом он мог доказать свое моральное право на лидерство среди мусульман и право своей армии кормиться с налогов, которые платило население.
Существовало три основных военных театра. Два из них находились внутри границ халифата Аббасидов. В Азербайджане человек неясного происхождения по имени Бабек возглавил восстание горцев этого региона, пытаясь препятствовать растущему давлению мусульманских переселенцев с юга. В горах Эльбурс у южной оконечности Каспийского моря местный правитель Мазьяр, гордившийся своей родословной, уходящей в доисламские времена, также пытался сохранить старый образ жизни, Обоих этих людей рисуют мятежниками, выступившими против власти халифов, хотя в действительности они происходили из областей, гае правление мусульман всегда оставалось чисто номинальным.
Мутасим отправил армии против обоих. Мы особенно хорошо знаем о войне против Бабека, где Афшин мастерски провел регулярную кампанию
{453}. Столица Бабека в горах была взята, его самого захватили в плен и привезли в Самарру. Тут он стал центром триумфального празднества — почти в стиле древних римлян.
3 января 838 года Афшин прибыл в Самарру с плененным Бабском. Чтобы оформить это событие наилучшим образом, пленника подняли на слона — кажется, при дворе в это время имелся один слои, подарок индийского принца. Как слон совершил трудный переход в Ирак, мы себе не представляем, но сейчас он был в богато украшенной попоне, а пленного одели в короткий атласный плащ и круглую шапку из собольего меха. Слона провели через двойной ряд войск, выстроившихся вдоль главной улицы, мимо глазеющего любопытного народа к залу аудиенций дворца, где пленного ждал халиф.
По странной прихоти халиф решил, что казнь должен исполнить личный палач Бабека по имени Нуднуд. Ранее его тоже привезли в столицу в качестве пленного. Раздались крики: «Где Нуднуд?» — и наконец он появился, чтобы продемонстрировать свое искусство на собственном хозяине. Сначала Бабеку отрубили руки и ноги, а затем вспороли живот. Его голову отослали в Хорасан, а тело выставили на месте, которое с тех пор известно как «Виселица Бабека». Его брата тоже привезли в Багдад, чтобы казнить и выставить там же
{454}. Триумфу халифа едва ли можно было дать более яркую рекламу.
Кампании против Бабека и Мазьяра возглавляли полководцы. Кампанию против третьего врага, неверных византийцев, возглавил сам халиф. Как и в других кампаниях, пропагандистская машина халифа обеспечила нам хорошую информацию о героических достижениях армии и ее предводителя. Византийский император Феофил атаковал и взял маленький мусульманский городок Зибатра в далеких горах, и местные жители обратились к халифу с мольбой о помощи. Повелитель правоверных должен был отреагировать на случившееся. В начале апреля 838 года
{455} он повел свою армию к северной границе.
Из всех мусульманских экспедиций против Византии кампания Мутасима летом 838 года освещена наиболее широко
{456} — наверняка потому, что халиф персонально возглавил ее и хотел, чтобы героические достижения его и его людей запомнились надолго. План был претенциозным. Предполагалось провести согласованную атаку с двух сторон. Афшин должен был вести армию через восточные перевалы Тавра, а Мутасим с двумя самыми опытными командирами-тюрками, Ашннасом и Итахом, должны были атаковать через Киликийские ворота на западе. Встреча двух армий намечалась в Анкаре с тем, чтобы дальше вместе двинуться к основной цели, городу Амориону.
Продвижение огромной армии через пустынные равнины центральной Анатолии в середине лета требовало решения проблем со снабжением, и халиф «оснастил войско оружием, припасами, кожаными поилками для животных, мулами, которые везли воду, и козьими мехами, чтобы хранить в них эту воду»
{457}. Наряду с обычным оружием, мечами и луками, армия тащила с собой баллисты и нефть.
Халиф ступил на византийскую территорию 21 июня. Несмотря на подготовку, марш не был легким, и армия ужасно страдала от отсутствия воды и фуража. Местное население в основном убегало, забирая с собой стада и припасы, и, хотя пленные показали мусульманам путь к одной такой группе, спрятавшейся в соляных шахтах, пищи никогда не было в достатке. Тем временем войска противника держалось поблизости, ожидая возможности атаковать.
Несмотря на эти проблемы, Анкара, покинутая жителями, была взята без боя — византийцы не предприняли никаких попыток защитить город. 1 августа Мутасим начал осаду Амориона
{458}. Аморнон не являлся крупным городом, но он имел стратегическое значение и был важным пунктом на дороге к Константинополю. Кроме того, он был символическим местом — городом, где родился император Феофил. Как и многие крупные греческие города внутренней Анатолии, к началу Средних веков он сильно уменьшился и теперь представлял собой небольшую, хорошо защищенную крепость.
Армия Мутасима разделилась на три части. Афшин командовал одной, Ашинас — второй, а халиф — третьей. Каждой определили секцию стен и башен. Командир византийцев, Этий. вместе с горожанами приготовился к сопротивлению. Для халифа и его сил это было чем-то вроде военной разминки. Даже в разгар сражения Мутасим и его командиры уходили в середине дня в свои палатки на дневной отдых
{459}.
Город защищался хорошо, и план штурма был сорван. Халиф внимательно осмотрел крепость, оценил материал стен и ширину рва, который окружал город. Он понял, что его баллисты не смогут разбить стены по другую сторону рва, поэтому решил засыпать сам ров. Применив хитрость (вероятно, уникальную в истории осадных операций), он приказал, чтобы каждому солдату выдали по овце. Человек съедал мясо овцы и заполнял ее шкуру землей, превращая ее таким образом в аналог большого мешка с песком. Этот мешок притаскивали ко рву и сбрасывали в него. Артиллерию тем временем поставили на колесные тележки: каждая баллиста обслуживалась четырьмя солдатами. Кроме того, имелись еще мобильные укрытия —
даббаба, в современном арабском языке это слово означает «танк». Вероятно, они выглядели как «мышь»
[31] классической осадной войны. Под каждым таким укрытием помещалось десять человек.
С разоружающей откровенностью, которая приятно контрастирует с обычно триумфальным тоном изложения подобных событий, анонимный историк попытался объяснить, почему эта гениальная схема провалилась. Мешки из шкур, кидаемые в ров, не образовывали ровную плоскую поверхность, потому что люди, которые укладывали их, слишком боялись камней, сбрасываемых защитниками со степ, чтобы тратить время на правильное выполнение своей работы. Тогда халиф приказал, чтобы сверху накидали еще земли и заровняли поверхность. Он потребовал подкатить к стенам «мышь» — но на половине пути через ров она застряла и увязла в шкурах. С огромным трудом команда смогла спастись, а само сооружение оставалось торчать во рву, завязшее и бесполезное, до самого конца осады.
В конце концов лишь предательство изнутри помогло мусульманам взять город. Оказалось, что часть городской стены была разрушена зимними бурями. Император написал правителю, требуя починить стену, но к нужному времени ничего сделано не было. Когда правитель узнал, что в его район едет император, то решил кое-что торопливо отремонтировать. Он приказал рабочим заделать фасад стены так, чтобы, когда император будет проезжать мимо, снаружи она выглядела целой — но за внешней кладкой стена была засыпана галькой. Секрет этого слабого места оказался известен мусульманину, взятому византийцами в плен и обращенному в христианство, женившемуся и осевшему в Аморионе. Теперь же он сбежал из города и явился к халифу, чтобы указать на уязвимое место укреплений.
Халиф немедленно сосредоточил там все силы. Он даже разбил свою палатку у этого сектора стены и стянул сюда все баллисты. Обороняющиеся попытались защитить стену, опустив за нее огромные бревна, но те были разбиты огнем баллист. Осажденные попытались добавить к бревнам мешки, однако все оказалось напрасно.
Мусульманские военачальники Ашинас, Афшин и Итах соревновались друг с другом, кто первым войдет в город. Сражение было свирепым, и опять все решило предательство: командир сектора, в котором был произведен пролом, решил, что его не поддерживают товарищи в городе, и сдался халифу. Войска мусульман хлынули в город, группа защитников укрылась в громадной церкви, которую подожгли над их головами. Сам Этий укрылся в одной из башен, но вынужден был сдаться, передав свой меч одному из офицеров халифа. Вероятно, вся осада длилась не более двенадцати дней.
Потом появились толпы пленников и награбленное добро. Назначили переводчика, чтобы отделить пленников высокого положения, за которых можно было получить выкуп. Остальных выставили на торги группами по пять-десять человек. Чтобы ускорить процесс, было позволено давать только три цены за женщин и детей. Согласно христианским источникам, халиф решил, что не нужно отделять детей от матерей, и, если это правда, то это был редчайший жест человечности в том мире.
Тем временем добро тоже продавали с аукциона — каждому военачальнику позволяли распоряжаться тем, что захвачено в его секторе, а счетоводы записывали проданное, чтобы знать, что награбленное распределяется справедливо. Было много беспорядка, так что пришлось вмешаться самому халифу — он прискакал с мечом наголо, желая предотвратить растаскивание ценностей. Когда несчастных пленных погнали сквозь летнюю жару по безводной дороге, ведущей к границе, их положение стало еще хуже. Халиф узнал, что византийский император идет за ним, поэтому ему нужно было двигаться быстро. Вскоре мусульмане тоже начали умирать от жажды, я кое-кто утверждает, что это пленные убили нескольких солдат. Мутасим действовал безжалостно: после того, как отделили высокопоставленных пленных, остальных, около шести тысяч человек, отвели в отдаленную долину и убили.
Экспедиция оказалась триумфальной для Мутасима и его новой армии, неверные были убедительно повержены. Победу широко освещали и отразили даже в поэзии, включая длинную оду Абу Таммама, часто считавшуюся одним из шедевров нового, весьма вычурного стиля арабской поэзии, который вскоре стал модным при дворе.
Но не все новости были хорошими. Осада Амориона привела к выходу на поверхность кипящего недовольства военных. Похоже, коренной причиной явилось напряжение, возникшее между аристократами Хорасана, которые поддерживали Мамуна, и тюрками, выдвигаемыми Мутаснмом, которых первые считали не выше рабов. Утверждают, что некоторые из недовольных солдат говорили, что они скорее перейдут к византийцам, чем останутся под командованием «раба, сына шлюхи» вроде Ашинаса
{460}.
Говорят, заговорщики планировали переворот, собираясь убить Мутасима и посадить на трон сына Мамуна — Аббаса. Согласно имеющимся источникам, конспираторы решили ударить, когда Мутасим находился в походе против Византии — видимо, надеясь успеть провернуть все в его отсутствие. Аббас тоже был участником заговора. Его торопили с действиями, когда армия двигалась через перевалы Тавра, но он проявил гибельную нерешительность, объяснив, что не хочет выступать, пока халиф не возьмет Аморион — может быть, чтобы его не обвинили в саботаже священной войны
{461}.
Но к этому времени весть о заговоре уже разошлась весьма широко, назывались даже отдельные лица, которых назначили убить халифа и всех выдающихся тюркских военачальников. После сочинения Аббасом манифеста в гамлетовском стиле требовалось лишь время, чтобы шило вышло из мешка наружу. Слабое звено в цепи проявилось, когда один из офицеров, Ахмед ибн Халиль, пожаловался другому офицеру, Амру аль-Фергани, который был участником заговора, на поведение Ашинаса, под командой которого они оба служили. Товарищ заверил его, что вскоре избавится от несносного тюрка, и направил Ахмеда к человеку, который занимался вопросами конспирации
{462}. Ашинас, похоже, уже подозревал обоих, поскольку они давно ворчали и просили перевода в другой отряд.
Он задержал их и посадил под домашний — вернее, палаточный арест. Офицеров охраняли, но давали им пищу, воду и постель. Они также обязаны были передвигаться в носилках, а не верхом на собственных лошадях. Против них еще не имелось явных доказательств, по вскоре положение изменилось. Амр предупредил юношу, которого очень любил, что если тог услышит тревожные звуки
в палатке халифа, пусть не высовывается из своей палатки, «потому что обстановка может стать очень опасной, когда войска неспокойны». Юноша отправился к халифу и передал ему весь разговор. Амра вызвали в царскую палатку. Он попытался выкрутиться, сказав, что
юноша был пьян и абсолютно не понял смысла их разговора — но его расспрашивали еще и еще, а потом передали Итаху
{463}.
Ахмед тем временем запаниковал. Он послал малышка-раба выяснить, что происходит с Амром, и когда узнал, что того допрашивают, попытался превратиться в обвинителя. Он обратился к Ашинасу, заявив, что располагает информацией, которую может передать только лично халифу. Но Ашинас резко ответил, что засечет Ахмеда до смерти прямо здесь и сейчас, если. он немедленно не расскажет всего. Так история с заговором вышла наружу. Ашинас приказал двум армейским кузнецам сковать кандалы.
Тем временем главное доверенное лицо Аббаса, Харит ас-Самарканди, был допрошен самим халифом и вскоре признался во всем. Теперь и Аббас оказался под арестом. Мутасим обращался с ним по-доброму и позволил ему поверить, что его простили. Аббас даже позавтракал с халифом, а затем вернулся в свою палатку. Вечером Мутасим пригласил его снова; они сидели рядом, и халиф усиленно подливал ему вино. Вскоре Аббас выдал монарху имена всех, кто обещал ему поддержку.
Как только победоносная
мусульманская армия вышла через Киликийские ворота на равнины северной Сирии и Ирака, Мутасим дал себе волю и провел чистку среди заговорщиков почти со сталинской жестокостью. Он безжалостно преследовал всех командиров, которые были вовлечены в заговор; их арестовали и казнили с изобретательностью, которая доходила до настоящего садизма. Аббас тоже обнаружил, что дни его попоек с халифом закончились. Когда он со своим конвоем достиг Манбиджа в северной Сирин, его спросили, что он будет есть, и предложили деликатесные, но соленые блюда; когда же затем он попросил пить, ему отказали. Его завернули в войлочное одеяло, и очень скоро он умер
{464}.
Амра аль-Фергани довезли до Нисибина в северном Ираке. Мутасим разбил свой лагерь в саду и позвал хозяина, чтобы тот выкопал яму глубиной в человеческий рост. После того, как хозяин начал копать, Мутасим послал за Амром. Когда привели пленника, халиф сидел в саду, перед ним стояло несколько чаш с вином. Халиф ничего не сказал прямо, но приказал тюркской страже раздеть офицера и выпороть его. Когда хозяин сада подошел сказать, что яма готова, Мутасим приказал, чтобы Амра напоследок избили дубинами, утащили к яме и бросили зуда. Амр не издал ни звука. Затем его засыпали землей
{465}.
Ахмеда ибн Халида привезли назад в Самарру, где посадили в крытую яму, но хлеб и воду ему спускали. Однажды Мутасим спросил Ашинаса, который держал Ахмеда под стражей, как он там. Получив ответ, он лишь сказал: «Этот молодец, должно быть, растолстел при таких условиях». Не требовалось переспрашивать — Ашинас приказал заполнить яму водой, чтобы Ахмед утонул. Но вода ушла через песчаную почву, и Ахмеда передали палачу
{466}.
Более семидесяти офицеров были убиты различными изощренными способами
{467}. Безжалостность и жестокость производили огромное впечатление на заключенных — но ясно также, что о судьбе пленных широко оповещали, и рассказы об их страданиях дошли до нас из множества источников. Намерения были ясны — наказать виновных или подозреваемых в заговоре, а также распространить ужас в среде тех, кто мог представлять собой опасность для режима. Вероятно, здесь крылась неуверенность почти на грани паранойи — как халифа, чей приход к власти был как минимум сомнительным, так и маленькой группы солдат и чиновников, которые удачно заняли ключевые посты в исламском государстве.
Оставался одни человек, который был чужаком в этой тесно увязанной группе — Афшин, принц Ушрусана. Был ли он действительно вовлечен в заговор против халифа или же, что кажется более вероятным, просто оказался окружен врагами, мы уже никогда не узнаем. Халифу докладывали, что Афшин собирается отравить его, или что он намерен сбежать в Ушрусан через земли хазар к северу от Кавказа, захватив мною денег, или что он состоял в изменнической переписке с Мазьяром, восставшим принцем Табаристана. Множество различных доносов в итоге родило подозрение халифа. Ясно одно — тюрки ненавидели Афшина, а он относился к ним с презрением, как аристократ к бывшим рабам. И, что сделало его положение еще хуже, он поссорился с Тахиридами, которые могли бы стать для него естественными союзниками, так как они подозревали его, справедливо или нет, в посягательствах на должность наместника Хорасана.
Поэтому, несмотря на все его выдающиеся способности полководца, Афшин оказался под судом. Некоторые детали этих драматических событий сообщает нам Табари, также они изложены в ряде других источников
{468}. Враги Афшина задумали показать, что он предал халифа, более того, что он является вероотступником, человеком, отрекшимся от ислама. Естественно, наказанием за вероотступничество в то время (да и по сей день) должна была стать смерть.
Судебное заседание было закрытым и проходило во дворце Мутасима. Главным обвинителем был новый визирь Мухаммед ибн аль-Зенят, сын торговца маслом, он собрал целую вереницу свидетелей, чтобы доказать обвинение.
Первыми были вызваны два человека в отрепьях, которые открыли свои спины, чтобы показать, как их исполосовали.
— Ты знаешь этих людей? — спросили Афшина.
— Да, один муэдзин, а другой имам. Я отвесил каждому по тысяче ударов, потому что у меня имелось соглашение с местными правителями о том, что каждый житель будет иметь право отправлять обряды своей веры. Эти два человека захватили языческий храм, выбросили идолов и превратили его в мечеть. Поэтому я наказал их тысячей ударов.
Тогда Мухаммед выдвинул обвинение в язычестве.
— Это правда, — спросил он, — что у тебя есть книга, украшенная золотом с драгоценными камнями и покрытая атласом, которая содержит поношения Аллаха?
Афшнн объяснил, что это книга мудрости персов, которую он унаследовал от отца. Он брал из нее мудрые высказывания, а остальное игнорировал.
— В конце концов, — заключил он, адресуясь к Мухаммеду, — ведь и у тебя дома есть «Калила и Димна» [традиционные басни о животных, переведенные с персидского языка] и «Книга Маздака».
Следующим свидетелем был служитель культа. Он обвинил Афшина в том, что тот ест мясо нечистых животных — то есть животных, непригодных в пищу или убитых не по правилам. Он добавил, что Афшнн выражал презрение к мусульманским обычаям, никогда не удалял лобковые волосы и не совершил обрезания. Афшин был в ярости. Он знал, что этот служитель сам оставил свою старую религию и обратился в ислам, и потребовал ответа, можно ли такого человека серьезно считать свидетелем: «Разве есть дверь или секретное окошко между твоим домом и моим, через которое ты можешь подглядывать, что я делаю в уединении у себя дома?» Когда человек признался, что нет. Афшин сказал, что такому свидетелю нельзя верить ни в чем.
Следующим обвинителем был другой иранский аристократ. которого, по-видимому, предварительно хорошо проинструктировали. Он начал с очевидно безобидного вопроса: «Как люди обращаются к тебе при переписке?» Но Афшин понял, что здесь кроется ловушка, и ответил, что так же, как к его отцу и его деду до него. Когда его попросили объяснить, он отказался ответить. Его обвинитель продолжил, сказав, что формула, используемая в местном языке Ушрусана, в действительности означает «К богу богов», и что Афшин имеет такие же притязания, как и фараон. Объяснение Афшина, что это просто невинная традиция, которую он не хотел отменять, не возымело никакого действия.
Еще одним свидетелем стал Мазьяр, припц Табаристана, который теперь жил пленником в Самарре. Возможно, он надеялся, что его свидетельство против Афшина спасет ему жизнь — но если это так, он был жестоко разочарован. Мазьяр заявил, что Афшин вступил в предательскую переписку с ним, а также сравнивал солдат халифа с собаками и мухами. Афшин отверг обвинение и сказал, что любая переписка с Мазьяром немедленно завлекла бы его в ловушку, и он всегда понимал это.
Наконец ибн Аби Дувад, главный судья, вернулся к вопросу об отношении Афшина к исламу.
— Ты обрезанный? — спросил он.
Афшин ответил, что нет, тогда ибн Аби Дувад спросил, почему, так как обрезание «определяет завершение принятия мусульманства и очищение от нечистоты». На это Афшин сказал:
— Но разве в исламе нет места страху? Я боялся резать эту часть своего тела — вдруг я умру?
На обвинителя это не произвело впечатления:
— Ты можешь быть пронзен стрелами, можешь быть зарублен мечами, но это не останавливает тебя от драки в битве; и ты же говоришь, что беспокоишься по поводу отсечения крайней плоти?
Тогда Афшин вполне разумно ответил, что ранение в бою — это случайность, которую он может вынести, а обрезание — это рана, наносимая самому себе, которая может убить его. Кроме того, для него совсем не очевидно, что не быть обрезанным означает отречение от ислама.
Позднее, в тюрьме, ожидая казни, Афшин снова высказался по поводу обвинения, касающегося обрезания. Он сказал, что это была ловушка, устроенная ибн Аби Дувадом, чтобы оскорбить его публично. Его спросили, обрезан ли он: если отвечает — нет, он приговорен; если бы сказал — да, его попросили бы показать это всем и каждому в отдельности, чтобы это доказать. Он заключил: «Я скорее умру, чем выставлюсь напоказ перед всеми этими людишками»
{469}.
Афшин защищал себя со всей энергией и умом, он смог отвести большинство обвинений. Но суд был показательным, а на показательном суде существует лишь один приговор. Ибн Аби Дувад объявил, что дело доказано, и приказал тюрку Буге (Буйволу) схватить обвиняемого. Плащ Афшина накинули ему на голову и туго затянули на шее, затем его увели в тюрьму. Некоторые говорят, что полководца отравили, другие — что заморили голодом до смерти, но все видели, что его тело выставляли перед общественными воротами дворца перед тем, как сжечь и выбросить в Тигр
{470}.
Мутасим ненадолго пережил Афшина. Похоже, в октябре 841 года он заболел, но прожил до января 842 года, до 47 лет. За свою жизнь он добился очень многого. Он организовал и собрал боеспособную армию, которая распространила власть халифов до тех областей в Северном Иране, которых они никогда прежде не достигали, нанеся поражение старому врагу — Византии. Он создал новую столицу и административный центр, который продолжал расти после его смерти. Но основы империи Мутасима оказались весьма ненадежны. Большинство мусульманского населения, не говоря уже о немусульманском, стало подданными режима, с которым у них было мало общего — ив личном плане, и в ощущениях. Многие, вероятно, чувствовали себя глубоко отчужденными от клики генералов и чиновников, которые теперь владели
уммой.
Кое-что из этих настроений звучит в рассказе, судя по всему, относящемся к последним годам правления Мутасима, но явно к периоду после смерти Афшина
{471}. Как многие рассказы этого периода, он ярко отражает как черты домашней жизни монарха, так и политические моменты. Исхак ибн Ибрахим из рода Тахиридов, правитель Багдада, как-то был приглашен поиграть в поло с халифом. Когда он прибыл, то нашел Мутасима, одетого в щегольский шелковый камзол с золотым поясом и в красные сапоги. Халиф потребовал, чтобы Ибрахим оделся так же, на что тот неохотно согласился. Спустя некоторое время Мутасим понял, что тот играет без энтузиазма. Он сошел с коня, взял Ибрахима за руку, и они отправились в баню. Халиф попросил Ибрахима раздеться догола и сам сделал то же. Голые, они вошли в баню одни, без мальчиков-рабов, помогавших мыться, и халиф лично сделал массаж Исхаку, а Исхак вернул удовольствие халифу. Затем они вышли из бани и оделись. Халиф снова взял Исхака за руку, и они пошли в зал заседаний.
Когда они пришли, Мутасим приказал Исхаку принести молитвенный коврик и две подушки. Затем он попросил Исхака подойти и лечь возле него, однако Исхак отказался и остался сидеть. Появились Итах и Ашинас, им велели уйти за пределы слышимости нормальной речи, но так, чтобы они могли услышать крик.
Халиф был в меланхолическом настроении и явно погружен в себя:
— Я думаю о своем брате Мамуне. Он выдвинул себе на службу четырех человек, которые оказались прекрасными людьми, а я выдвинул четырех человек, и ни один из них не оказался подходящим.
Исхак, естественно, спросил, кого он имеет в виду, и Мутасим назвал Тахира, его сына Абд Аллаха, самого Исхака и еще одного Тахирида в качестве удачного выбора своего брата. Со своей стороны он назвал Афшина, который уже казнен, Ашинаса, который «трус с ничтожным сердцем», Итаха, который вообще ничего не стоит, и Васифа, который бесполезен.
Исхак попросил разрешения говорить прямо и сказал халифу, что его брат учитывал корни и опирался на роды и их ветви — в то время как Мутасим пользуется лишь ветвями, «которые не цветут, потому что у них нет корней». Оп имел в виду, что Тахириды Мамуна имели контакты и поддержку в более широком мусульманском сообществе; тюрки же Мутасима таковой не имели. Это было трезвое суждение, и халиф признал это, сказав, что ему необычайно трудно вынести этот ответ.
В январе 842 года осуществилось самое легкое наследование, которое когда-либо имело место в роду Аббасидов. У Мутасима уже был взрослый сын, Гарун, который принял титул Васик. Источники смутно представляют его точный возраст во время вступления на престол — говорят, он родился в 811/12 году, когда отцу было только 16 лет, по дороге в Мекку. Он был среднего сложения, красивым, со светлой кожей, которую, вероятно, унаследовал от матери, рабыни-гречанки. Один глаз принца был отмечен заметной белой крапинкой
{472}. Неясно, признавал ли его народ как однозначного наследника, но это не имело значения, потому что власть прочно оставалась в руках кабинета Мутасима, тюркских солдат Ашннаса, Птаха и Васи-фа, визиря ибн аль-Зейята и главного судьи ибн Аби Дувада. Именно они организовали наследование и энергично управляли правительством молодого халифа.
Из всех халифов того периода Васик, вероятно, оставил о себе меньше всего следов в исторических записках
[32] Похоже, за время своего краткого правления с 841 по 847 год он ни разу не покидал Самарры; в какой-то момент он высказывал намерение отправиться в хадж, но его отговорили, предъявив отчеты об отсутствии воды на маршруте. Он не разделял энтузиазма своего отца по поводу «священной войны», и его правление было отмечено крупномасштабным обменом пленных на византийской границе в 845 году, которое произвели по инициативе самого халифа
{473}.
Кроме того, в годы правления Васика произошла серия волнений среди бедуинов Аравии, которые угрожали святым городам и безопасности прохода паломников. На их подавление были посланы тюркские войска. В апреле 846 пода имела место также попытка восстания в Багдаде
{474}. Это был в основном народный протест против самаррского режима и частично против политики силой заставить людей признать официальную мутазилитскую доктрину о сотворении Корана
{475}. Люди должны были быть подняты одновременными ударами барабанов в различных районах города. Всем участникам заранее раздавались деньги. К несчастью для заговорщиков, одна из групп повстанцев употребила деньги на пропой и начала бить в барабаны на день раньше. На шум явилась полиция, и вся история вышла наружу.
Глава заговорщиков, Ахмед ибн Наср, набожный член старой багдадской семьи, был доставлен к халифу. Он был готов к мученичеству и поэтому отказался признать догмат о сотворении Корана. Халиф послал за кожаным матом и большим мечом, известным как Самсама, который принадлежал одному из героев раннего периода ислама. Он сам нанес первый удар, а тюрки-солдаты прикончили старика. Его тело выставляли в разных частях Багдада, прикрепив к уху записку, что это неверный, который настаивал на своих ошибочных взглядах и отказался раскаяться, когда халиф предоставил ему такой шанс.
Васнк внезапно умер от водянки в августе 847 года. Он спасался от страданий, забираясь в печь — это давало некоторое облегчение, пока халиф мог терпеть жар; однако ничего не делалось, чтобы вылечить саму болезнь. Похоже, что для установления наследования не было принято никаких мер, по страна все еще жестко находилась в руках группы, которая обеспечила возведение на престол самого Васика и доминировала в политике, проводимой его режимом. Ашинас уже умер своей смертью в декабре 844 года
{476}, но остальные — визирь ибн аль-Зейят, судья кбн Аби Дувад, тюрки Итах и Васиф — совместно с несколькими другими лицами собрались, чтобы решить, кто будет новым халифом. Сначала они хотели возвести на престол молодого сына умершего халифа, Мухаммеда, который был еще безбородым юнцом, но Васиф возразил, говоря, что тот еще слишком молод, чтобы возглавить правоверных и тем более стать халифом. Поэтому Мухаммеда отставили, и он стал халифом позже под именем Мухтади, на короткое и бурное время.
Затем были обсуждены кандидатуры еще нескольких принцев. Один из присутствовавших вспомнил, что, когда шел по дворцу, видел неофициально одетого принца Джафара, который сидел и разговаривал с какими-то тюрками. Джафар спросил, какие новости, и получил ответ, что совет еще обсуждает.
В результате Джафара вызвали на совет и сообщили ему, что теперь он является повелителем правоверных. Будучи весьма разумным человеком, Джафар страшно испугался, подумав, что это какой-то трюк, чтобы проверить его лояльность, а Васик еще жив. Только увидев тело халифа, завернутое в саван, он принял предложенную присягу. Ибн Аби Дувад возложил на его чело высокую
калансуву, обернул вокруг нее тюрбан и поцеловал нового халифа между глаз, произнеся: «Мир на тебя, о повелитель правоверных, милость Аллаха и благословение». Тело Васика обмыли, были произнесены похоронные молитвы, и его похоронили. Затем вся компания проводила нового халифа в дворцовый зал для встречи с народом.
Следующим шагом стал выбор ему имени. Ибн аль-Зейят предложил назвать нового халифа Мунтасиром, но по некоторым причинам это имя отвергли (хотя в следующем поколении его все же использовали). На следующий день ибн Аби Дувад предложил имя Мутаввакиль. Большинству оно понравилось, новый халиф согласился тоже. Ибн аль-Зенят, который возглавлял канцелярию, приказал, чтобы по стране разослали письма, представляющие нового халифа и его полный титул.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Повелитель правоверных, пусть даст ему Господь долгие годы, приказывает, храни вас Аллах, использовать его официальный титул в проповедях [то есть на церемонии молитв по пятницам] и
в его письмах судьям, секретарям, чиновникам и администраторам в правительственных органах и везде, с кем он регулярно переписывается, употребляя «Абд Аллах Джафар аль-Имам аль-Мутаввакиль аль-аллах, Амир аль-муминин» [Раб божий Джафар, глава молящихся, уповающий на Господа, повелитель правоверных]{477}.
Таким был официальный титул монарха: термин «халиф» является лишь его неофициальным сокращением. Затем были проведены выплаты военным, чтобы те отпраздновали воцарение. На этом удивительно неформальный процесс возведения в сан нового халифа оказался завершен. Нет упоминания о клятве верности ему более широкой мусульманской общины, какая сопровождала вступление на престол первых халифов Аббасидов — но, похоже, никто не возражал.
Говорят, новому халифу было двадцать шесть лет. Его описывают как худощавого мужчину с бледным лицом, живыми ясными глазами и тонкой бородкой
{478}. V нас есть его изображение того времени на маленьком медальоне, датированном 855 годом и находящемся в Музее истории искусств в Вене. На голове халифа не видно ни
калансувы, ни тюрбана, есть лишь что-то похожее на современную арабскую куфию — кусок ткани, закрепленный вокруг головы шнурком. У халифа большие усы и, в противоречии с приведенным выше свидетельством, пышная раздвоенная борода
{479}.
Если совет решил, что выбрал уступчивого молодого человека, который позволит ему управлять халифатом, как это делалось во время правления Васика, то его участники получили неприятный сюрприз. Возможно, у Мутаввакиля не было опыта политика, а вступление на престол, похоже, удивило его самого не меньше, чем других — но вскоре стало проявляться его намерение установить твердый контроль над халифатом. Сначала он выступил против визиря Мухаммеда ибн аль-Зейята, который служил и его отцу, и его брату. Мухаммед имел репутацию гордого и жестокого человека, придумавшего пыточный инструмент под названием «железная дева» — железный короб с шипами внутри, впивавшимися в человека, из которого хотели выколотить признание либо деньги. Когда Мухаммед потерял расположение халифа, то обнаружил, что у него нет друзей, на которых можно опереться.
История падения Мухаммеда ибн аль-Зейята — что-то вроде назидательной сказки, полной интересных деталей. Враждебность к нему нового халифа, судя по всему, началась еще со времен правления Васика. По каким-то причинам, о которых нам не известно, Мутаввакиль (точнее, еще Джафар) навлек на себя гнев брата — вероятно, Васик считал, что тот метит на престол, хотя этому нет никаких свидетельств. Джафар решил посетить ибн аль-Зейята, чтобы попросить его ходатайствовать о примирении перед халифом. Он нашел визиря работающим над корреспонденцией. Принц стоял в ожидании какое-то время, но ибн аль-Зейят продолжал работать и даже не поприветствовал гостя. В конце концов Джафар приблизился, чтобы сесть, но визирь продолжал возиться с бумагами, пока не закончил. Только тогда он повернулся к Джафару и нелюбезно спросил, чего тот хочет. Молодой принц объяснил, но визирь просто отвернулся к другим людям в комнате и произнес: «Гляньте-ка на этого молодца! Он разозлил своего брата и хочет, чтобы я делал что-то по этому поводу! — затем повернулся к Джафару и сказал: — Иди прочь, и если будешь вести себя хорошо, вернешь себе милость».
После такого печального опыта Джафар пошел навестить другого чиновника, человека по имени Омар, выходца из Руххаджа в Афганистане, но работавшего теперь в Самарре. Он нашел Омара в мечети и попросил его поставить печать на его чеке (
сикк)
[33], по которому надо было получить содержание из казны. Омар отказал в его просьбе и вышвырнул чек во двор мечети.
То был плохой день для Джафара. К счастью, уже уходя, он наткнулся на другого служащего и пожаловался ему на то, как Омар обошелся с ним. Этот человек оказался гораздо более осторожным и предложил Джафару 20 000 дирхемов, чтобы перебиться, пока все уладится. Предложение было с благодарностью принято.
Его следующим объектом стал судья Ахмед ибн Аби Дувад. Тут оказанный прием был совсем иным. Ахмед вышел приветствовать принца в дверях своего дома, поцеловал его и вел себя необычайно дружелюбно. Когда Джафар объяснил, чего хочет, Ахмед согласился помочь, хотя прошло какое-то время, прежде чем Васик изменил свое мнение.
Как выяснилось позже, ибн аль-Зейят оказался еще более подлым, чем мог вообразить Джафар. Когда он ушел, визирь написал халифу, пожаловавшись, что Джафар приходил к нему одетый, как дамский угодник
{480}, а его волосы на затылке слишком длинные. Позднее Мутаввакиль рассказывал, как его вызвали к брату, и он пришел в новой черной придворной одежде, надеясь произвести хорошее впечатление. Вместо этого его схватили за волосы, обкромсали их и швырнули обрезки прямо в лицо. «Ничто, — признавался он позднее, — не расстроило меня больше, чем налипшие на мой новый черный халат срезанные пряди. Я одевался так тщательно, надеясь порадовать брата — а он настриг мне на одежду волос».
Теперь же положение полностью переменилось. Ровно через шесть недель после избрания Мутаввакиль решил взять реванш. Итах получил распоряжение вызвать ибн аль-Зейята. Решив, что его приглашают на аудиенцию у владыки, визирь согласился, но по пути они завернули в дом Итаха. Здесь визиря захлестнул страх; и его опасения подтвердились, когда у него были отобраны меч, пояс,
калансува и халат визиря. Оставшимся снаружи слугам заплатили и велели им уходить, что они и сделали — причем у них сложилось впечатление, что их хозяин остается у Итаха пить вино.
В то же самое время в дом ибн аль-Зенята были посланы люди, чтобы конфисковать все его имущество. Они были удивлены потрепанностью и бедностью обстановки. «Я нашел четыре ковра и несколько кувшинов, полных вина, — доложил потом один из них, — а в комнате, где спали его девушки-рабыни, на полу лежали потрепанные тюфяки с подушками, но не было даже одеял».
Все состояние визиря, верховые животные, рабыни и
гулямы были забраны в казну, а затем специальные люди направились в Багдад конфисковать его тамошнее имущество. Ибн аль-Зейяту было велено назначить агента для продажи всего, что у него есть.
Падший визирь был чрезвычайно подавлен, что вполне понятно. Через несколько дней его заковали в кандалы. Он отказывался есть и пить и постоянно рыдал, жалуясь на судьбу и вспоминая, каким счастливым и богатым он был до того, как стал визирем. Его также лишали сна, укалывая каждый раз огромной спицей, когда он засыпал. Согласно рассказу, часто используемому более поздними авторами в качестве назидательной притчи
{481}, ибн аль-Зейята посадили в его же железную деву. Сначала ему позволили садиться на деревянную доску, что позволяло ему немного отдохнуть, но когда приходил тюремщик, и он слышал звук открывающейся двери, он обязан был вставать.
Его муки изложены в рассказе тюремщике подробно и даже с некоторым злорадством:
Однажды я обманул его, позволил ему решить, что запер дверь, а сам этого не сделал. Я лишь прикрыл ее на задвижку и подождал немного. Потом я внезапно распахнул дверь и, видя, что он сидит, заорал: «Вижу, что ты делаешь!» Затем я натянул давящую его веревку и вытащил доску, так что он больше не мог сидеть. Всего через несколько дней после этого он умер{482}.
Труп бывшего визиря, все еще в грязной рубахе, которая была на нем в тюрьме, вынесли наружу, причем его сыновья благоразумно заявили, как рады они избавиться от «этого разбойника». Его торопливо зарыли в неглубокую могилу, и говоря! что собаки тут же раскопали и съели его плоть.
Омар ибн Фарадж, человек, который с таким презрением отнесся к просьбе будущего халифа о деньгах, также оказался в беде. Его одели в шерстяной халат и заковали в кандалы, а все его деньги и поместья конфисковали. Он явно жил более богато, чем иби аль-Зейят — из его домов мебель и одеяла вывозились на верблюдах. В конце концов его отпустили, заставив уплатить громадный штраф, но позволив сохранить некоторые поместья в районе Ахваза
{483}.
Читая источники, легко заключить, что Мутаввакилем руководило единственное желание получить реванш за оскорбления, которые он перенес, будучи принцем. Мы не можем игнорировать явные мотивы личной озлобленности, однако действия халифа были частью более широкой стратегии. Он решил покончить с советом, который доминировал в политике при правлении его отца и брата. Вероятно, новый халиф желал восстановить связи с более широкой мусульманской общественностью. Он отверг доктрину мутазилитов — догмат о сотворении Корана, — которая встретила такое сопротивление в Багдаде и других местах. Похоже, он хотел также разрушить монополию тюрков в высших кругах военного руководства и создать опору на более широкие армейские силы. Но старая гвардия не сдавалась так легко, и халиф чувствовал, что должен действовать обманом и жестокостью.
Следующим павшим членом совета стал Итах. Этот человек из поваров поднялся до одного из столпов режима; именно он задержал младших братьев сына Мамуна Аббаса и посадил их в подземелья своего дворца. Мутаввакиль сначала использовал его для ареста ибн аль-Зейята, но понимал, что Итаха тоже требуется убрать, если он хочет провести те политические перемены, которые задумал. Однако Итах был могущественным человеком и обладал сильной поддержкой в среде военных, поэтому дело предстояло нелегкое.
Халиф не мог рисковать, арестовав его в Самарре, где тюркские солдаты кинулись бы его освобождать. Итаха требовалось завлечь в Багдад, где у него не было друзей. Летом 849 года Итаха уговорили испросить разрешение на паломничество. Конечно, ему разрешили, и халиф даже проявил свое расположение, назначив его правителем каждого города вдоль маршрута.
По возвращении Итах намеревался напрямую вернуться в Самарру, обойдя Багдад с запада, но его встретил правитель города, Исхак ибн Ибрахим из Тахиридов. Исхак привез ему записку от халифа. Он должен был заехать в город и нанести визиты членам семей Аббасидов и Алидов, а также другим знатным гражданам Багдада во Дворце Хузеймы. Отказаться было невозможно.
Дворец Хузеймы принадлежал одному из ведущих военачальников раннего периода Аббасидов, но к этому времени им уже владело правительство. Дворец занимал ключевую позицию, находясь на восточном берегу Тигра как раз в конце главного наплавного моста через реку. Правителя Багдада Исхака хорошо знали и любили в городе, но отношения между персидскими аристократами Тахиридами и бывшими тюркскими рабами были в лучшем случае прохладными.
Вступив в город с запада, Итах был роскошно одет в халат с белыми рукавами, перепоясанный поясом с мечом, его сопровождали триста
гулямов, которые, без сомнения, были абсолютно преданы ему. Поэтому требовалось отделить их от Итаха. Исхак пересек мост первым и пригласил гостя во дворец. Тем временем стража на мосту направила следовавших за ним гулямов таким образом, чтобы они растянулись, и когда Итах вошел во дворец, его сопровождали только трое или четверо ближайших пажей. Ступени, которые вели от дворца к реке, были разрушены на случай, если последует атака с этого направления. Затем Исхак приказал закрыть все двери.
Когда Итах оглянулся, он мгновенно понял, что оказался в ловушке, и воскликнул: «Они все-таки сделали это!» На этот раз не было никакого суда. Два дня пленник оставался во Дворце Хузеймы, где с ним обращались очень хорошо. Затем Исхак послал за ним лодку, которая под эскортом доставила Итаха во Дворец Тахиридов. У него отобрали меч, а когда пленник оказался у дворца, его связали и заковали в кандалы, надев железо и на шею, и на ноги. В заключении также оказались два его сына и его секретари — мусульманин, который следил за интересами Итаха в правительстве, и христианин, который наблюдал за его личными поместьями. Христианин понял, что благоразумнее будет перейти в ислам.
Офицер, который конвоировал Итаха, сообщает, что главной заботой был не он сам, а его сыновья. Итах знал тяжелые времена прежде, они же воспитывались в роскоши и не умели переносить лишения. Исхаку отправили донесение, и он приказал, чтобы молодым выдавали семь хлебов и пять ковшей воды каждый день.
Свергнутый военачальник оставался в заключении до самой своей смерти 21 декабря 849 года. Нс вполне ясно, как он умер: его гнуло огромное количество железных цепей (весом 80
ратлов или около 40 килограммов), и это само по себе могло убить пленника — но говорят, что он умер от жажды. С циничностью, которая множество раз повторялась в следующие два десятилетия, Исхак вызвал судей Багдада и главу почтовой службы для осмотра трупа, чтобы они засвидетельствовали, что заключенного не избивали и на теле нет никаких следов. Сыновья Итаха дожили до смерти Мутаввакиля, когда их выпустили — один умер через три месяца, а другой уединенно дожил до старости.
Низвержение Итаха и упорное утверждение, что на его зеле не было обнаружено следов насилия, показывает новое направление в уголовном наказании. В ранний период Аббасидов смертный приговор обычно исполнялся через обезглавливание, иногда через отсечение рук и ног. Нс существовало топора и колоды, на которую жертва укладывала голову. Вместо этого осужденный (нет записей того периода об обезглавливании женщин) должен был наклониться, стоя на ногах или на коленях, и удар наносился по затылку мечом. Обычным эвфемизмом для казни было выражение «его ударили по шее». Голову казненного забирали и часто выставляли на публику. Однако среди тюрков пролитие крови считалось глубоко позорным делом. Казнимых высокого статуса убивали через удушение или им ломали шею. Когда в 1258 году монголы закатали последнего халифа Аббасида в ковер и до смерти затоптали конями, это было уважением к его высокому статусу — хотя неясно, как такое уважение оценила сама жертва. Может быть, именно потому, что Итах был тюрком высокого социального статуса, он был убит без членовредительства.
Устранение ибн аль-Зейята и Итаха переломило спину старой гвардии. Ахмед ибн Аби Дувад, главный судья, оставался на посту до 851 гада. Кажется, в это время у него случился удар, и он не смог больше выполнять свои обязанности. Его сын, который сделал карьеру юриста по стопам отца, был уволен, а все семейные поместья — конфискованы
{484}. Ибн Аби Дувад дожил до 854 года
{485}, когда одновременно умерли и он, и его сын — по-видимому, от естественных причин.
Смена должностных лиц сопровождалась крупными переменами в политике. Со времен Мамуна правительство поддерживало доктрину мутазилитов о том, что Коран создан, а не существовал всегда. Это работало также на восстановление дружеских отношений с семьей Али, с которой обращались благосклонно и уважительно. Оборотной стороной было пренебрежительное отношение к памяти первых трех «праведных» халифов — Абу Бекра, Омара и Османа, поскольку сторонники семьи Али считали, что те узурпировали права Али на трон. Теперь эту политику изменили.
Хотя слишком легко говорить о суннитах и шиитах как об отдельных сектах, можно считать, что халиф перешел от про-шиитской политики к просуннитской. Это было абсолютно открыто продемонстрировано при разрушении гробницы Хусейна в Карбале. Гробница Хусейна, замученного внука Мухаммеда, стала центром поклонения почти сразу же после его убийства. До настоящего дня она остается центром поклонения и религиозного энтузиазма шиитов.
В 851 году Мутаввакиль приказал, чтобы гробницу Хусейна вместе с резиденциями и дворцами, которые ее окружали, снесли. Землю, на которой все это стояло, планировалось распахать и засеять; было объявлено, что каждый, кто окажется в этом месте через три дня, будет отправлен в тюрьму. Местные жители бежали, а могила оказалась разорена
{486}. Однако гробница была разрушена, но не забыта. Путешественник середины десятого века нашел ее по большому куполу, она по-прежнему оставалась центром паломничества. Более поздние писатели сообщали, что снос построек Мутаввакиля в Самарре явился наказанием ему за разорение гробницы
{487}.
Совместно с мерами против приверженцев дома Али принимались меры против
дхиммы — «защищенных люден», то есть христиан и евреев. Они не подвергались активному гонению или насильственному обращению в ислам, но лишь публичным издевательствам. В 850 году халиф издал указ, имевший целью усилить дискриминацию иноверных в одежде. Все это весьма напоминало «Нюрнбергские законы» нацистской Германии в наше время. Люди, принадлежащие к
дхимме, обязаны были носить на своей одежде желтое. Высший класс
дхиммы должен был носить желтые капюшоны, простые ремни и ездить верхом с деревянными стременами и двумя задними луками у седла. Их рабы обязаны были носить спереди и сзади желтые нашивки шириной не менее четырех пальцев, то есть 8 сантиметров. Люди
дхиммы, которые носили тюрбаны, должны были носить только желтые; их женщины тоже носили желтое.
Халиф также распорядился, чтобы все места богослужения иных религий были конфискованы и превращены в мечети, если они были достаточно велики, или разрушены, если малы
{488}. Конечно, христиане и евреи страдали от дискриминации и раньше, но нерегулярно и местами. Христиан в районах вдоль византийской границы часто запугивали, поскольку мусульманские власти боялись, что они могут войти в союз с византийцами. Но декрет Мутаввакиля стал первым, когда халиф принял такие меры против
дхиммы, где бы ее представители ни находились и чем бы они ни занимались.
Халиф апеллировал к тому же подавляющему большинству, к которому обращался при отказе от теологии мутазилизов и при покушении на гробницу Хусейна — к мусульманским традиционалистам, которых было в Багдаде больше всего. Вероятно, он чувствовал, что демонстрация превосходства над
дхиммой сможет уравновесить отдаление масс от реальной политической власти.
Мутаввакиль тщательно контролировал массы и ничего не выпускал из своих рук. Если прото-шииты благоговели перед Хусейном, то прото-сунниты Багдада стали чтить Ахмеда ибн Насра, который возглавлял неудавшееся восстание против Васика и был казнен лично халифом. Его тело отказались захоронить и выставили на публичное обозрение в Самарре, а голову отвезли в Багдад. Это стало постоянным напоминанием его последователям об их унижении. Мутаввакиль дал разрешение захоронить тело, но власти испугались размаха народного энтузиазма и вынуждены были послать огражу для разгона толпы: многих арестовали и выпороли. Тело передали племяннику убитого, который привез его в Багдад и соединил с головой. Когда похоронные дроги везли его по улицам, стекались толпы, чтобы притронуться к повозке, а позднее гладили место, где лежала голова мятежника. Халиф издал указ, запрещающий людям собираться у могилы: возникал суннитский святой, и правительство сильно волновали такие массовые демонстрации народных чувств
{489}.
В это время один из застройщиков в Багдаде, владевший в городе несколькими караван-сараями, попал в беду. Его обвинили в поношении друзей Пророка и первых трех халифов. Пока режимы Мамуна, Мутасима и Васика признавали мутазилизм, такое вполне принималось и даже поощрялось. Теперь же это ввергло несчастного в беду. Халиф, который явно проявлял личный интерес к подобным делам, написал правителю Багдада Мухаммеду ибн Абд Аллаху, требуя, чтобы несчастного запороли до смерти и не отдавали тело родственникам, а сбросили в Тигр
{490}.
Другой серьезной заботой халифа был выбор места жительства. Разделавшись с министрами Мутасима и идеологией мута-зилитов, он, вероятно, решил, что Самарра слишком переполнена осколками старого режима, чтобы туг было уютно. Видимо, как и Мамуна в последние годы правления, Мутаввакиля привлекала идея жить в Дамаске. Весной 858 года он приехал в город и объявил о своем намерении основать тут резиденцию и перевести туда все правительственные учреждения
{491}. Это означало драматический разрыв с традициями Аббасидов — все-таки Дамаск был столицей ненавистных Омейядов, и сирийские арабы испытывали традиционную вражду к Аббасидам. Вот как эта ситуация отразилась в одном коротеньком стихотворении:
Уже злорадствует Сирия над Ираком —
Уехать халиф, похоже, решение примет:
Но если страну бросаешь ты, как собаку.
Учти, красота хрупка и от развода гибнет.
Но гораздо сильнее, чем такие стихи, халифа беспокоило открытое сопротивление тюркских войск, которые располагались в Самарре. Тюрки-военные правильно понимали его действия как шаг к подрыву их монополии на военную элиту и были решительно настроены не допустить подобного. В конце концов они одолели: через пару месяцев халифу пришлось смириться с их требованиями и вернуться в Ирак.
Но это не погасило желания Мутаввакиля выстроить новую столицу. Он выбрал место севернее Самарры на восточном берегу Тигра. Тут он получил и безопасность, и места для награждения своих сторонников ценными участками земли. Деревни вокруг были принудительно скуплены, а их жители изгнаны. Следующим шагом было проведение воды к этой каменистой равнине над Тигром. Началось осуществление огромного проекта по строительству канала; как говорят, было нанято двенадцать тысяч рабочих. Все это стоило неимоверного количества денег. Как и на других строительных площадках Аббасидов, тут не было пужды в труде рабов — на работы нанимались свободные жители страны, и им платили достаточно, чтобы не было отбоя от желающих. В свете недавнего указа халифа весьма интересно, что человек, руководивший этим крупным проектом, был христиан ином
{492}.
Новый город Мутаввакиля должен был стать гораздо большим, чем просто пригород Самарры. Хотя район строительства соединялся со старым городом почти непрерывной линией зданий, халиф хотел, чтобы он стал новой, отдельной столицей — с собственной мечетью и, само собой, с собственным дворцом, названным в честь халифа Джафария. Даже для монарха с ресурсами Мутаввакиля потребовалось немалое время, чтобы закончить строительство зданий для правительства, и въехать в столицу он смог лишь 25 февраля 860 года
{493}.
Однако новый правительственный район, тоже получивший название Мутаввакилия в его честь, так никогда и не превратился в жизнеспособный город — огромное незаконченное строительство было покинуто сразу же после смерти халифа. Руины Мутаввакилии все еще устилают каменистое плато над Тигром. Здесь мы можем рассмотреть ров для канала, который должен был подводить воду к новому городу, но так никогда и не наполнился чем-то большим, чем тоненькая струйка. То, что халиф планировал как свои новый Багдад, стало его мавзолеем, и рассыпающиеся стены дворца из глиняного кирпича остаются на опаленном месопотамским солнцем пейзаже немым памятником непомерных амбиций: «Взгляни на мое творение, ты, могущественный, и упади духом».
Глава IX
КУЛЬТУРА ПРИ ДВОРЕ АББАСИДОВ
Когда халиф Мамун вернулся в Багдад, город его предков, после неудачной попытки править из далекого Мерва, он столкнулся с необходимостью перестройки старого двора Аббасидов, Ему требовалось найти новых людей, чтобы создать новое культурное окружение и новый стиль при дворе, увязав все это вместе.
Основанная на арабской поэзии придворная культура раннего периода Аббасидов смогла создать лишь одно направление, и не более того. Новый халиф собрал вокруг себя новую группу придворных. Очень немногие из них имели связи с дворами Мансура, Махди и Гаруна. Некоторые, вероятно, вообще никогда прежде не бывали в Багдаде. Большинство из них даже не были арабами по происхождению и не делали попыток породниться с племенами старой Аравии; наоборот, они предпочитали хвастаться происхождением от персидской аристократии доисламского периода. Культура бедуинской поэзии находила в них мало отклика. Социально они происходили из средних иракских слоев или из военной и чиновничьей элиты северного и восточного Ирана.
Хотя во многом различия были
кардинальными, члены этого нового двора все же имели со своими предшественниками две общие черты. Во-первых, все они были мусульманами — одни более набожными, другие менее, но никто из них не пытался восстановить старую веру персов. Во-вторых, они все принимали арабский как язык высокой культуры. Самая ранняя новоперсидская литература на языке, близком к языку современного Ирана, появилась именно в этот период — но создавалась она в Хорасане, на северо-востоке Ирана, а не при дворе в Багдаде. Некоторые придворные, включая самого халифа Мутадида, знали греческий, но греческая наука стала частью культуры двора Аббасидов лишь тогда, когда ее произведения были переведены на арабский язык.
Во многом эта новая правящая группа должна была чувствовать себя очень неуверенно, так как ничего не могла выставить в поддержку только что приобретенного ею влияния. Исходный режим Аббасидов, который пришел к власти в 750 году, мог заявить, что восстанавливает законы дома Пророка, связывая этим воедино мусульманское сообщество. Новая элита могла только поносить память свергнутого и убитого халифа Амина и его советников. Она сумела оставить для истории лишь то, что Мамун весьма резко реагировал на плохое отношение лично к себе — но одно это едва ли придавало легитимность захвату им власти.
Тогда, сознательно или нет, они стали покровительствовать развитию культуры двора, что определяло их принадлежность к элите,
хасса. Это показывало их утонченность и искушенность: единые культурные ценности демонстрировали единство нового правящего класса. Ведущие фигуры гражданской администрации халифата этого периода — визирь ибн аль-Зейят, главный судья ибн Аби Дувад, друг Мутаввакиля Фас ибн Хакан и правитель Багдада Тахирид являлись основными покровителями литературы и науки: двор и культура были тесно увязаны друг с другом.
Это была особая культура: чтобы участвовать в ее проявлениях, нужны были и деньги, и образование. Не могло существовать особой группы без исключительных людей, и именно эта культура подразумевала отличие от других и превосходство элиты двора, бросая вызов ценностям мусульманского буржуазного общества, а в некоторых случаях даже открыто отвергая их. Несколько позднее она распространилась на Багдад и на другие районы.
Сами халифы являлись наиболее серьезными покровителями культуры. Тон в этот задал сам Мамун, и, безусловно, покровительство науке и работе переводчиков стало его личным выдающимся вкладом в культуру того периода. Без его вклада творческая активность тех лет имела бы совсем другой вид.
Его наследник Мутасим был известен как военный и создатель города Самарры, но он продолжал покровительствовать писателям и ученым, как и его брат. Васик, сын и наследник Мутасима, еще больше интересовавшийся интеллектуальными беседами. Масуди говорит, что он уважал творческий и научный поиск и тех, кто им занимался, и ненавидел слепо следовавших традициям. Масуди продолжает свой рассказ описанием ассамблеи, на которой ведущие философы и врачи, включая. Хунейна ибн Исхака, вели разговоры на темы медицины и астрономии
{494}.
Халиф Мутаввакиль не стал таким же образом поддерживать научные исследования. Как все правители его времени, он награждал поэтов за исполнение хвалебных песен в его честь и покровительствовал им для придания двору дополнительного культурного лоска — но похоже, что неприязненная реакция его предшественников на взгляды мутазилитов уничтожила интерес халифа к светским наукам и философии. Масуди, который писал веком позже, четко отразил эти изменения:
Когда халифат унаследовал Мутаввакиль, он приказал прекратить исследования, дискуссии и дебаты — все, чету
радовались люди в дни Мамуна. Мутасима и Васика. Он ввел приказом повиновение традициям и приятие их. Он приказал старшим учителям толковать традиции Пророка, учить сунну и исповедовать общепринятые взгляды.
У каждого из недолго живших халифов, занимавших трон после убийства Мутаввакиля в 861 году, не было достаточно времени, чтобы развивать интеллектуальные дисциплины — хотя, как говорят, халиф Мустаии тянулся к истории и повестям о прошлом
{495}. Только после воцарения Мутадида в 892 году двор Аббасидов снова стал притягательным местом для ученых. Среди прочих халиф поддерживал филологов ибн Дуранда на завершающей стадии его карьеры и Зайджаджа, одного из ведущих последователей Мубаррада, а также покровительствовал великому переводчику и математику Сабиту ибн Куре. Самым замечательным достижением Зайджаджа
{496} были комментарии к необычайно трудной книге грамматики. Когда их принесли халифу, они так его поразили, что он приказал скопировать их на особо ценной бумаге, а вариант мастера поместить в свою личную библиотеку, чтобы в тексте не было ошибок. Это показывает реальную заботу властителя о поддержании академических стандартов. За эту работу Зайджаджа зачислили в придворные и положили 300 динаров жалованья, а также назначили учителем детей халифа.
Кроме того, Мутадид опекал философию в лице Ахмеда ибн Абиль-Таниба ас-Сарахси, который был его учителем, а потом стал его доверенным лицом и товарищем. Ас-Сарахси был также назначен надзирателем над рывками Багдада и сколотил значительное состояние размером 150 000 динаров в деньгах и товарах. Сарахси был интеллектуалом (Масуди именует его философом) с весьма широкими интересами, учеником великого философа Кинди. Говорят, он перевел несколько работ Аристотеля (правда, с сокращениями), писал труды по математике, музыке, управлению, географии и искусству быть хорошим придворным. Но, являясь доверенным человеком халифа, он постоянно находился в опасности. Возможно, Ахмед ас-Сарахси навлек на себя гнев хозяина, разгласив какой-то государственный секрет. Он был казнен в 896 году — согласно еще одной легенде, визирь Касим ибн Убейд Аллах, знаменитый своими грязными делами при дворе Мутадида, вставил его имя в середину списка разбойников, приговоренных к смерти. Халиф подписал список не глядя и понял, что его старый учитель казнен, только после того, как дело уже свершилось
{497}.
В этот период научная жизнь в Багдаде была сосредоточена вокруг домов крупных меценатов. Нет свидетельств о существовании каких-либо учреждений, школ или исследовательских центров того или иного направления. Упоминаются лишь училища
(киттаб), дававшие только базисное образование — элементарное обучение чтению и письму по-арабски. Детям высших сословий нанимали частных учителей, которые занимались с ними дома. Значительное внимание уделялось институту
Байт аль-хикма («Дом мудрости»)
{498}. Предполагается, что это было заведение, похожее на академию, где делались переводы с греческого на арабский и проводились различные дискуссии; таким образом, оно являлось отдаленным подобием ранних университетов.
Историки часто любят наполнять прошлое роскошным содержанием, создавая образы выдающихся учителей и мудрецов, живущих в комфорте и окруженных уважением своего социального слоя. На деле же информации о «Доме мудрости» у нас очень мало. Судя по всему, это был институт, унаследованный от персидских Сасанидов и в первую очередь являвшийся библиотекой. Там хранились манускрипты Пехлеви (Средняя Персия), некоторые из них были переведены на арабский язык еще в начале правления Аббасидов. Существует несколько более поздних свидетельств, что при правлении Мамуна нанимались астрономы. Однако
Байт аль-хикма был весьма далек от настоящего университета, а самые серьезные и оригинальные ученые того периода, похоже, не были связаны с ним.
Без институтов, которые предлагали оплату и статус, ученые в основном зависели от различных богатых и влиятельных покровителей, которые обеспечивали их средствами к существованию. Поэтому именно в салонах крупных багдадских семейств развивалась интеллектуальная жизнь. V нас есть интересная картина образа жизни, на который мог надеяться ученый — это биография Салаба.
Салаба поддерживал Мухаммед ибн Абд Аллах ибн Тахир, правитель Багдада. Салаб был учителем сына правителя Тахира и так описывает свое положение:
Он предоставил мне в своем дворце отдельное помещение и платил мне жалованье. Я находился с ребенком до четырех часов в день и уходил, когда приближалось время обеда. Его отцу сказали про это. поэтому он перестроил холл и арки двора, предоставил нам комнаты с веерами и стал разнообразить пищу. Но я все-таки уходил в то же самое время Когда правитель услышал об этом, он сказал слуге, который был к нам приставлен: «Я думал, он считает, что тут недостаток в пище, и поэтому место ему неприятно, поэтому мы улучшили обслуживание. Но мне по-прежнему докладывают, что он уходит, как только заканчивается работа. Спросите его: «Может быть, твой дом прохладнее нашего? А может, твоя пища лучше нашей? — и скажите ему от меня: — Твои уходы на время еды позорят нас».
Когда слуга передал мне все это, я стал оставаться. Я находился в такой ситуации тринадцать лет. Кроме того, каждый день он давал мне семь мер хлеба хушкар. одну меру хлеба самид, три килограмма мяса и фуража для животного [вероятно, это было эквивалентам служебного автомобиля]. Он также платил мне жалованье — 1000 дирхемов в месяц.
После года гражданской войны [конфликт 865 года между сторонниками Мустаина и Мутаза] муку и мясо стало трудно доставать, поэтому распорядитель по кухне Мухаммеда написал ему о большом размере содержания многих слуг. Мухаммед приказал, чтобы нормы выдачи продовольствия слугам свели до минимально необходимого. Секретарь написал такое распоряжение, и оно коснулось 3600 человек. Мухаммед прочитал и дополнил список собственной рукой. Затем он отбросил бумагу и заявил, что не собирается никого урезать в том, к чему люди привыкли. «в особенности же тех. кто просит: «Дайте кусок хлеба!» Мы будем распределять пищу согласно списку и сохраним прежний уровень выдачи. Мы или выживем вместе, или умрем вместе»{499}.
За время своей работы Салаб смог скопить значительное состояние. Когда в 904 году он умер, то, как говорят, оставил дочери 21 000 дирхемов, 2000 динаров и несколько магазинчиков у Сирийских ворот в Багдаде общей стоимостью 3000 динаров
{500}. В действительности его учебная работа оплачивалась настолько хорошо, что он смог стать довольно крупным владельцем собственности в городе.
Рассказ Салаба дает нам яркую картину жизни в большом аристократическом доме того времени и показывает, на что мог надеяться интеллектуал того периода. Однако нужно помнить, что Салаб был литературным критиком — что, вероятно, а то время, как и сейчас, являлось более модной и доходной формой культурной деятельности, чем, скажем, занятие математикой или астрономией.
Покровители могли поддерживать писателей, предлагая им посты в правительстве. Один пример такой ситуации — судьба филолога и критика ибн Дурайда
{501} (837–933), человека с гораздо более раздражительным темпераментом, чем осторожный Салаб. Он родился в Басре, но вынужден был покинуть город после того, как тот разграбили восставшие зинджи. Ибн Дурайд нашел убежище в Омане, а затем переехал в Фарс. Тут он поступил на службу к местному правителю, Шах ибн Микалу, и его сыновьям.
Бану Микал была аристократической персидской семьей, в конце девятого века очень влиятельной в военных и политических кругах. Ибн Дурайд стал для них чем-то вроде главного секретаря: все правительственные письма просматривались и подписывались им. В то же время он писал поздравительные стихотворения, восхваляющие патронов, а параллельно создавал научный труд «Джамхара» о структуре языка. Ему, видимо, очень хорошо платили за это — но из-за широты своей души он, в отличие от Салаба, не смог скопить крупной суммы денег. Когда семья Бану Микал в 920 гаду лишилась своего положения в Фарсе, ибн Дурайд переехал в Багдад, где халиф Муктадир, прослышав о его талантах, назначил ему пожизненную пенсию в размере 50 динаров в месяц. Именно там выдающийся арабский литературовед сочинил большинство своих произведений. У него была удивительная память, даже по стандартам того времени, старую арабскую поэзию пустынь, и его научная работа отразила этот факт. Но некоторые критики говорят, что он просто занимался компиляцией более ранних трудов, и когда его спрашивали, кто написал то или иное произведение, он просто называл первое пришедшее в голову имя. Ибн Дурайд имел весьма широкий спектр интересов, включая философию, этимологию, науку о лошадях, седлах и уздечках, а также изучал оружие, смысл неясных слоя в Коране и «арабские приветствия для посещения друзей».
Всегда щедрый до расточительности, он часто оставался без гроша и был широко известен своей любовью к вину. «Когда мы пришли навестить его, — рассказал один из его современников возмущенным тоном, — то были шокированы, увидев висящие на стене лютни, а в чашах — вино, не разбавленное водой». Ибн Дурайда упрекали за то, что он подал вино в качестве милостыни нищему, он же совершенно не раскаивался в этом, заявлял, что у него ничего больше не было.
Жизнь его протекала не без опасностей; когда он работал в Фарсе, то однажды ночью упал с крыши собственного дома и сломал ключицу — вероятно из-за того, что был пьян, хотя сам так и не признался в этом. Впрочем, эта история не так уж странна, как может показаться: многие люди спали на плоских крышах своих домов в жаркие летние ночи. Пока ибн Дуранд лежал, терзаясь болью и пытаясь уснуть, его посетил ночной кошмар, классический для литературного критика — в этом кошмаре он декламировал два стихотворения хвалы вину. Когда же видение завершилось, появился сатана и спросил его, не пытается ли он писать лучше, чем великий Абу Нувас. После того, как ибн Дурайд признался, что да, пытается, сатана сказал ему, что его стихи не так уж плохи, но он допускает одну ошибку, сначала говоря, что вино желтое, как нарцисс, а потом — что оно красное, как анемон, и это в одно и то же время. В итоге поэт в ужасе проснулся, ошарашенный этой потусторонней критикой.
Несмотря на такие встряски, он дожил до весьма преклонных лет и даже в свои девяносто, пережив один удар, оставался источником мудрости во всех аспектах философии, пусть даже и жалуясь:
О, я несчастный человек! Жизнь в радости не для меня!
Нет у меня работ высоких, чтоб ими угодил я богу.
Кажется, некоторые ученые все же исхитрялись обходиться совсем без покровителя и выживали учительством. Одним из таких был ибн Аби Тахир Тейфур (умер в 893 году), автор «Истории Багдада», из которой, к сожалению, сохранился только один том
{502}. Он происходил из семьи хорасанских сторонников Аббасидов, которая осела в Багдаде, где и родился ученый. Сначала он зарабатывал на жизнь, работая учителем в государственной начальной школе, но позднее стал брать частных учеников на книжном рынке на восточном берегу Тигра. Его обвиняли в неточностях и пренебрежении грамматикой, и может быть, поэтому он так никогда и не привлек внимания богатого спонсора. Он был неиссякаемым источником реальных и фантастических историй о поэтах и певцах своего времени, а также собирателем и пересказчиком всевозможных придворных сплетен, хотя сам и не входил в круг придворных. Живи он в Британии конца двадцатого века, он работал бы на журнал «Хелло!», описывая жизнь богатых и знаменитых, а также сочиняя на ту же тему. Многие его сплетни двумя поколениями позже использовал Исфахани в своей великой «Книге Песен», в результате чего они дошли до нас.
Культурная активность элиты продолжалась в традиционных областях (в первую очередь в области религиозных познаний и поэзии), но девятый век дал в основном развитие медицины и точных наук, а также множество переводов с греческого языка на арабский. Именно этот широкий ряд светских наук составлял интеллектуальную жизнь данного периода с его характерными особенностями, и двор Аббасидов внес основной вклад в копилку знаний.
Несомненно, культура двора также оказала влияние и на то, что мы считаем более легковесными областями знания. Девятый век стал первым великим веком арабских книг по кулинарии. Интерес к пище и литература о пище считались важной частью придворной жизни. Выдающиеся придворные, такие, как Ибрахим ибн аль-Махди, поэт и бывший халиф, Али аль-Мунайджим, приближенный к Мамуну, и Сули, историк и придворный начала десятого века — все они писали кулинарные книги
{503}.
В отличие от средневекового Запада, где изысканная пища основывалась на большом количестве дичи и других сортов мяса, кухня двора Аббасидов предпочитала тушеные блюда, часто из смеси мяса, фруктов и овощей. Многие блюда имели древнее персидское происхождение — например, знаменитый
сикбадж, сладкое блюдо из цыпленка с луком-пореем, морковью, медом и винным уксусом.
Сладкие блюда вообще ценились очень высоко. Масуди описывает, как мало проживший халиф Мустакфи (годы правления 944–946) устраивал вечеринку, на которую были приглашены придворные, чтобы декламировать стихи с описанием самых знаменитых рецептов века. На фоне надвигающейся трагедии (несчастный халиф был вскоре свергнут и ослеплен) присутствующие лирически воспевали великолепие различных блюд и утонченность ситуации. То было последнее эхо сияющих дней халифата.
В религиозной сфере эта культура проявила себя принятием мутазилизма в качестве официально одобренной версии ислама. Мутазилиты считали, что Коран был создан самим Аллахом в определенный момент времени. Это противоречило развивающемуся учению суннитов, считавших, что священная книга существовала с самого начала времен, хотя и была открыта людям лишь в определенный исторический момент — то есть во время пророка Мухаммеда.
Как и множество теологических разногласий в христианстве, различия в подобных материях могут показаться постороннему наблюдателю тривиальными либо незначительными, даже невразумительными — но для мусульман начала девятого века они становились поводом для жарких дебатов, доходящих порой до диких выходок. Если Коран был создан, значит, человек может интерпретировать и даже, возможно, модифицировать его новыми открытиями или исследованиями, чтобы он стал удовлетворять изменившимся временам. Однако если он существует извечно, то является абсолютом и имеет универсальный статус, который никоим образом невозможно оспаривать. Это были положения, которые воздействовали прямо на сердце верующих мусульман.
Мутазилизм стал идеологией новой придворной партии. В некоторых вопросах он позволял использовать человеческий фактор, чтобы изобретать божественные таинства. Набожные люди и без того отвращение ко двору испытывали по многим причинам — а это было дополнительным признаком самонадеянного презрения новой элиты выскочек к традиционному исламу. Еще бы — чересчур умные люди под влиянием чуждой греческой философии думали и ставили вопросы о всевластии самого Аллаха!
Лидеров оппозиции следовало искать в Багдаде, среди членов старой
Абны, которая с приходом Мамуна потеряла свой статус, как военный, так и финансовый. Таким образом, возникли подмостки для интеллектуальной полемики, обретшей неистовую остроту из-за социальных различии.
Правительство выбрало веру в догму о сотворении Корана в качестве критерия лояльности. Для проверки правительственных чиновников и всех, кто хотел работать в государственных службах, была установлена инквизиционная форма, так называемая
мшена, которая должна была выяснить их взгляды на данную тему. Большинство благоразумно решило принять эту реальность — но некоторые предпочли выбрать тропу активного сопротивления. Имело место несколько судебных разбирательств и даже одно «мученичество» в среде противников новой официальной идеологии, но в текущий момент сторонников мутазилизма оказалось больше.
Впрочем, культурные интересы новой элиты распространялись широко за сферу теологических вопросов. В начале периода Аббасидов поэзия ценилась очень высоко. Панегирик все еще считался апогеем литературных достижений, а самыми изысканными воспринимались выражения из хвалебной поэзии Абу Там мама. Его продуманная ода, воспевающая завоевание Амориона армиями халифа Мутасима, была уникальным произведением по числу использования трудных для понимания сравнений и метафор. Даже в то время ей требовались разъяснения, и мы можем лишь догадываться, уловил ли сам грубый солдафон Мутасим многие ее аллюзии и идеи. Тонкости и неясности этой поэмы остаются бесконечным источником вдохновения для множества комментаторов, древних и современных. Вероятно, самым потрясающим ее аспектом является способ, благодаря которому этот панегирик обдуманно был сделан не общедоступным, дабы совершенно исключить его декламирование и цитирование в общественных местах, на рынках и в домах обычных жителей Самарры и Багдада. Это было яркое выражение манер самого верха интеллектуальной культуры того периода.
Куда более ценной для нас является масса светской литературы, отражающей почти все возможные темы. Большинство этих работ, по существу, относятся к жанру
адаб (что-то вроде эссе), в них излагаются истории, описываются традиции и анализируются трудные для понимания факты из области тех или иных дискуссионных вопросов. Определенное количество литературных произведений той эпохи неизбежно составляют экстравагантные и скандальные истории. Произведения некоего ибн аль-Шаха аль-Тахири, члена аристократической персидской семьи на службе у халифа, включали такие работы, как «Хвастовство расчески перед зеркалом», «Война хлеба с оливками», «Война мяса и рыбы», «Чудеса моря», «Прелюбодеяние и его радости», «Истории мальчиков-рабов», «Истории о женщинах», а также опус, названный просто «Мастурбация»
{504}. Судя по этим названиям, в основном писателя интересовали пища и секс. Печально, но ни одна из его столь занимательных книг не сохранилась для потомства.
Самым знаменитым из светских авторов развлекательной прозы был Джахиз. Как и многие одаренные авторы того периода, Джахиз вышел из среды ничем не примечательных обитателей огромного южного портового города Басра. Он родился примерно в 777 году и занимался самообразованием, слушая мастеров арабской литературы, преподававших в
мечетях и салонах его города. Когда Мамун перевел столицу обратно в Багдад, Джахиз, похоже, привлек его внимание как тайный сторонник Аббасидов в их притязаниях на трон и мутазилит, верящий в идеологию нового режима. На самом деле Джахиз был всего лишь политическим флюгером и наемным писакой. Вскоре, однако, он начал вырастать из этих рамок, показав себя мастером риторики и изящной, изобилующей анекдотами прозы — а высшее общество ценило такие произведения очень высоко. Выдающиеся люди режима были готовы тратить на него деньга в обмен на преданность. Когда Джахиз закончил свою книгу «Животные» — семитомный сборник притч о животных, представляющих собой аллегории на человеческое общество, — визирь ибн аль-Зейят передал ему 500 динаров от главного судьи, Ахмеда ибн Аби Дувада. После казни ибн аль-Зейята в 847 году Джахиз переместился в кружок Фаса ибн Хакана — эстета, который был самым близким другом Мутаввакиля и величайшим библиофилом своих дней. Сохранилось его письмо Джахизу, в котором он сообщает автору, что халифу нравится название книги, опровергающей христианство, над которой он работает в данный момент, и что он, Фас ибн Хакан, обеспечит писателю расположение к нему халифа. Джахиз как раз завершал свою работу, а Фас между тем добился, чтобы ему платили годовое пособие и вдобавок погасили все долги за счет казны.
После жестокого убийства Мутаввакиля и Фаса в 861 году и в связи с собственной растущей немощью Джахиз уехал доживать в родную Басру, где и умер в конце 868 года. Рассказывают, что его убила свалившаяся на него кипа собственных книг. Правдива ли история или просто является классическим анекдотом
ben trovato, но это вполне подходящий конец для такого человека.
Для прозы Джахиза было типично использование парадокса, радости от столкновения противоположных точек зрения в изящной, парадоксальной форме. Он написал одно эссе о превосходстве речи перед молчанием и другое, в котором доказывал обратное. Эссе о превосходстве черных людей над белыми ставит общепринятые представления с ног на голову. Он описывал споры между любителями девушек и любителями мальчиков, в которых открытые и веселые мужчины высказывают свою точку зрения, используя традиции Пророка, цитаты из древних поэтов и любые изысканные аргументы в попытке доказать превосходство предпочитаемой каждым формы сексуального общения. Это был как раз тот сорт язвительного
jeu d'esprit[34], которое вызывало гаев набожных людей, считавших, что содомия — грех, наказываемый смертью.
Парадокс стал чем-то вроде расхожего штампа среди литераторов при дворе того времени
{505}. Сахл ибн Гарун, персидский чиновник, возглавляющий Дом мудрости, написал эссе с похвалой скупости и осуждением щедрости. Поэт ибн ар-Руми был известен своей реальной или притворной нелюбовью к розам, в неистовой строке сравнивая розу с анусом испражняющегося осла. В других стихах он также восхвалял зависть, злобу и одиночество. Вероятно, в чем-то похожее желание противоречий можно увидеть в практике награждения прекрасных девушек-рабынь уродливыми именами, такими, как Кабиха или Шагаб (причем обе стали матерями халифов).
Одним из наиболее удивительных и впечатляющих обычаев придворного общества было стремление перевести на арабский язык древнегреческие научные и философские тексты. Интерес к греческому интеллектуальному наследию и покровительство переводчикам стало одной из модных форм культурной активности элиты — вероятно, еще более захватывающей из-за подозрений, которые она вызывала у более ограниченных традиционалистов. Именно этому аспекту культуры двора Аббасидов было суждено оказывать глубокое влияние на культуру более широкого исламского мира и даже латинской Европы в течение долгого времени уже после конца эпохи Аббасидов.
После великих завоеваний седьмого века под правление мусульман попали многие территории с греческим населением, среди которого были видные ораторы и писатели. До самого конца седьмого века греческий язык оставался языком администрации Сирии и Египта, поэтому греческая культура была хорошо известна в халифате. Существовало также множество греческих работ, которые были переведены в византийский период на древнесирийский — письменный вариант арамейского языка, который оставался ритуальным и литературным языком восточных христиан, то есть яковитской и несторианской церквей. Многие из этих работ теперь были переведены вновь, уже с древнесирийского на арабский.
Мусульман интересовали познания древних греков, из которых можно было извлечь пользу. В первую очередь полезные сведения содержались в работах по философии, особенно по логике, а также трудах из области медицины, математики, астрономии и сельского хозяйства. Арабы не переводили поэзию, историю или драматургию. Аристотель, Гиппократ, Гален, Эвклид, Птолемей и Диоскорид — вот кто был наиболее популярен у арабской читающей публики. В то же время Геродот, Фукидид, Еврипид и Сафо остались абсолютно неизвестными ей.
Перевод греческих текстов на арабский язык начался еще во времена Омейядов, спорадическая деятельность в этом направлении велась и при ранних Аббасидах. Салам аль-Абраш, уже встречавшийся нам среди придворных Гаруна, был одним из первых, еще редких в то время примеров таких переводчиков. Его вдохновляли личный энтузиазм и пример халифа Мамуна, который обратился к переводам, что постепенно стало модным у правящего класса.
Основными покровителями точных наук были члены семьи, известной под именем Бану Муса. Она состояла из трех братьев — Мухаммеда, Ахмеда и Хасана. Похоже, Бану Муса вышли из восточного Прана. Говорят, что Муса ибн Шакир первоначально был разбойником на торговых путях — но, как и многие заметные личности восточного Ирана, вошел в контакт с халифом Мамуном, когда тот жил в Мерве, в Хорасане, с 809 по 818 год. Когда Муса ибн Шакир умер, халиф стал опекуном его детей, которым дал хорошее образование в Багдаде.
Мы не знаем источника богатств этого семейства, но Бану Муса явно были чрезвычайно богаты. Похоже, они сколотили состояние на сборе налогов с сельского хозяйства или в какой-то другой сфере административной деятельности; в определенном смысле их покровительство культуре, вероятно, являлось чисто деловой операцией по отмыванию денег, то есть поиском способов легализации дурно приобретенных доходов. Мухаммед использовал свои математические способности, чтобы помогать правительству — и его, без сомнения, хорошо за это награждали. Он с коллегами вычислил для халифа Мутаввакиля точную дату Навруза, персидского праздника весеннего равноденствия. Это было очень важно, так как халиф хотел ввести новую финансовую систему, в которой новый финансовый год начинался бы в Навруз, поэтому было важно, чтобы существовала точная и признанная всеми дата
{506}.
Мухаммед также сделал политическую карьеру. Он стал видным сторонником халифа Мустаина и одним из тех, кто уговорил тюрков поддержать его в 862 году. Мустаин назначил его управлять казной — где, по-видимому, наш герой также использовал свои математические способности
{507}. Он находился в Багдаде, когда войска Мутаза осадили город, и в какой-то момент его даже посылали оценить численность вражеской армии (две тысячи солдат и тысяча верблюдов): так он воспользовался своим математическим даром в практических целях
{508}. Он также сыграл важную роль во время уговоров несчастного Мустаина заявить об отречении — поступок, который вскоре привел халифа к смерти
{509}.
Бану Муса сочетали политическую активность с глубоким интересом к практическим наукам. Как свидетельствует биограф тринадцатого века ибн Халликан, он лично читал одну из их книг по инженерии и нашел ее великолепной.
Их благородные амбиции простирались на освоение древних наук и книг по классической филологии, и они посвятили себя этим целям. Они засылали охотников за книгами в Византийскую империю. Они привлекали переводчиков из далеких земель и провинций, предлагая им щедрое жалованье. Они знакомили людей с чудесными достижениями науки.
Создание переводов, которые были бы и точными, и изысканными, требовало значительного опыта; людей, которые доказали, что способны это делать, щедро насаждали. Бану Муса, видные и компетентные покровители переводчиков научных текстов, готовы были ежемесячно платать 500 динаров жалованья работникам высшей квалификации — хотя непонятно, предназначалась ли эта сумма каждому в отдельности или же группе переводчиков, живших в их домах
{510}. Это было сопоставимо с жалованьем старших чиновников и несравненно больше, чем получал простой ремесленник или солдат.
В результате умные и амбициозные люди приезжали в Багдад, чтобы предложить свои услуги. Хунейн ибн Исхак (умер в 873 году), который был христианином из древнего христианско-арабского города Хира на юге Ирака, работал у семьи Бану Муса переводчиком. Говорят, он был мастером стиля и в греческом, и в древнесирийском, и в арабском языках. Он ездил в Византийскую империю на поиски манускриптов. В основном он переводил книги по медицине, особенно работы Галена и Гиппократа; но, как многие переводчики, он писал и оригинальные произведения. Биограф дает нам представление о жизни этого джентльмена-ученого:
Каждый день после езды верхом он ходил в баню, где его обливали водой. Затем он заворачивался в халат и, выпив чашу вина с печеньем, лежал, пока не кончал потеть. Иногда он засыпал. Потом поднимался, жег благовония, чтобы ароматизировать тело, потом ему приносили обед. Обед состоял из крупного откормленного цыпленка, тушеного в соусе, и полукилограммовой буханки хлеба. Выпив соус и съев цыпленка с хлебом, он засыпал. Проснувшись, он выпивал 4 ратла [примерно литр] старого вина. Если ему хотелось фруктов, он съедал несколько сирийских яблок и айву. Эта привычка сохранилась у него до конца жизни{511}.
Когда Хунейн ибн Исхак умудрялся среди такого милого времяпровождения находить время для работы, не очень ясно, — но наверняка он много трудился, потому что количество его работ огромно, а его репутация как ученого была очень высока.
Хунейн основал семейную традицию — школу перевода. Его сын Исхак (умер в 910 году) также имел репутацию опытного переводчика, ему покровительствовал сам великий визирь того времени Касим ибн Убейд Аллах. Кроме переводов он составил «Историю врачей», в контекст которой попытался вставить греческие авторитеты
{512}. Его племянник Хубеш помогал ему с переводами и комментариями.
Куста ибн Лука (Константин, сын Луки), умерший в 922 году, был греческим оратором из Баальбека (древний Гелиополис) в Ливане — города, где могущественные классические замки еще и сегодня господствуют над местностью. Он прибыл в Багдад с греческими манускриптами, которые, как он надеялся, заинтересуют покровителей в столице. Он написал ряд оригинальных книг, включая трактаты по медицине и кулинарии, исследование о сексуальных связях, работы по астрономии и по проблемам Эвклидовой геометрии
{513}. Никто не посмел бы обвинить его в узости интересов.
Третий из великих переводчиков, Сабит ибн Курра Сабианин, имел более необычное и экзотическое происхождение. Скорее всего, он родился в 826 году в Харране, ныне маленьком, грязном и почти опустевшем селении на юге Турции, у самой сирийской границы. Этот ничем больше не примечательный городок был известен только благодаря тому, что здесь существовала последняя языческая община, сохранившаяся с древности. Как минимум до десятого века нашей эры сабиане еще практиковали поклонение богине луны Син — хотя к этому времени они уже старались скрывать свою веру, чтобы соответствовать статусу «людей Книги», и поэтому мусульманское правительство терпело их. Вдобавок к старой религии сабиане сохранили образную эллинскую культуру, а образованные представители этой нации, похоже, прекрасно ориентировались в греческом, древнесирийском и арабском языках.
Молодой Сабит начал свою карьеру в Харране денежным менялой, но Мухаммед, один из братьев Бану Муса, обнаружил отмеченного талантом юношу примерно в середине 850-х годов, когда ездил в экспедицию за книгами в Византийскую империю. Возвращаясь в Багдад, он забрал Сабита, тогда еще совсем молодого человека, с собой, Насколько мы знаем, Сабит прожил в Багдаде всю оставшуюся жизнь. Наряду с Хуленном ибн Исхаком он был одним из самых высокооплачиваемых переводчиков, живших и работавших в доме Бану Муса
{514}. В конце жизни его представили при дворе халифа Мутадида, который сам говорил по-гречески и страстно интересовался естественными науками. Когда Сабит упрочил свое положение, ко двору прибыли еще несколько сабиан, и они составили уважаемую группу ученых и историков в культурной среде Багдада
{515}.
Сильной стороной Сабита были переводы с греческого языка математических и астрономических работ, но он и сам был выдающимся математиком и написал работу о конечной величине предметов, таких, как конусы, которая намного опережала классических авторов.
Вероятно, самым талантливым и разносторонним среди переводчиков был Якуб ибн Исхак аль-Кииди. В отличие от большинства интеллектуалов, которые собрались вокруг двора Аббасидов, Кинди был арабом по происхождению — он происходил из очень видной южноаравийской семьи, которая осела в Куфс после установления в Ираке мусульманства. Они были крупными владельцами недвижимости в районе, а отец Кинди служил наместником. Видимо, Якуб ибн Исхак аль-Кинди родился в Куфе в конце восьмого века, но со временем перебрался в Багдад, где попал в окружение халифов Мамуна, Мутасима и Васика, прямо в сердце придворной культурной жизни.
С воцарением в 847 году Мутаввакиля интеллектуальный климат стал менее приемлемым для философии и умозрительных размышлений. Кшгди также страдал от ревностной враждебности семьи Бану Мусы, которая на каком-то этапе устроила конфискацию его громадной библиотеки — хотя в конце концов та была возвращена владельцу. Умер он, вероятнее всего, в 866 году.
Как человек Кинди был очень трудным в общении. Несмотря на аристократическое происхождение по всем линиям, он был известен своей черствостью и скупостью. Джахиз, который должен был хорошо его знать лично, помещает злую сатиру на его безжалостность в своей «Книге Скряг». В своем доме Кинди обычно сдавал комнаты жильцам, и один из них написал, спрашивая Кинди, можно ли приехать его кузине с сыном, чтобы пожить у него месяц. Он уже заплатил 30 дирхемов за месяц за шестерых, но хозяин потребовал дополнительно 10 дирхемов в месяц за лишних людей. Его квартиросъемщик попробовал вежливо поспорить — но Кинди отреагировал (во всяком случае, если верить Джахнзу) яростной тирадой о том, сколько проблем встает перед хозяевами и к каким трюкам прибегают съемщики
{516}. Бедный человек подумал, что уж лучше бы ничего не спрашивал.
Кинди известен как «Философ арабов». Не будучи сам переводчиком, именно он первым использовал работы Аристотеля для создания исламского философского трактата на арабском языке. Оп также первым поднял проблемы примирения веры и доводов — в итоге, хотя он и являлся правоверным мусульманином, более консервативные верующие относились к нему с огромным подозрением. Говорят, он написал более двухсот работ, хотя многие из них, без сомнения, являлись лишь короткими памфлетами
{517}. Он писал как о философии, так и о математике, астрономии, музыке и медицине; главный госпиталь в современном Багдаде носит его имя. Его работа о мечах и их изготовлении — это самое полное дошедшее до нас описание древнего исламского оружия. Вероятно, Кинди оказался единственным из упомянутых в этой книге арабских деятелей, чье имя стало широко известно в средневековой Европе. С двенадцатого века многие его книги были переведены на латынь и испанский язык, они широко использовались в европейских университетах. Некоторые из произведений Кинди дошли до нас лишь в латинском варианте.
Девятый век стал временем расцвета наук. Одними из ведущих просветителей того времени были Сабит ибн Курра (умер в 901 году) в математике и Хунейн ибн Исхак (умер в 873 году) в медицине. Наиболее яркий пример интеллектуального любопытства и попытки его практического удовлетворения дает их проект измерения окружности Земли. Он детально описан ибн Халликаном
{518}. Стоит привести это описание целиком, поскольку рассказ отражает дух научных интересов, типичный для этого века и в особенности для круга Бану Муса.
Предмет, который они первыми с приходом ислама перенесли из теории в практику — это измерение окружности земли. Хотя астрономы в древности, до прихода ислама, делали это, не существует свидетельств, что какие-либо мусульмане до них пытались осуществить расчет. Халиф Мамун проявлял глубокий интерес к наукам древних и стремился проверить их точность. Он прочитал в книгах, что окружность земли равна двадцати четырем тысячам миль или восьми тысячам фарсахов [три мили составляют фарсах][35]; то есть если один конец веревки положить в любом месте на поверхность земли и протянуть веревку, пока два конца не встретятся, эта веревка будет двадцать четыре тысячи миль длиной. Он хотел проверить правильность этого утверждения и спросил Бану Муса, что они об этом думают. Они ответили, что это определенно так, и тогда халиф сказал: «Хочу, чтобы вы, использовав методы, описанные древними, проверили, точно это или нет».
Бану Муса попросили указать им плоскую равнину; им ответили, что пустыня Синджар [на северо-западе Ирака] абсолютно плоская, так же, как и район вокруг Куфы. Они взяли с собой людей, чьему мнению Мамун верш и на чьи познания в этой области полагался, направились к Синджару и углубились в пустыню. Они остановились в одном месте и специальными инструментами определили высоту Полярной звезды. Затем воткнули в землю колышек и привязали к нему длинную веревку. Потаи они пошли на север, избегая, насколько возможно, отклонения влево или вправо. Когда веревка кончалась, они втыкали другой колышек в землю и, прикрепив к нему новую веревку, продолжали идти на север, как раньше, пока не дошли до места, где высота звезды изменилась на один градус. Затем они замерили расстояние, которое прошли по земле. Расстояние, согласно длине веревки, составило 66 2/3 мили. Так они вывели, что каждый градус на небе составляет 66 2/3мили по земле.
Потом они вернулись на место, где воткнули первый колышек, привязали к нему веревку и пошли на юг. точно так же, как до того шли на север, вбивая колышки и натягивая веревки. Когда у них закончилась веревка, которую они использовали, идя на север, они определили высоту Полярной Звезды и обнаружили, что она на один градус меньше, чем первый замер. Это доказывало, что их расчеты верны, и они достигли того, за чем пришли.
Все, кто знаком с астрономией, поймут, что это правда. Хорошо известно, что число градусов на небе — 360, потому что небо делится на двенадцать созвездий, и каждое созвездие — это тридцать градусов. Всего получается 360. Затем они умножили число градусов на небе на 66 2/3 что является длиной каждого градуса, и получили результат — двадцать четыре тысячи миль или восемь тысяч фарсахов. Это определенно, тут нетсомнений.
Затем
Бану Муса вернулись к аль-Мамуну и рассказали ему. что они проделали и как это согласуется с тем, что он видел в древних книгах. Он захотел подтвердить результат в другом месте, поэтому послал их в район Куфы, где они повторили эксперимент, который провели в Синджаре. Они нашли, что оба расчета совпадают, и Мамун признал справедливость того, о чем по этому предмету писали древние книги.
Это описание делает понятными многие аспекты интеллектуальной сферы того времени. Прежде всего из пего явствует огромное уважение, испытываемое арабами к древней науке. Люди этой эпохи прекрасно понимали, что им следует еще многое постичь из достижений классической эры — причем понимали гораздо лучше, чем их современники в Византии или в Западной Европе.
Но рассказ показывает также, что это уважение к древним не было безусловным приятием всего, что они говорили; Мамун и Бану Муса хотели проверить для себя величину окружности земли. Наконец, нас должно поражать то, как был проведен на практике научный эксперимент: введение гипотезы, использование экспериментальных данных, чтобы ее доказать, и, может быть, самое впечатляющее — проявленная тщательность, стремление удостовериться, что эксперимент можно повторить в одном районе, а затем совсем в другом. Все это демонстрирует истинно научный подход, который имеет мало аналогов в постклассическую эпоху, вплоть до нового времени.
Покровительство интеллектуалам было одним из способов, которыми богатые и могущественные представители придворных кругов создавали свой социальный престиж. Такое меценатство являлось частью демонстрации власти элиты, и халиф первым показывал в этом пример.
Существовала выраженная иерархия знаний. Из нерелигиозных наук знание литературы, поэзии и их истоков явно обеспечивало наибольший престиж и самые высокие награды. Но были также меценаты, которые искренне интересовались наукой и были готовы поддерживать ее своим состоянием. Подобно Италии периода Ренессанса, интеллектуальный мир Багдада девятого века был миром, где частные покровители финансировали интеллектуальную жизнь и до некоторой степени соревновались друг с другом за интеллектуальный престиж. Этим можно объяснить разнообразие и самобытность жизни ученых, ставшие одним из огромных достижений эпохи Аббасидов. Многое из этой свежести было утеряно с появлением в одиннадцатом веке более формальных структур
медресе (теологических школ) и с последующим их развитием.
Глава X
РАСЦВЕТ И ЗАКАТ В САМАРРЕ
Давайте опустимся на землю и расскажем несколько печальных историй о смерти царей. Мутаввакиль был могущественным халифом, имевшим четкое представление о том, как
он хочет править. Том «Истории пророков и царей» Табари, который посвящен его правлению, называется «Начало упадка» — но в действительности пока было мало признаков, что у халифата впереди проблемы. Халиф все еще назначал правителей от восточных границ Ирана до западных границ Египта. Несмотря на отдельные мятежи и беспокойства, Армения на севере и Йемен на юге признавали его верховную власть. Когда в 860 году халиф перенес свою столицу в Джафарию, ему было около тридцати восьми, и он вполне мог править еще два десятка лет.
Несмотря на относительную молодость халифа, как всегда, ключевым моментом и фокусом, вокруг которого развивались все раздоры и интриги, стало наследование. Как часть стратегии подрыва власти тюркских военачальников, он решил, что его сыновья должны взять на себя политическую ответственность, которую несли такие люди, как Аншнас и Итах. Таким образом, верховная власть династии была бы восстановлена.
Летом 850 года Мутаввакиль решил определить трем своим сыновьям порядок преемственности
{519}. Мухаммеду был дан титул Мунтасир, Абу Абд Аллаху — Мутаз, а Ибрахиму — Муайяд. Как и его дед Гарун, Мутаввакиль попытался гарантировать гармонию между сыновьями, детально расписав их обязательства по отношению друг к другу. Так же, как и Гарун, он указал, что каждый сын получает власть в разных областях империи при жизни отца, а в случае Мутаза и Муайяда — на время правления их старшего брата, Мунтасир получил Египет с его несметными богатствами, Аравийский полуостров, Ирак и западный Иран, его доля была наибольшей и по площадям, и по налогам, которые можно было собрать. Мутаз получил Хорасан, Армению и Азербайджан с Фарсом, в то время как Муайяду отошли Сирия и Палестина.
Это не значило, что молодые принцы действительно должны были жить в этих местах — они все прочно обосновались в Самарре, — но правители указанных местностей действовали от их имени, и принцы некоторым образом участвовали в распределении годовых доходов, которые поступали из их провинции. Мы знаем, что несколькими годами позже, около 855 года, Мутаз стал распоряжаться всеми сокровищами своего региона, и был начат выпуск монет с его именем.
Нс стоит и говорить, что четкие, совершенно определенные установки Мутаввакиля по вопросу наследования создали напряжение внутри правящей семьи и двора — напряжение, которое никак не облегчалось собственным достаточно странным поведением халифа. По причинам, которые нам не ясны, Мутаввакиль разочаровался в Мунтасире и стал обращаться с ним при дворе
с нескрываемым неуважением, приказывая своим придворным делать ему резкие замечания. Халиф открыто намекал, что может лишить его положения наследника. Мунтасир был рассержен и унижен.
Ситуация обострялась тем, что Мутаза поддерживала его мать, амбициозная Кабиха, которая завоевала сердце халифа и дарила Мутазу щедрые подарки. Именно празднование обрезания Мутаза, а не Мунтасира, запомнилось своей пышной демонстрацией и щедростью. Кабиха усиленно трудилась за сценой, чтобы обеспечить наследование своему сыну.
О матери Мунтасира, византийской рабыне по имени Хабашия, известно очень мало — лишь то, что она приезжала навестить его во время его последней болезни
{520}.
Как показал пример Амина и Мамуна, трения между братьями, которые были потенциальными наследниками трона, дробило правящую элиту на группировки. Мунтасир не был при дворе единственным, кто чувствовал, что его положение находится под угрозой. Васиф оставался последним оставшимся в живых человеком из небольшой группы тюрков, которых Мутасим нанял еще до того, как стал халифом. Все его более знаменитые товарищи уже умерли — Ашинас от естественной причины, а Итаха приказал убить сам Мутаввакиль.
Вероятно, Васиф выжил потому, что вел себя тихо и не привлекал внимания; он все еще имел большие поместья в Исфагане и в районе Джибала. У него было несколько взрослых сыновей, которые надеялись унаследовать его положение и богатство. Одному из них, Салиху, пришлось стать основным действующим лицом в надвигающихся трагедиях.
Мутаввакиль продолжал настойчиво вести политику отстранения старой элиты от власти. Поэтому для Васифа не явилось особой неожиданностью, когда в октябре 861 года он узнал, что халиф намерен конфисковать его земли и отдать их своему новому фавориту — Фасу ибн Хакану
{521}. Васиф с сыновьями вполне осознавали, как мало они теряют, поддержав переворот.
Прочие тюркские командиры более низкого ранга также чувствовали, что их положение становится угрожающим. Они помешали попытке халифа перевести столицу в Дамаск, но он все еще старался уменьшить их влияние в армии, набирая войска из Северной Африки и Армении. Тюрки-военные понимали опасность потери своего положения — но, что было смертельно опасно для халифа, они все еще составляли дворцовую стражу, которая должна была его охранять.
Напряжение достигло максимума в последнюю пятницу Рамадана, 5 декабря 861 года. Это один из самых крупных народных праздников мусульманского года. Мутаввакиль все еще поддерживал традицию вести людей при всеобщей молитве в Великой мечети Самарры. Люди знали об этом с начала святого месяца поста, и гости, включая многих важных членов семьи Аббасидов, прибыли по этому случаю из Багдада в Самарру.
Это было время, когда люди могли подать халифу прошение, чтобы он удовлетворил их жалобы. Когда великий день приблизился, халиф пожаловался, что плохо себя чувствует, но, несмотря на это, будет лично вести молящихся и читать им проповедь. Его главный советник, Фас ибн Хакан, а также Убейд Аллах ибн Яхья ибн Хакан, делая вид, что волнуются о его самочувствии, высказали мысль о том, что лучше поручить это выступление наследнику — одновременно оно станет хорошей возможностью показать его народу.
В итоге было решено, что проповедь прочтет Мунтасир — по в утро проведения процессии оба советника лицемерно заявили халифу, что хорошо бы отдать такую честь Мутазу — тем более, что у молодою принца днем раньше родился сын. Халиф дал свое согласие, и молящихся вел Мутаз; один из более льстивых придворных, без сомнения, надеясь поймать халифа в хорошем настроении, сказал, что знал четырех предыдущих халифов, начиная от Амина, но что «никогда не видел никого на кафедре, кто выглядел бы лучше Мутаза с его внушительной фигурой, непринужденной речью, звучным голосом, медоточивым тоном и красноречием».
Тем временем, пока его младший брат представлял себя на публике, оскорбленный Мунтасир был вынужден оставаться в своих покоях во дворце
{522}.
Следующее воскресенье с момента появления молодого месяца было концом поста. Это был еще один большой народный праздник, и снова халиф сказал, что плохо себя чувствует, и предложил, чтобы в этом случае молящихся вел Мунтасир. На этот раз его советники были непреклонны: халиф не появлялся в пятницу, если он не появится и в воскресенье тоже, поползут слухи о его здоровье. Он обязан лично вести верующих.
В этом последнем публичном выходе Мутаввакиль прошествовал мимо рядов людей, протянувшихся на восемь километров от его дворца до мечети. Рассказывали, что вернувшись во дворец, он взял горсть земли и посыпал ею голову; его спросили, почему он так сделал, и халиф ответил: «Когда я увидел эту огромную толпу и понял, что она в моей власти, мне захотелось унизиться перед Аллахом»
{523}. Таким образом, Мунтасира снова отстранили от участия в государственном мероприятии.
Двумя днями позже халиф почувствовал, что он поправился настолько, чтобы обычным образом призвать приятных с. му людей на вечеринку с выпивкой и беседой. Был четверг, 10 декабря 861 года. Наши сведения о событиях того ужасного вечера основаны на трех рассказах из первых рук. Один из свидетелей — это профессиональный певец ибн аль-Хафси, который был приглашен среди других присоединиться к вечеринке. Он описал прием у халифа, но, похоже, ушел еще до убийства. Чернокожий слуга по имени Ашас был одним из нескольких человек, присутствовавших при нанесении фатального удара, он оставил нам описание самого убийства. В это же время паж по имени Бунан находился с Мунтасиром и подробно описал его поведение. Ни один из заговорщиков не оставил личного рассказа о происшествии. Не удивительно, что в этой истории есть противоречия, несоответствия и неточности — обычные для воспоминаний участников всех драматических происшествий. Но общий ход событий абсолютно ясен.
Ближе к вечеру Мутаввакиль сидел наедине с Фасом ибн Хаканом, своим ближайшим другом. Приглашенные лица еще оставались в своих комнатах, ожидая, когда их позовут. Халиф приказал слугам, включая ибн аль-Хафси и Ашаса, начать трапезу. Когда блюда опустели, они опустили руки, показывая, что все еще голодны — поднятые руки, наоборот, были бы знаком удовлетворения
{524}. Когда халиф спросил, в чем дело, они пожаловались, что один из них, человек по имени Наст, исключительно прожорлив и съел гораздо больше своей порции. Мутаввакиль приказал принести им еще еды со своего стола.
Судя по всему, двор собрался этим вечером немного позднее — в одной из комнат нового дворца, которая выходила на Тигр. Здесь присутствовало несколько пажей и певцов, первый наследник Мунтасир и один из братьев халифа, Абу Ахмед, позднее ставший известным под именем Муваффак. Именно ему пришлось сыграть в случившемся этим вечером двусмысленную и даже подозрительную роль. За занавесом, невидимые, но способные все слышать, находились женщины семейства.
Мутаввакиль, несомненно, хотел присоединится к их обществу, когда закончится веселье. Кроме того, присутствовал тюркский стражник по имени Буга Младший.
Ибн аль-Хафси вспоминал, что никогда не видел халифа более веселым — но, как это часто бывает в рассказах о смерти халифа, здесь присутствует и более позднее «воспоминание» о том, что халиф якобы предчувствовал свой конец
{525}. В данном случае это выразилось так: его любимая Кабиха только что прислала ему великолепный зеленый шелковый вышитый халат. Халиф был доволен, но приказал, чтобы халат свернули и вернули женщине. Он объяснил своим товарищам: «Мое сердце говорит мне, что я не должен носить его, и не хочу, чтобы кто-либо после меня надевал его». Придворные заторопились уверить властителя: «Это счастливый день, повелитель правоверных. Аллах запрещает тебе говорить такое». Но даже когда он начал пить и развеселился, он продолжал повторять: «Клянусь Аллахом, скоро я покину вас».
Позднее также ходил рассказ о том, что какая-то тюркская женщина послала Фасу ибн Хакану через его секретаря записку с предупреждением о заговоре — но Фас не принял ее всерьез и уж никак не хотел сообщать о ней халифу, чтобы не портить ему хорошее настроение
{526}.
На этом вечере Мунтасир опять стал мишенью для насмешек отца. По мере того, как халиф пьянел, его поведение становилось все более оскорбительным. Один член семьи Аббасидов рассказывал позднее, что женщины, сидевшие за занавесом, передавали ему, будто халиф приказал Фасу ибн Хакану ударить сына рукой по голове, а затем начал обзывать сына «нетерпеливым» — явно намекая на то, что сын ждет не дождется смерти собственного отца. Мунтасир был оскорблен подобными намеками и подобным поведением, он с достоинством ответил, что для него легче было бы подвергнуться казни, чем выносить подобное оскорбление.
Наконец, примерно в полночь, подали ужин, и Мутаввакиль обильно поел. Очевидно, именно в это время принц Мунтасир ушел в сопровождении нескольких пажей, включая Бунана. Когда присутствующие указали ему, что никто не имеет права уходить до того, как поднялся халиф, Мунтасир ответил, что халиф слишком пьян, чтобы заметить этот уход, и все равно остальная компания скоро разойдется.
Тем временем Буга принялся убирать зал, намекнув остальным, что пора расходиться по своим комнатам — он не хотел, чтобы кто-нибудь помешан его планам. Фас ибн Хакан возразил, заявив, что еще слишком рано прерывать вечеринку. Но Буга резко ответил, что халиф приказал ему отослать всех прочь, когда он выпьет семь мер вина, а теперь он выпил уже четырнадцать; кроме того, за занавесом ждут женщины. Похоже, что теперь ушли уже все, кроме Фаса ибн Хакана и нескольких пажей, включая Ашаса, нашего рассказчика.
Тем временем по коридорам дворца продвигались мужчины с нехорошими намерениями. Этой ночью стража была составлена из тюрков под предводительством Буги Младшего и Мусы, сына Буги Старшею. На каком-то этапе вечеринки к ним присоединились четыре сына Васифа, ветерана и лидера тюрков, чьи имения халиф намеревался конфисковать. Старшим из сыновей Васифа был Салих. Заговорщики заперли все двери дворца за исключением одной, ведущей на берег реки, которую оставили открытой для убийц.
Заговор чуть не раскрылся, когда принц Абу Ахмед покинул вечеринку, выйдя в туалет, и наткнулся на заговорщиков. Он окликнул их, потребовав ответа, что они тут делают, но они не обратили внимания на его окрик и двинулись на него с поднятыми мечами. Абу Ахмед убрался в свою комнату. Участвовал ли он в заговоре или просто ретировался, мы сказать не можем — но позднее он тесно сошелся с некоторыми тюрками, которые были участниками заговора, особенно с Мусой ибн Бугой.
Мутаввакиль услышал крик, но Буга объяснил, что шум производит стража. В этот момент заговорщики чуть было не ударились и панику, решив, что их раскрыли — но Буга, видимо, выскользнувший из комнаты, снова собрал их, сказав, что они уже почти мертвецы, и лучше ударить сейчас, чтобы умереть с честью. Убийцы ворвались в комнату и накинулись на халифа, один из них ударил его мечом, разрубив ухо и плечо. Халиф храбро сопротивлялся, бросившись навстречу заговорщикам. Фас яростно бранил их за то, что напали на халифа, но Буга сказав просто: «Заткнись, идиот!» Тогда Фас попытался заслонить своего хозяина, но их обоих вскоре искромсали мечи тюрков. Один из молодых пажей сбежал, скользнув под занавеску на женскую сторону, а остальные, включая и Ашаса, выскочили через дверь. Халиф и его фаворит остались лежать в луже крови.
Неясно, что в это время делал Мунтасир. Паж Бунан обеспечил ему алиби, описав его передвижения в то время, когда убивали его отца. Согласно словам мальчика, молодой принц обсуждал приготовления к свадьбе одного из своих слуг и услышал об убийстве отца, лишь ко|да к нему явился Буга и приветствовал его как халифа. Однако трудно поверить, что Мунтасир не имел никакого представления о заговоре — по крайней мере, он слишком уж быстро начал действовать после убийства, обеспечив создание истории-прикрытия для оправдания происшедшего. Вскоре появилась версия, что Мутаввакиль был убит Фасом ибн Хаканом, а Мунтасир убил Фаса в приступе праведного гнева
{527}. Но через некоторое время Мунтасир говорил уже, что халиф захлебнулся вином
{528}.
Был ли он вовлечен в заговор или нет, но Мунтасир прекрасно понимал, что должен действовать максимально быстро, если хочет контролировать ситуацию. Визирь Убейд Аллах ибн Яхья ибн Хакан не присутствовал на роковой вечеринке, потому что допоздна работал в своей конторе в другой части дворца. Услышав шум, он послал человека выяснить, что происходит. Узнав об убийстве, он попытался покинуть здание и найти молодого принца Мутаза, прекрасно понимая, что тот может оказаться в опасности из-за ревности брата. Вместе со слугами и свитой визирь направился к выходу, но обнаружил, что двери дворца заперты. Им пришлось взломать дверь, которая вела на берег реки. Потом они взяли лодки и отплыли вниз по реке к резиденции Мутаза — однако прибыли туда слишком поздно. Дворец оказался пуст, и Яхья предположил самое худшее
{529}.
На деле все было не так плохо, как боялся Яхья. Далее историю рассказывает человек по имели Саид Младший, который был помощником секретаря Мунтасира, Ахмеда ибн аль-Хасиба. Ахмед немедленно составил план присяги на верность. Так как он никогда прежде этого не делал, то вынужден был попросить совета у собственного секретаря, чтобы использовать правильную формулу. Тем временем рассказчика послали найти Мутаза и привести ею для принесения клятвы верности. Санд Младший отправился на задание с большой неохотой: он знал, что. это опасная миссия, и лучше бы оставаться рядом с новым халифом и помогать ему с приемом клятвы.
В городе царил хаос — группы вооруженных людей сновали повсюду. Широко распространилось убеждение, что Убсйд Аллах ибн Яхья нбн Хакан и Мутаз могут вызвать нетюркские войска, чтобы оспорить наследование. Саид шел по улицам и старался не давать прямых ответов, когда люди спрашивали его, кто он и что тут делает. Когда он достиг дворца Мутаза, тот показался пустынным; у дверей не было даже привычной стражи, привратников и попрошаек, ожидающих снаружи
{530}. Посланник громко постучал, и после долгого ожидания дверь открылась. Он объяснил, кто он, что он послан от халифа Мунтасира. Его снова заставили ждать, но в конце концов пригласили внутрь и заперли за ним двери. Саид страшно перепугался: если Мутаз действительно намерен оспаривать наследование, посланец Мунтасира будет изрублен на куски.
Бейдун, доверенный слуга Мутаза и его матери, вышел для разговора с ним. Саид рассказал официальную историю о смерти Мутаввакиля. Затем Саида проводили к молодому принцу. Он повторил рассказ о смерти халифа и высказал молодому принцу свои соболезнования. Затем он предложил принцу отправиться принести клятву верности брату, продемонстрировав новому халифу добрые намерения. Мутаз предложил подождать до утра, но Саид с помощью Бейдуна убедил его, что идти нужно немедленно. Принц приказал подать одежду, и как только он оделся, они вышли — причем Саид старался двигаться по дорогам, где их не мог встретить никто из тех, кто был способен изменить решение Мутаза.
По пути Саид произнес небольшую речь, пытаясь убедить Мутаза в добрых намерениях брата. Когда они проследовали мимо дворца Убейда Аллаха ибн Яхьи ибн Хагана, Мутаз спросил, что собирается делать Убейд Аллах. Саиду пришлось прибегнуть к явной лжи, сказав, что Яхья твердо обещал дать клятву верности, а Фас ибн Хакан (который на самом деле был мертв) уже сделал это.
Наконец они прибыли во дворец и предстали перед новым халифом. Тот был дружелюбен и вежлив, он обнял младшего брата, выразив ему печаль по поводу смерти их отца. Вскоре прибыл другой наследник, Муайяд, еще с одним дворцовым слугой, и оба молодых принца дали клятву верности новому повелителю. К тому моменту, когда в среду утром обитатели Самарры проснулись, Мунтасир уже прочно утвердился как халиф.
Трагические события вечера 10 декабря 861 года обернулись катастрофой для далекого будущего халифата Аббасидов. Конечно, не в первый раз халиф был убит в результате заговора. Амин заплатил своей жизнью за безрассудство и амбиции своих главных советников, и это было первое убийство, холодное и расчетливое. А раз такое проделали однажды, очень легко представить себе, как это может повториться. Тюркская стража показала свою власть, и стало ясно — любой халиф, который не хочет или не может соответствовать требованиям солдат-тюрков, долго не протянет.
Похоже, Мунтасир был щедрым правителем и имел добрые намерения, но его короткое правление было наполнено разнообразными слухами, передававшими фантастические подробности смерти его отца. Вполне возможно, что это были не более чем нравоучительные фантазии, но мы имеем много историй, рассказывающих о меланхолии нового халифа и о его тревогах по поводу собственной смерти, порожденных чувством вины.
Мунтасир начал свое правление с решительного шага, организовав большую кампанию против византийцев — военная победа укрепила бы его авторитет. Но он не мог позволить себе оставить столицу так скоро после восхождения на престол, поэтому поставил во главе армии Васифа, последнего из тюркских лидеров. Новый халиф позаботился о том, чтобы военная экспедиция хорошо освещалась. Он отправил правителю Багдада, одному из Тахирндов, Мухаммеду ибн Абд Аллаху ибн Тахиру, датированное 13 марта 862 года письмо, изложив в нем причины начала очередного
джихада. Эго письмо должны были зачитывать народу
{531}.
Самое сложное при развязывании священной войны — это отыскание оправданий для нее, такая проблема существует и в наше время. Поэтому письмо халифа начинается с подчеркивания превосходства ислама, затем в нем цитируются основные, тексты из Корана, которые вдохновляли бы участников
джихада и обещали тем, кто примет участие в священной войне, все радости рая. После этого халиф подчеркивает собственные обязательства:
Повелитель Правоверных желает приблизиться к Аллаху, начав святую войну против Его врагов, выполняя Его поручения в религиозных вопросах — те, которые Он доверяет ему, халифу, ища близости к Нему, усиливая Его друзей и поражая и мстя тем, кто отклоняется от Его религии, отвергая Его посланцев и не слушая Его{532}.
Далее халиф сообщает, что отправил к границе Васифа, который должен прибыть в пограничный город Малатся 15 июня и 1 июля начать вторжение на территорию Византии. Это письмо следовало читать мусульманам в мечети, в первую очередь во время пятничной молитвы — так, чтобы люди вдохновились и пожелали принять участие в кампании. Мы не можем сказать, насколько призыв оказался услышанным — после смерти халифа военную кампанию свернули.
Вторым действием нового халифа было лишение братьев, Мутаза и МуаЙяда, их статуса наследников. Правда, Мунтасир давал отцу торжественное обещание уважать их права — но политическое давление со стороны его сторонников в среде тюркских военных, особенно Васифа и Буги, означало, что сдержать эту клятву невозможно. Если бы халиф внезапно умер (как это и получилось на самом деле), тюрки оказались бы перед фактом наследования престола их врагом Мутазом и его сторонниками. Мутаз и Муайяд должны были уйти.
Муайяд, более молодой и менее напористый, оставил нам рассказ о том, как это делалось
{533}. Двух принцев вызвали во дворец и поместили в комнатах личной резиденции халифа. Мутаз спросил брата, почему их привезли, сюда, и Муайяд ответил с грубой прямотой: «Чтобы отстранить нас, ты, несчастный».
Мутаз ответил, что не верит — но тут как раз прибыли посланцы с документами об отречении.
Муайяд понимал, что отказаться нет возможности, и сразу же согласился подписать бумаги, но Мутаз ответил, что не может отречься, и что они могут убить его, если хотят. Его грубо втолкнули в другую комнату и заперли дверь. Муайяд — во всяком случае, с его слов — попытался заступиться за брата. Он прямо обвинил стражу в отсутствии уважения к члену правящего дома и сказал, что тоже пойдет под замок, чтобы убедить там брата.
Когда он вошел, то увидел Мутаза в слезах. Он не стал терять времени и заявил, что нужно отречься, особенно в свете того, что произошло с их отцом — судя но всему, довольно невнятный рассказ Мунтасира о смерти Мутаввакиля совершенно не убедил братьев. Но Мутаз все-таки сопротивлялся:
— А если я лишусь прав, которые уже имел в провинциях под моим управлением?
— Эти права уже убили твоего отца, — ответил ему брат. — Не позволяй им убить и тебя!
Наконец Мутаз согласился. Тогда Муайяд сообщил посыльным, что брат согласен отречься и подпишет все, что ему продиктуют. Пришел секретарь с чернильницей и бумагой, Муайяд сел и написал, что он не в состоянии править и хочет отречься. И снова Мутаз отказался подписывать бумагу, несмотря на грубую команду брата: «Подписывай, черт побери!» Наконец, они оба собственной рукой написали унизительный документ:
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Повелитель правоверных Мутаввакиль, да будет с нами Господь, отписал мне наследование и взял клятву верности мне без моего согласия, когда я был несовершеннолетним. Теперь я понял, что не могу выполнить возложенных на меня обязанностей и стать для мусульман хорошим халифом. Все, кто дал мне клятву верности, могут теперь отказаться от нее. Я освобождаю вас от нее и избавляю от присяги. Никакой договор или соглашение не связывает больше меня с вами. Вы свободны от него.
После того, как они закончили писать, их позвали к халифу. Муайяд спросил, должны ли они получить новую одежду или идти, в чем есть, и им ответили, что нужно переодеться: мероприятие будет официальным и торжественным. Им принесли свежую одежду и потом направили к халифу. Братья нашли Мунтасира в зале приемов с придворными, которых выстроили рядами по рангам, чтобы они стали свидетелями процедуры отречения. Тут же находились прочие члены семьи Аббасидов, Мухаммед ибн Абд Аллах — Тахирид из Багдада, военачальники, правительственные чиновники и секретари. Молодые принцы с чувством глубокой неловкости увидели среди присутствующих убийц своего отца, в том числе Бугу Младшего, который командовал стражей в тот роковой вечер.
Мунтасир спросил, написали ли они документы отречения. Муайяд торопливо подтвердил свое согласие, а Мутаз еле слышно пробормотал, что согласен.
Затем халиф произнес речь, в которой откровенно признал, что смещает их не потому, что хочет сделать наследником своего сына, вовсе нет, а потому, что лишить братьев наследования потребовали тюрки, и Мунтасир побоялся, что если не согласится на эту отмену, какой-нибудь солдат просто убьет их. Казнь не стала бы достойным отмщением, ибо кровь принцев стоит гораздо больше, чем кровь любого солдата. Все происходит для их же собственной пользы. Это было удивительное публичное признание в слабости перед лицом давления военных. Наконец братья поцеловали халифу руку, он обнял их, и они ушли.
24 апреля Ахмед ибн аль-Хасиб, визирь Мунтасира, написал Мухаммеду ибн Абд Аллаху ибн Тахиру (и, без сомнения, другим управляющим и официальным лицам), объяснив официальную причину и описывая детали отречения. Он сообщал, что молодые принцы приняли клятвы верности, когда были еще слишком малы, а достигнув зрелости, поняли, что не могут осуществлять свои права. Теперь все освобождены от клятвы верности им, а самих принцев следует считать людьми с общими правами
[амма). Этот последний пункт был, должно быть, самым болезненным. Быть частью элиты
(хасса) означало иметь привилегии дворцовой жизни и соответствующий статус. Быть исключенным из элиты означало социальное падение. Ни один из членов семьи Аббасидов никогда прежде не подвергался такому унижению. Это было чем-то вроде
damnosa memoriae[36]: все упоминания их имен убирались с эмблем и флагов, а также с их боевых лошадей. Наконец, правителю Багдада сообщили, что между ним и халифом никого нет, и он отвечает перед халифом напрямую.
Всего лишь чуть больше чем через месяц после этих событий Мунтасир умер естественной смертью. Заболел он 29 мая, а умер 7 июня. Ходили слухи об отравлении — они ходили всегда, — но, похоже, никто их не воспринял всерьез.
Хотя халиф имел сына, тот был, вероятно, слишком мал, чтобы его считали подходящим на роль халифа — отстранив же братьев от права наследования, Мунтасир не сделал других назначений. По-видимому, он считал, что времени еще достаточно.
Мунтасир умер в субботу, а в воскресенье руководство тюрков собралось во дворце Гаруна. Лидерами тюркской партии были два Бути, Старший и Младший, и еще один тюрк по имени Багир. По совету визиря они заставили всех остальных тюрков поклясться, что они примут халифом того, кого выберут эти трое. То был явный военный переворот. Судьба трона Мансура, Махди и Гаруна решалась теперь маленькой группкой солдат. Как бы особо подчеркивая оскорбление халифов, все эти люди, участвовавшие в убийстве Мутаввакиля, теперь даже не пытались отрицать или замаскировать свою роль в его смерти.
Клика не собиралась назначать халифом Мутаза или кого-либо другого из сыновей Мутаввакиля. В конце концов, они убили их отца, и любой новый халиф захочет за эго отомстить. С другой стороны, военным было ясно, что халифат должен оставаться под управлением потомка Мутасима, их покровителя, который обеспечил утверждение власти тюрков в Самарре. Стоял лишь вопрос — какого конкретно? Рассматривалась идея взять одного из сыновей Мутасима, Ахмеда, взрослого мужчину с видными способностями. Говорят, Буга Старший возражал (возможно, мудро учитывая прошлое): «Мы должны назначить того, кого будем бояться и уважать, потому что тогда мы останемся с ним. Если же мы назначим такого, который боится нас, то начнем соперничать между собой и закончим убийством друг друга»
{534}. В конце концов они выбрали более податливого кандидата — одного из внуков Мутасима. Говорят, он был протеже Буги, и если это было так, то правильность выбора-вскоре подтвердилась.
Новому халифу, который взял имя Мустаин, было двадцать восемь лет, но, похоже, он вообще не имел военного опыта. Возведением на трон монарх оказался целиком обязан тюркам. Он даже назначил тюрка Отамиша своим визирем. Это единственный пример визиря-тюрка в истории халифата: обычно главами гражданской администрации были арабы или персы, хорошо обученные искусству грамотно вести официальную переписку и следить за всей финансово-административной системой. Назначение Отамиша было попыткой тюрков получить полный контроль над правительством, но новому визирю приходилось целиком полагаться на старого секретаря Муптасира Ахмеда ибн аль-Хасиба — вероятно, потому, что сам он был неграмотным. Опыт говорил, что если тюрки и способны доминировать в качестве военной власти, то в деле административного управления они не могут обходиться без услуг арабов и персов.
В понедельник 9 июня была организована официальная процессия, чтобы показать людям нового халифа. Еще до восхода солнца стража заняла свои места, выстроившись вдоль маршрута, который вел в громадный общественный зал приемов. Новый халиф, одетый в официальные одежды, с церемониальным копьем перед собой, прошествовал в зал. Там его приветствовали выдающиеся люди государства, члены семейства Аббасидов, включая детей Мутаввакиля. Здесь же присутствовали Тахириды и другие граждане высокого ранга.
Внезапно показное спокойствие церемонии было нарушено криком, идущим с главной улицы. Группа из пятидесяти всадников, не тюрков, подчинявшаяся правителю Багдада Мухаммеду ибн Абд Аллаху ибн Тахиру, пронеслась галопом вдоль улиц, сметая стражу. Вскоре к ним присоединилась толпа простых людей с криком: «Власть Мутазу!» То был спонтанный протест против тюркского военного путча. Стража контратаковала и оттеснила толпу назад вдоль улиц до места, где дорога сужалась. Тут восставшие остановились, некоторые из них выкрикивали традиционный мусульманский клич
«Аллаху акбар!», а стража оттесняла их, стреляя из луков и нападая с мечами.
Тем временем в общественном зале аудиенций новому халифу приносили клятвы верности. К полудню все закончили, и новый халиф со своими сторонниками отбыл во дворец Гаруна, вниз по холму, к реке.
На улице тюркской страже приходилось туго. В конце концов ее оттеснили назад, и толпа ворвалась в зал приемов. Там, где всего пару часов назад элита Аббасидов давала клятву верности новому халифу, теперь громили все подряд. Люди ворвались в арсенал и расхватали мечи, щиты и кольчуги — все, до чего дотягивались руки. Письменные источники с презрением говорят о мечах и щитах в руках толпы, банщиков и зеленщиков
{535}. В центре Самарры любому встреченному тюрку устраивали засаду и отбирали: оружие люди, которых называли «продавцами ячменного сока- и сухих фруктов, банщиками, разносчиками воды и толпой с рынков», а также заключенными, сбежавшими из тюрем.
Похоже, волнения в конце концов успокоились, но новый режим явно был глубоко непопулярен среди простых людей, и тюрки были не в состоянии установить контроль над всем городом. Положение для них стало еще более опасным, потому что остальные военные были готовы присоединиться к гражданскому населению, выступающему против тюркского засилья.
Судя по всему, зима 862/3 года прошла довольно спокойно, но эмоции прорвались следующей весной. Непосредственной причиной новых волнений стала гибель в бою двух видных командиров, ветеранов мусульманской армии на византийской границе. Многие рядовые мусульмане были в ярости — эти люди погибли, в то время как тюрки не прилагают никаких усилий для охраны границы. Этот всплеск недовольства открыл дорогу для более глубоких обид. Табари, который в это время находился в Праке, суммирует основные моменты:
На сердца мусульман легла тяжесть, потому что два героя погибли так быстро один за другим. Более того, люди уже были переполнены ужасам из-за смерти Мутаввакиля от рук тюрков и способа, которым последние решают дача мусульман. Тюрки убивают любого халифа, какого хотят, и назначают на его место того, кто им нравится, не принимая во внимание религиозный авторитет или мнение Мусульман{536}.
В марте 863 года в Багдаде вспыхнули волнения. Общественное мнение требовало действий против византийцев, а войска в городе — выплаты жалованья. Были захвачены и распущены тюрьмы, а все уголовные дела оказались выброшены в реку и уничтожены. Один из понтонных мостов срезали с мертвых якорей, другой сожгли. Дома двух знатных христиан-чиновников были разграблены.
Население всерьез воспылало энтузиазмом по поводу
джихада, добровольцы прибывали из Джибала, Фарса и Ахваза. Зажиточные горожане в Самарре и Багдаде считали своим долгом давать деньги для поддержки этих людей, частично желая подтвердить свои религиозные устремления, а частично, вне всякого сомнения — чтобы защитить себя от толпы, которая могла стать опасна. Тем временем правительство ничего не делало, чтобы начать святую войну.
Обстановка оставалась весьма неустойчивой. 14 мая неизвестные люди атаковали тюрьму в Самарре и выпустили из нее всех заключенных. Группа тюрков во главе с Отамишем, Бугой и Васифом попыталась найти преступников, но была атакована. Солдат закидали камнями, а Васиф был ранен — в него попал горшок с кипящим варевом. После этого Васиф отдал приказ метателям огня
(наффатин) поджечь дома и другие жилища в этом районе, и Табари пишет, что собственными глазами видел сгоревший квартал
{537}.
В то же время финансовое положение государства ухудшалось. Отамиш был поставлен во главе администрации Мустаином, теперь же он, его секретарь и царица-мать, похоже, объединились с целью грабежа казны. Солдатское жалованье задерживалось, а Васиф с Бугой оказались заняты другими делами. В четверг 4 июня войска подняли мятеж. Отамиш находился вместе с халифом в уголке дворца Джавсак Хакани. Он попытался сбежать, но оказался окружен солдатами. Попытка спастись под защитой халифа не удалась. В субботу Отамиша выволокли из дворца и зарезали. Взбешенные солдаты отправились громить его дом, и Табари рассказывали об огромных количествах мебели, ковров и посуды, вытащенных оттуда
{538}. Нечего и говорить, что убийство визиря всего лишь передавало финансовые проблемы его наследнику.
Эти проблемы, конечно, внесли свой вклад и в рост разногласий между ведущими тюркскими офицерами, такими, как Васиф и Буга Младший, и рядовыми членами. Офинеры с их дворцами в Самарре и поместьями в сельской местности могли вести роскошную и богатую жизнь — но для обычных солдат, пытающихся выжить на нерегулярно выдаваемую зарплату, все складывалось совсем по-другому. Поэтому солдаты нашли своего лидера — агрессивную и харизматичную фигуру Багира. Багир был одним из противников Мутаввакиля и очень удачно это использовал. Ему были даны поместья возле Куфы, сдаваемые в аренду местному персидскому землевладельцу, который платил 2000 динаров в год еврею, секретарю Багира. Однажды на одного из секретарей Багира было совершено нападение. В ярости тюрк потребовал, чтобы нападавший был наказан — но у этого человека оказались друзья в администрации, одним из них оказался некто по имени Дулейл Христианин, который был секретарем Буги Младшего и распоряжался выплатами армии. Дулейл отказался выдать нападавшего, и Буга поддержал его.
29 января 865 гола произошло столкновение. Багир, рассерженный и очень пьяный, решил разобраться с Бугой. Буга был в бане, и Багир ждал, пока тот выйдет, чтобы потребовать выдачи Дулейла. Буга ответил уклончиво, сказав, что передаст Дулейла Багиру, но только после того, как назначит кого-либо на его место. Багир тем временем собрал близких друзей, всех тех, кто был с ним при убийстве Мутаввакиля; они подтвердили клятву, которую давали той ночью, и пообещали ему помочь убить халифа, Бугу и Васифа, «раз они взяли все и оставили нас ни с чем» — конечно, последнее было сильным преувеличением, по крайней мере, в случае с Багиром.
Дворцы были такими, какими они были, и этот договор недолго оставался в секрете. Разведенная жена Багира рассказала об услышанном матери халифа. Халиф послал за Бугой и Васифом, решив, что они тоже в заговоре, и стал упрекать их: он ведь не просил, чтобы его сделали халифом, это они со своими друзьями посадили его на трон — а теперь его хотят убить. Васиф с Бугой решили нанести удар первыми. Багира вызвали, схватили и затолкали в один из банных домиков Буги, для него заказали кандалы. Банные домики имели толстые стены без окон и легко запирающиеся двери, поэтому являлись идеальной заменой тюрьмы. Затем Буга и Васиф послали внутрь людей с топорами, чтобы те прикончили Багира.
Для Васифа и Буги Багир был буйным горлопаном и деревенщиной, человеком, который поднялся выше своего уровня. Однако для многих тюрков он являлся героем, отстаивавшим их интересы перед властью. Восставшие ворвались во дворец Гаруна, были сожжены правительственные конюшни, а животные из них расхищены. Когда некоторые офицеры просили тюрков разойтись, те дерзко отвечали: «
Йок, йок!» — согласно записям Табари, тогда, как и сейчас, это означало «нет, нет»
{539}.
Оказавшись перед лицом мятежа, халиф, Буга и Васиф решили, что Самарра слишком опасна для них, и ускользнули по реке, направившись в Багдад, где ожидали встретить поддержку правителя, Мухаммеда ибн Абд Аллах ибн Тахира, а также местного населения, которое ненавидело тюркскую армию.
Сначала бегство халифа поставило восставших в тупик, но, разграбив дома чиновников, захватив верховых животных и винные погреба, они начали действовать. Они запретили всем до единого отправляться по реке в Багдад: один несчастный судовладелец, который одолжил свою лодку желавшим спастись людям, получил двести плетей, а затем был повешен на мачте
{540}.
Вероятно, Мустаин, Буга и Васиф прибыли в Багдад 5 февраля, и халиф обосновался во дворце ибн Тахира. Тем временем Самарру начали покидать другие тюрки, близкие к Васифу и Буге. Прибыв в Багдад, они отправились к халифу и, опоясав шеи ремнями, бросились перед ним на землю, прося прощения и умоляя его вернуться с ними в Самарру. Мустаин стал упрекать их за неблагодарность — ведь он делал для них все, в том числе назначал их юных сыновей на государственное обеспечение и оплачивал свадьбы их
дочерей. Их предложение, чтобы халиф вернулся с ними, было встречено с насмешкой — эти солдаты даже не знали, как правильно обращаться к халифу, и ибн Тахир вместе с багдадской аристократией от души повеселились.
Наконец халиф сказал, что они могут вернуться в Самарру, где им будут платить их жалованье, но он останется там, где он есть
{541}. Озлобить тюрков таким образом, по сути, сказав им, что они больше не имеют веса, не было ни расчетливым, ни разумным шагом. Произошедшее лишь показывает презрение, с которым относились к этим варварам-солдатам. Но в течение года они еще возьмут реванш.
Когда солдаты вернулись в Самарру, они рассказали своим товарищам о том, как их отвергли и оскорбили. Им нужен был халиф, которого они могли бы считать своим — и как ни странно, солдаты обратились к Мутазу, который так долго возглавлял аититюркскую партию. Столь же удивительно и то, что он согласился, — бесспорно, увидев в этом свой последний шанс достичь трона. Была составлена длинная и проникновенная клятва верности, говорящая, что дается она самому Аллаху, и любой, кто ее нарушит, будет наказан не только в этой жизни, но и в следующей. Муайяд, брат Мутаза, объявлялся следующим наследником. Любой, кто нарушит клятву, должен был потерять все свое имущество, которое будет роздано бедным, а все его жены будут считаться разведенными.
Мы не знаем, насколько глубоко понимали тюрки эту высокопарную прозу — но последующие события показали, как легко они отбрасывали любые свои обещания.
Принесение клятвы Мутазу означало, что война между Самаррой и Багдадом теперь неизбежна. В Багдаде Мухаммед Тахирид действовал быстро и решительно, постаравшись надежнее блокировать Самарру. Он написал своим сторонникам в Мосуле и Джазире, чтобы те остановили поставки, идущие в город с севера. Движение по реке из Багдада было запрещено: один из кораблей, везущий рис, был задержан, и капитан сбежал, бросив судно на произвол судьбы, пока оно не затонуло
{542}.
Город Багдад укрепили. За огромную сумму в 325 000 динаров были возведены стены, прикрывшие основные жилые районы на обеих сторонах реки, восточной и западной. Построили ворота с проходами, достаточно большими, чтобы укрыть сотню человек, на стенах и башнях установили катапульты. К 22 февраля работы были завершены. К северо-западу от города затопили земли вокруг Анбара, проломив стенки каналов и разрушив мосты, чтобы не дать тюркам возможности атаковать с этого направления. Этот шаг, безусловно, был осмысленным с военной точки зрения, но надолго подкосил сельское хозяйство Ирака
{543}. В то же самое время Абд Аллах написал всем сборщикам налогов, приказав посылать средства в Багдад, а не в Самарру
{544}.
Мухаммед также попытался уговорить командующих войсками по всему Ираку и за его пределами присоединиться к нему и его халифу Мустаину в Багдаде. Многие местные командиры с небольшими группами солдат ответили на его призыв. Как и во время первой осады Багдада, простые горожане играли в обороне важную роль — но, по контрасту с событиями времен Амина, на этот раз вооружило их само правительство. Сначала людям просто раздали пропитанные смолой маты для собственной защиты и мешки, полные камней и обломков кирпичей
{545}. В апреле отношение к ополчению приобрело более организованные формы. Им выдали усаженные железными гвоздями дубины и небольшое количество луков со стрелами; однако мечи и доспехи раздавать не собирались. Имена ополченцев заносились в списки, чтобы им можно было платить, и им позволили выбрать собственных командиров
{546}. В первый же день они доказали, что стоят доверия, защитив от тюрков ворота. Ополченцы оставались важным элементом обороны города вплоть до конца осады. Ненависть к тюркам, а также, без сомнения, желание снова видеть свой город столицей со всеми вытекающими отсюда возможностями, мобилизовали широкие слои населения.
Несмотря на мощную поддержку народа в Багдаде, сторонники Мутаза из Самарры взяли инициативу в свои руки и заставили багдадцев обороняться. В субботу 24 февраля 865 года экспедиционные силы из пяти тысяч тюрков и двух тысяч их союзников из североафриканских войск собрались у стен Самарры. Командовал армией Абу Ахмед, сын Мутаввакиля и брат самаррского халифа Мутаза. Нужно помнить, что Абу Ахмед находился с отцом в вечер убийства, но очень удачно отошел в туалет на время самой трагедии. Он оставался в близких отношениях с несколькими тюрками, которые убили его отца, особенно с Мусой ибн Бугой Старшим, и являлся единственным членом семьи Аббасидов, которому они действительно верили. Он также был единственным представителем правящей семьи, сделавшим военную карьеру.
Абу Ахмед повел самаррские войска вдоль восточного берега Тигра. И снова страдали люди в деревнях и маленьких городках вдоль их маршрута: население западного берега «бежало, спасая свои жизни, бросая наделы и урожай. Фермы разрушались, урожай и домашнюю утварь растаскивали, дома сносили, а путников на дорогах грабили»
{547}. В воскресенье 10 марта, через три недели после выступления из Самарры, тюрки разбили лагерь напротив ворот Шаммасия на северо-восточной окраине Багдада
{548}. Их было не более двенадцати тысяч, и они постоянно опасались быть взятыми в кольцо во враждебном окружении. Защитников Багдада было, конечно, гораздо больше, — но они не имели военного опыта и единства цели, как их противники. Мухаммед ибн Тахир, управлявший действиями из своего роскошного дворца, сильно отличался по лидерским качествам от жесткого и решительного Абу Ахмеда, разделявшего лагерную жизнь со своими людьми.
Тюрки атаковали свежевозведенные укрепления, а защитники отвечали им, забрасывая наступавших метательными снарядами из баллист, установленных на стенах. Нерегулярное войско, защищенное лишь матами, зарекомендовало себя хорошо. Второй тюркский отряд из четырех тысяч солдат был послан из Самарры атаковать Багдад с запада, но 20 марта потерпел неудачу, когда защитники города (и профессиональные солдаты, и ополченцы) отбросили тюрков, разорив при этом их лагерь. Выжившие тюрки бросались в реку, пытаясь переплыть ее и попасть в лагерь Абу Ахмеда на западном берегу, но многих выловили багдадские войска, находившиеся на лодках. Головы этих тюрков спустили по течению и разложили на мостах города, а багдадские войска тешили себя браслетами и другими трофеями. Командирам щедро дарили шелка и парчовые халаты
{549}.
Это был триумф багдадцев — но, несмотря на призывы Своих советников, ибн Тахир отказался преследовать врага и добивать раненых. Он повсюду придерживался осторожной оборонительной политики. Вместо переноса военных действий в лагерь противника в старой Пятничной мечети, построенной в центре Круглого Города еще Мансуром, было зачитано высокопарное описание победы Багдада
{550}. В этой речи говорилось о поддержке Аллахом дела Мустаина, о щедром предложении мира, которое Мустаин сделал нападавшим, об опрометчивом лидерстве «пажа»
(гуляма) Абу Ахмеда и о преступлениях, совершенных тюрками против простых мусульман. Всюду подчеркивалась роль ибн Тахира как командующего.
Война и далее шла по той же схеме: тюркские атаки и сопротивление багдадцев. Однажды один из атакующих смог зацепиться крюком за верх стены и взобрался на нее — но никто его не поддержал; защитники отрезали солдату голову и при помощи баллисты забросили ее в тюркский лагерь
{551}. Встречаются описания необычных и даже комических случаев. Один раз в разгар битвы защитник города (которому читатели этой книги, возможно, даже станут симпатизировать) оконфузился, забыв, какого халифа он должен поддерживать, и выкрикнул по ошибке имя Мутаза вместо Мустаина. Беднягу убили на месте, его голову отослали ибн Тахиру и разложили средн других вражеских голов. Вечером его мать и брат пришли с его телом на похоронных дрогах, рыдая и говоря, что хотят получить его голову. Власти отказали им, и голова осталась выставленной на всеобщее обозрение
{552}.
Один стрелок из лука, защищавший стены, рассказал, как лучник-североафриканец подбирался поближе к стенам, оголял зад и выпускал газы в направлении защитников города, выкрикивая при этом оскорбления. «Однажды я подобрал для него стрелу и выпустил ее прямо ему в задницу. Она прошла у него до горла, он упал и умер. Группа мужчин вышла за ворота и повесила его на обозрение людям»
{553}. Имелись такие же невероятные герои и с багдадской стороны. Табари слышал о юноше, который уселся перед стеной с мешком камней и пращей. Он стрелял в тюрков и в их лошадей, всегда попадая в намеченную цель. Четыре тюркских лучника начали стрелять в него, но постоянно промахивались, в то время как камни пращника разили их лошадей, которые сбрасывали всадников. Наконец к тюркам присоединились четыре североафриканских кавалериста с пиками и щитами. Они атаковали мальчишку, но тог оказался слишком быстрым для них и нырнул в реку. Африканцы попытались последовать за ним, но не смогли его поймать — он вынырнул на другом берегу реки, насмехаясь над ними с безопасного расстояния
{554}. Такие истории, безусловно, быстро распространялись и поднимали моральный дух защитников.
С начала осады в феврале 865 года и до середины декабря обстановка вокруг Багдада оставалась патовой. В некоторые моменты тюрки умудрялись немного потеснить защитников — например, 8 сентября, когда они разбили укрепления у ворот Анбар на северо-востоке, ворвались в город и неистовствовали на улицах, сжигая мастерские работников на водяных колесах и водружая свои флаги на крышах лавок. Все жители бежали перед ними, но к полудню регулярные силы под командованием Буги контратаковали и отбросили нападавших: кого-то убили, кто-то успел выскочить за ворота. Избавиться от тюрков помогли простые люди. К вечеру все было закончено; ибн Тахиру послали множество тюркских голов, был отдан приказ заложить ворота Анбар кирпичом, дабы предотвратить повторение прорыва
{555}.
В итоге конец противостоянию положило не военное поражение, а голод и внутреннее недовольство. В ноябре багдадские силы все еще могли делать вылазки, которые наносили урон тюркской армии, а вдобавок позволяли ополченцам грабить лагерь противника. Лишь решимость командира осаждавших Абу Ахмеда сплачивала тюрков и заставляла их отбрасывать недисциплинированных горожан назад.
24 ноября у дворца ибн Тахира тоже прошла демоне грация, в которой люди кричали «Голод, голод!» и требовали пищи, жалуясь на высокие цены и связанные с этим лишения. Ибн Тахир сдержал народ обещаниями, но начал переговоры с Мутазом. Пока продолжались эти переговоры, простые люди вышли на улицы снова, требуя, чтобы он либо повел их в бой, либо заключил мир. Тут и там вспыхивали бунты; женская тюрьма (это единственное имеющееся у нас свидетельство о подобном институте) была разнесена, заключенных освободили. Только прибытие вооруженных солдат регулярной армии остановило толпу и уберегло от тон же участи мужскую тюрьму.
Наконец 27 декабря пять кораблей, нагруженные мукой и другими продуктами питания, посланные Музазом из Самарры, прибыли в Багдад— и люди узнали, что ибн Тахир сместил Мустанна и признал в качестве халифа Мутаза
{556}. Ибн Тахир приказал своим командирам принести клятву верности, были розданы парадные халаты.
Может быть, ибн Тахир и был готов легко отступиться от своей клятвы — но он не учел мнение народа. Вокруг его дворца собрались толпы, заявляя о своей преданности Мустаину. Внешние двери разбили, и лишь триста вооруженных солдат с трудом оттеснили людей, которые все еще продолжали оскорблять ибн Тахира. Когда горожане перешли к оскорблениям его матери — общепринятый способ по-настоящему оскорбить мужчину, — ибн Тахир спросил одного из своих товарищей: «Интересно, как они узнали ее имя? Ведь оно было известно лишь нескольким рабыням моего отца». Его товарища удивило его добродушное отношение к происшедшему
{557}. Наконец, чтобы успокоить толпу, показался Мустаин. Он появился над воротами дворца рядом с ибн Тахиром, укутанный в плащ Пророка, держа в руках церемониальное копье. Он заявил, что он все еще халиф, не находится под арестом и поведет молящихся в пятницу.
К пятнице секрет вышел наружу, и люди поняли, что ибн Тахир обманул их. Они обвинили его в том, что он готов использовать силу, чтобы гарантировать тюркам и североафриканцам господство в городе. Опять ибн Тахир и Мустаин появились на дворцовой крыше. Толпа попыталась уговорить своего халифа оставить дворец: он ответил, что он тут ни в чем не нуждается, но вскоре переедет во дворец Умм Хабиб, когда-то принадлежавший дочери Гаруна. Мустаину позволили вести себя как халифу на Празднике жертвоприношения (2 января 866 года), когда в сопровождении Буги и Насифа, с копьем власти и копьем Соломона, которые несли перед ним, он вел молящийся народ
{558}.
Несмотря на публичное подтверждение статуса халифа, позиция Мустаина была весьма уязвимой. Ибн Тахир продолжал двойную игру, говоря халифу, что просто ведет переговоры о мире, а врагов уверяя, что согласен на свержение Мустаина. 7 января 866 года ибн Тахир открыл официальные переговоры с Абу Ахмедом. В сопровождении двухсот всадников он ждал принца Аббасидов в красном павильоне, который располагался прямо за городскими стенами. Абу Ахмед прибыл на лодке. В основном переговоры велись о деньгах; одна треть годового дохода должна была идти ибн Тахиру и багдадской армии, две трети — поркам Самарры. А пока за оплату багдадской армии должен был отвечать Мустаин.
На следующий день ибн Тахир поехал к Мустаину и сообщил халифу, что тот смещен. Сначала Мустаин отказался, решив, что Буга с Васифом, которые сопровождали его шесть дней тому назад, когда он вел молящихся на Празднике жертвоприношения, поддержат его. Но заблуждение рассеялось, когда те открыли халифу, что тоже участвуют в заговоре. Ибн Тахир написал Мустаину письмо, в котором говорилось, что у него нет другого выбора, кроме отречения: «если ты снимешь плащ ответственности, перед Аллахом ты хуже не станешь, а все развалилось уже настолько, что восстановить ничего невозможно. Ты ничего не утратишь, поступая так». Осознав глубину предательства, окружавшего его, молодой халиф просто ответил: «Вот моя шея, меч и ковер для казни».
Но конец оказался не таким скорым. Смещенному халифу назначили пенсию и позволили поселиться в Хиджазе, где ему отвели имение, разрешив выезжать только в Мекку и Медину. Но опасения у Мустаина оставались, и он настойчиво просил старших придворных и членов семьи Аббасидов отправиться в Самарру, чтобы получить на документе подпись Мутаза. В субботу 12 января прибыл ибн Тахир с судьями, адвокатами и юристами, чтобы забрать документ на регистрацию, а с ними слуги, чтобы конфисковать драгоценности бывшего халифа. Эмиссары вернулись из Самарры 24 января, они привезли подтверждение Мутазом оговоренных условий, а в пятницу, 25 января, в мечетях Багдада Мутаза объявили халифом
{559}.
Вторая осада Багдада закончилась, и теперь было объявлено о существовании лишь одного халифа — Мутаза в Самарре. Мустаина изгнали, но не в Святые города, как было оговорено первоначально, а в Басит на юге Ирака, где он больше не представлял угрозы.
Однако проблемы халифата на этом вовсе не закончились. Продолжался финансовый кризис. Ежегодное падение доходов от сельского хозяйства все еще продолжалось, усилившись из-за разрушений военного времени — сожженных передвигающимися армиями урожаев и затоптанных полей. Многие плодородные земли Ирака все еще оставались бесплодными даже после ухода войск. Тюрки Самарры имели твердое намерение сохранить монополию на получаемые доходы, а обделенные гарнизоны Багдада и других областей намеревались отстаивать свою долю. Требования военных были настойчивыми и очень жесткими. Твердое и компетентное правительство, а также грамотное у правд си не землями могли и подождать.
Хаос в центре привел к падению авторитета власти халифа в провинциях. Точно так же, как гражданские войны начала пятого века в Римской империи привели к отзыву гарнизонов из Британии, и провинции постепенно начали ускользать из империи, так и гражданская война в Багдаде привела к тому, что командиры Аббасидов с войсками были отозваны из отдаленных областей, чтобы поддержать ту или другую сторону. В Ракке местное население попросило войско остаться, по его командиры рвались в Самарру и бросили людей на произвол судьбы. Рей, стратегический опорный пункт на пути в Хорасан и место рождения Гарун аль-Рашида, уже более никогда не был под властью халифов. Восстания и перевороты стали обычным явлением во многих провинциях; такие области, как Сирия, большая часть Джазиры, Армения и Азербайджан, Египет, большая часть Аравии вскоре вышли из-под контроля халифата. Эти области были потеряны легко, и последующие халифы должны были упорно работать, чтобы вернуть хотя бы часть утраченного. С потерей территорий ушли и годовые налоги с них, добавив еще один штрих к неудержимому движению вниз по суживающейся спирали.
* * *
Новому халифу было всего девятнадцать лет, когда тюрки объявили его предводителем. Он был высоким юношей со светлой кожей и густыми темными волосами. У него были прекрасные глаза и узкое красивое лицо
{560}. И он никогда не сопротивлялся судьбе.
Некоторые свои проблемы он создал себе сам. Когда был убит его отец Мутаввакиль, он являлся членом антитюркской партии, но позволил себе быть возведенным на трон теми самыми тюрками, которым так энергично противостоял прежде. Вероятно, они сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться — по и тюрки недолго были верны своему юному властителю. Впрочем, новый халиф унаследовал и другие проблемы, и худшей из всех являлся продолжавшийся финансовый кризис. Именно он превратил выпавший Мутазу шанс в сущий кошмар.
Сначала правление нового халифа было отмечено духом примирения. Ибн Тахиру позволили сохранить его положение в Багдаде, а Буге и Васифу вернули благоволение. Васифу помогла его сестра Суад, которая была кормилицей брата халифа, Муайяда. Через нее он переслал халифу миллион дирхемов, предусмотрительно закопанных в его дворце, что сгладило ему утверждение во власти. Несмотря на различие в их положении, рядовые тюрки оказывали давление на Мутаза, чтобы восстановить в милости и Васифа, и Бугу, заявив, что «они наши отцы и наши начальники»
{561}.
Однако вскоре новый халиф попытался избавиться от конкурентов. Аббасиды так никогда и не создали четких и ясных норм взаимоотношения между родственниками, подобных тем, какими пользовались султаны Оттоманской империи в конце шестнадцатого и в семнадцатом веках — избавлявшиеся от своих братьев или от нового султана с использованием глухих статистов и шелковой тетивы. Но Мутаз вовсе не хотел рисковать. Его первой жертвой стал брат Муайяд, его сотоварищ по многим приключениям. Теперь его арестовали и заковали в цепи, поместив в крохотную комнатку во дворце Джавсак. 24 июля его официально лишили положения наследника, а 8 августа были приглашены судьи и свидетели, чтобы осмотрели предъявленное тело без каких-либо ран или следов насилия на нем. Облаченный в саван и обработанный погребальными благовониями труп Муайяда был отправлен на осле к его матери, и ему позволили устроить достойные похороны. Никто не верил, что бывший наследник умер от естественной причины — мнения разделились между теми, кто считал, будто его завернули в меха и держали так, пока он не умер от перегрева, и теми, кто думал, что его посадили на кусок льда и держали, пока он не умер от переохлаждения
{562}.
Место Муайяда в тюрьме занял другой брат халифа — Абу Ахмед, тот самый полководец, что столь успешно руководил силами Мутаза в войне против Багдада. Сразу же после победы ему вручили почетный халат и золотую корону, украшенную драгоценными камнями; она имела форму
калансувы и выглядела похожей на папскую тиару. Тогда он сидел на троне с украшенным драгоценными камнями мечом и наблюдал, как его командирам раздают почетные халаты. Это происходило 9 февраля 866 года
{563}. Теперь же, в августе, он был заключен в тюрьму — в ту же самую мрачную темницу, где только что умер его брат. Жизнь Абу Ахмеда была спасена только благодаря уважению, которое испытывали к нему тюркские войска, находившиеся под его командованием.
Поверженный халиф Багдада Мустаин не имел настолько могущественных сторонников, чтобы они могли спасти его. Несмотря на самые торжественные письменные гарантии, его не пустили в ссылку в Хиджаз, а держали в Васиге. В октябре его под усиленным конвоем привезли в Самарру. Христианский доктор по имени Фадлан, сопровождавший свергнутого монарха, вспоминал, что при приближении к столице того стали одолевать нехорошие предчувствия. Затем они увидели, что со стороны города к ним приближается группа всадников. Бывший халиф, который путешествовал в носилках со своей няней, попросил Фадлана выехать вперед и выяснить, кто это: «Если это Саид Хранитель дверей, тогда со мной покончено!» Фадлан вернулся с новостью, что это действительно Саид, и Мустаин ответил древним мусульманским выражением смирения: «Мы все от бога и к нему возвращаемся». Когда всадники приблизились, Фадлан мудро отстал от группы и издали наблюдал, как люди застал ил и Мустаина спуститься на землю и прикончили мечами и его, и няню. Когда он приблизился к месту действия, то увидел труп, уже без головы, одетый лишь в нижние штаны. Фадлан с товарищами принес землю с недалекого берега реки и прикрыл трупы. А затем все члены свиты отправились своим путем.
Когда Мутазу принесли голову Мустаина, он играл в шахматы. «Оставьте ее», — приказал халиф и продолжил игру. По окончании игры он приказал закопать голову, выдать Саиду Хранителю дверей 50 000 дирхемов, а также предоставить доходный пост в Басре
{564}.
Избавление от соперников из семьи Аббасидов не решило фундаментальных проблем Мутаза. Табари объясняет положение вполне четко: оплата, которую требовали тюрки, североафриканцы и другие солдаты, складывалась в ежегодную сумму 200 000 000 динаров, что являлось эквивалентом двухлетних налогов со всей империи. Положение государства было неустойчивым, но военные не хотели ничего знать и не остановились бы ни перед чем, чтобы обеспечить себе экономическое выживание. Тем временем все провинции оказались захвачены узурпаторами или местными командирами, для которых халиф в Самарре все больше становился лишь раздражающим фактором. Багдад сотрясали беспорядки, так как разные группы солдат пытались заставить ибн Тахира платить им; солдаты рыскали по городу, высматривая, что бы еще вытрясти из горожан. В Самарру из Багдада не поступало никаких денег — как, впрочем, и из когда-то богатых окрестных земель.
В Самарре разгневанные и доведенные до отчаяния войска выбрали собственных военачальников. Отношения между Васифом, Бугой и рядовыми тюрками давно уже были напряженными, и примирение, которое последовало после осады Багдада, продержалось недолго. Первой жертвой оказался Васиф. 29 октября 867 года вспыхнул бунт — тюрки и другие военные восстали против Васифа и Буги и потребовали свое жалование. Ответ Васифа был резок и недипломатичен: «Вы действительно считаете, что у нас есть деньги? Вы получите шиш!»
Буга вместе с другими командирами отправился обсудить ситуацию с халифом, оставив Васифа. Почти немедленно на него напали солдаты, вытащили из дома одного из офицеров, где Васиф пытался спрятаться, и отрубили ему голову. Надев ее на одну из палок, которые люди использовали для вытаскивания хлеба из печей, они пройти с ней по улицам города. Солдаты хотели ограбить дома Васифа, но Салих вместе с другими его сыновьями быстро среагировали и привели семейные резиденции в состояние обороны
{565}.
Следующей подошла очередь Буги. Он становился все более непопулярным у рядовых тюрков, и когда понял, что доверие халифа к нему тоже упало, решил бежать из Самарры. В ноябре 868 года он направился на север, к Мосулу. С ним было около тысячи человек, включая сотню его собственных
гулямов, и много денег. Увы, второпях беглецы забыли взять с собой палатки, чтобы защититься от утренних зимних заморозков. Однажды вечером солдаты послали к своему предводителю офицера с жалобой. Буга потерял самообладание и сбежал — без оружия и практически в одиночку, направившись вниз но течению к Самарре, надеясь найти там убежище у Салиха, сына его старого друга Васифа. Стража на мосту перехватила лодку, и халифу отправили записку, сообщая, что схватили Бугу. Халиф, который спал теперь в одежде и полностью вооруженный, а также не пил вина с тех пор, как Буга увел своих людей, приказал немедленно принести голову пленника. Пятнадцать детей Буга сбежали в Багдад, где их схватили солдаты ибн Тахира и поместили в тюрьму в старом дворце Мансура в Круглом Городе
{566}.
Сын Васифа Салих все еще пытался найти средства для тюрков. Он решил, что правительственные секретари намеренно прячут деньги, которые предназначались войскам. В четверг 19 мая 869 года дело дошло до самого верха. Халиф лег поздно, а когда проснулся в полдень, то вызвал секретарей во дворец на встречу. Салих напал на них, и возник дикий гвалт. Когда тюркские войска ворвались во дворец и арестовали несчастных министров, халиф успел сбежать в свои личные покои. Пленников избили и уволокли, надели на них тяжелые цепи, но все усилия выколотить из них деньги ни к чему не привели: денег просто не было
{567}.
По мнению рядовых тюрков, халиф, который не может платить жалованье, вообще никому не нужен. Они решили дать Мутазу последний шанс: если он выплатит им жалованье, они убьют для него Салиха ибн Васифа. Это было соблазнительное предложение, но у Мутаза не лежал на столе чек. Он послал за своей матерью, грозной Кабихой, которая ответила (как оказалось, неправду), что ей нечего дать. Это стало концом пути для молодого халифа. 11 июля 869 года солдаты пришли за ним. Перепуганный криками приближающихся войск, он стал искать убежища в личных покоях. Тюрки потребовали, чтобы он вышел к ним. Халиф ответил, что вчера принял лекарство, от которого у него понос. Он сегодня уже двенадцать раз был в туалете и поэтому слишком слаб, чтобы выйти. Если они не верят ему, то могут прислать представителя, чтобы тот убедился сам.
Но солдат не интересовали отговорки. Его вытащили из покоев и, вероятно, избили дубинками. Когда халиф появился на людях, его рубашка была порвана в нескольких местах, а на плечах виднелись следы крови. Его поставили босиком на солнцепеке во дворе дворца. В Самарре наступил полдень. На беспощадной летней жаре несчастный Мутаз пытался облегчить положение ног, поднимая то одну, то другую с горячей земли. Тюрки продолжали бить его по голове и оскорблять. Под конец они устали развлекаться, его снова утащили внутрь, где заставили написать акт отречения и расписаться. В бумаге говорилось, что Мутаз понял, как не подходит для поста халифа и насколько будет лучше для мусульман, если он откажется от власти. Теперь халиф сделал эго легко и без принуждения
{568}. Акт оговаривал безопасность для сестры халифа, его матери и маленького сына, но не для самого Мутаза. Несмотря на очевидно фальшивое уверение, что халиф действовал по доброй воле, документ был юридически заверен — никто не мог бы противостоять давлению грубой военной силы.
Затем свергнутого халифа увели и три дня не давали ему еды и воды. Даже когда он попросил таток воды из колодца, ему отказали. Наконец, вечером 16 июля Мутаза, жалкого и одинокого, заперли в маленьком кирпичном подвале и закрыли дверь. На следующее утро он оказался мертвым. Затем был разыгран обычный циничный спектакль: члены семьи Аббасидов и военачальники явились, чтобы свидетельствовать, что на теле покойного нет следов насилия. Наконец, его положили рядом с братом Мунтасиром в удаленной части дворца Джавсак.
Нового халифа подыскали очень быстро. Можно подумать, что после ужасной судьбы Мутаза ни один человек не решится принять это поистине смертоносное звание. Однако новый кандидат был уверен, что справится лучше предшественников и восстановит халифат в его прежней славе. Мухтади, сын халифа Васика, и таким образом, кузен Мунтасира и Мутаза, был относительно пожилым во время возведения на трон — ему уже исполнилось тридцать восемь лет. Это был невысокий лысеющий человек, коренастый, с широкими плечами и высоким лбом. У него были синие глаза, унаследованные, вероятно, от матери-гречанки, и длинная борода; его лицо постоянно сохраняло суровое выражение
{569}.
Мы не знаем, почему среди множества принцев Аббасидов выбрали именно его. Не исключено, что он выдвинул себя сам, представив свою программу существования халифата. В любом случае двор Мухтади резко отличался от двора его предшественников. Там не было ни вина, ни музыкальных инструментов, ни каких-либо фривольностей. Певцов обоего пола изгнали из Самарры, львов, которых содержали во дворце халифа, убили, а собак увели
{570}. Его семья обязана была жить жизнью набожных аскетов. Мухтади хвастался, что, в отличие от Мутаза,
у меня нет матери, которая каждый год требует сумму в десять миллионов дирхемов на содержание своих рабынь, евнухов и прихлебателей. А что касается меня и моих детей, нам нужно только на еду и немного для моих братьев, у которых сейчас трудные времена{571}.
Новый халиф также намеревался серьезно относиться к своим общественным обязанностям. Он лично сидел каждую неделю в суде
мазалим, предназначенном для разбора жалоб, принимая прошения от граждан как справедливый и доступный монарх. Он надеялся и верил, что такая политика выстроит доброжелательные отношения между простыми мусульманами, и это поможет избавиться от тирании тюркских военных. Возможно, со временем он бы и преуспел, но финансовый кризис и продолжавшиеся требования солдат подхлестнули дальнейшие события.
В драмах, которые трясли халифат всю осень 869 года, а также весну и начало лета 870 года, участвовало несколько игроков. Это были рядовые тюрки, обосновавшиеся в кварталах Дур и Карх в Самарре. Их было лишь около пяти тысяч, но они были хорошо вооружены и решительно настроены. Их главным желанием было то, чтобы им стабильно платили. Тюрки были начеку, опасаясь, что их заменят другими войсками, например, североафриканцами, и быстро сообразили, что тюркские офицеры обманывают их. Эти офицеры были уже вторым поколением людей, первоначально служивших Мутасиму, среди них особенно выделялись Муса, сын Буги Старшего, и Салих, сын Васифа; оба участвовали в убийстве Мутаввакиля девять лет тому назад, но теперь владели огромными поместьями и собственными домами. Существовали еще гражданские администраторы, персы и арабы, которых тюрки — как офицеры, так и рядовые, — подозревали в присвоении денег, по праву принадлежавших им.
Мухтади стал халифом 11 июля 869 года, а в начале сентября его правление уже находилось в кризисе. В последние дни Мутаза жестокий убийца Салих ибн Васиф, отчаявшись найти деньги для тюрков, захватил несколько самых важных чиновников, чтобы попытаться выколотить деньги из них. Теперь он начал их пытать. Как ни странно, но у нас есть запись того, что происходило, сделанные самим палачом, человеком по имени Душаби, и когда их читаешь, кровь стынет в жилах. Из этих записей становятся очевидными жестокая радость, которую получал этот человек от причинения боли, и его презрение к отсутствию способности переносить эту боль, выказываемое несчастными жертвами.
Работой Душаби было не убить этих людей (во всяком случае, пока), а вытрясти из них любые оставшиеся средства. Он заявил первой своей жертве, Ахмеду ибн Израилу, что «смерть в этой жизни и муки и бесчестие в следующей — вот твоя судьба, если не будет тебе прощения и милосердия от Аллаха и снисходительности со стороны твоего халифа». Для Ахмеда единственным способом получить это прощение было выдать любые деньги, которые он мог бы иметь. Когда слов оказывалось недостаточно, Душаби требовал принести бичи и приказывал Ахмеду стоять на солнце. «Я с жаром кидался на него, хотя успех мог ускользнуть из моих рук, если бы он проявил немного мужества и стойкости». В конце концов Ахмед согласился написать обязательство на 19 000 динаров, которых у него, скорее всего, и не было, и на время его оставили в покое.
Следующий человек, Абу Нух (Нон) был обращенным из христиан, поэтому Душаби смог обвинить его в сохранении в глубине души старой веры и в осквернении мусульманских женщин; «Абу Нух на это ничего не ответил, такой слабый, несчастный человечек». Третий, Хасан ибн Махлад, «уже был слабым и раздавленным», и Душаби издевался над ним, говоря, что человек его положения не имеет права производить впечатление робкого и несостоятельного. В конце концов Хасан подписал обязательство на крупный драгоценный камень, стоивший 30 000 динаров.
Их суровые испытания еще далеко не закончились. Хасана отослали назад в тюрьму, но 8 сентября двух других поставили перед Салихом ибн Васифом в общественных воротах дворца. Каждый получил пятьсот ударов плетью — палачи по очереди наносили два удара и отходили в сторону, пока их товарищи наносили два следующих. Наконец их протащили по улицам на спинах ослов-водоносов, посаженными лицом к хвосту с выставленными всем на обозрение исполосованными спинами. Оба, и Ахмед, и Абу Нух, умерли еще до окончания этой ужасной процессии.
Порка секретарей произвела глубокое впечатление: в Самарре жили уважаемые люди, глубоко образованные и знавшие великие традиции чиновничества Аббасидов; эта варварская выходка лишний раз продемонстрировала беспощадность тюркского владычества. Халиф мог лишь горестно жаловаться: «Разве нет другого наказания, кроме кнута и смерти? Разве заключения в тюрьму недостаточно? — вопрошал он снова и снова. — Мы все от Аллаха и к Нему вернемся»
{572}.
После смерти секретарей Самарра на несколько месяцев затихла, хотя в Багдаде беспорядки не прекращались. Однако в декабре разразился новый кризис. Его вызвало прибытие из Рея Мусы ибн Буги Старшего. Мусу посылали на север Ирана, чтобы отразить угрозу нападения Алидов, восставших в горах к югу от Каспийского моря. Его люди добились некоторых успехов, но тут прослышали, что Салих ибн Васиф с друзьями прибирают к рукам государственные средства, пока они торчат на этой недружелюбной земле. Они хотели назад, в Самарру, чтобы отстаивать там свои интересы, поэтому Муса решил прервать кампанию и вернуться.
Халиф испугался: Муса и Салих были смертельными соперниками, и появление первого в столице неизбежно обостряло и без того напряженную ситуацию. Но в этом было и еще кое-что. Муса оставлял восставшим еретикам важный стратегический район. Мухтади молился и горько жаловался богу, что Муса предал веру мусульман. Он сам пошел бы воевать за мусульман, где бы они ни подверглись нападению, как и следует хорошему халифу. Но Аллаху следует наградить его лишь за добрые намерения, потому что у халифа нет сторонников, чтобы превратить желания в реальность.
19 декабря Муса вступил со своими войсками в Самарру. Он напрямую отправился к халифу, который сидел во Дворе Жалоб, схватил его и увез, а тюрки тем временем заполонили дворец. Мухтади протестовал, и Муса поклялся могилой Мутаввакиля, что не собирается причинять халифу зла. Это не могло успокоить Мухтади: в конце концов, Муса был одним из тех тюрков, которые участвовали в убийстве Мутаввакиля — а затем всех, кто об этом знал.
Тем временем Салих, найдя поддержку среди сбежавших 1 юрков, спрятался. Из своего потайного места он написал, что у него есть значительная сумма денег, часть которой была конфискована у секретарей, и что они все должны отложить решение дела. Халиф предлагал установить перемирие, но это лишь заставляло Мусу и его сторонников подозревать его еще больше, и некоторые тюрки начали поговаривать о его свержении.
Мухтади решил воспротивиться. Тюрки собрались в зале приемов, и халиф вышел к ним с мечом, умащенный благовониями, в чистых халатах. «Я пришел противостоять вам и готов умереть. Это мой меч, и я буду биться до тех пор. пока смогу его держать в руке. Бог видит, что если хоть один волос упадет с моей головы, вы все умрете. Разве вы неверующие? Разве у вас нет стыда? Разве вы не уважаете Аллаха? Сколько еще продлится это восстание против халифов, эта наглость и нахальство перед Господом?»
Халиф подчеркнул, что он и его семья бедны, у них нет ничего, что можно было бы забрать. Если тюрки хотят найти Салиха и убить его, они могут сделать это, но сам он не знает, где тот находится
{573}.
Это была смелая попытка обратиться к достоинству офицеров; по крайней мере, какое-то время тюрки сомневались, что им делать. Рядовые солдаты вплотную приблизились к халифу и стали жаловаться, что их лидеры, такие люди, как Муса и Салих. процветают, владеют огромными состояниями и живут в роскоши, в то время как они пребывают в отчаянной нужде. Они предложили ему союз против офицеров, попросив назначить одного из его братьев их командиром и поддерживать прямую связь с ним. В ответ халиф написал, что благодарит их за верность, но снова подчеркнул, что у него просто нет средств заплатить им прямо сейчас. Он с радостью удовлетворил бы их нужды даже за счет лишений собственной семьи — но его семья уже так бедна, что это ничего не даст.
Когда тюрки услышали ответ, они снова потребовали, чтобы он принял личное командование (и платил бы им), и чтобы была восстановлена должная военная система. Они хотели, чтобы каждые десять человек имели сержанта, а каждая сотня — командира, как было в старьте дни, а им самим регулярно платили каждые два месяца. Женщины и другие нахлебники должны быть убраны из платежных ведомостей, а офицеры не должны больше награждаться поместьями.
12 января 870 года халиф ответил, согласившись на их требования. Соглашение, которое удовлетворило бы обе стороны, казалось возможным. Единственной проблемой оставался Муса ибн Буга и другие офицеры, которых так легко скидывали с их постов. Возникла тупиковая ситуация, когда офицеры собрали своих сторонников, вооружили их и повели по улицам столицы.
16 января пришли новости, что группа бедуинских разбойников сожгла маленький городок Балад возле Мосула. Халиф увидел в этом возможность дать командирам какое-то полезное дело для разнообразия, а заодно убрать их из города. Но командующие отказались уходить, боясь, как они сказали, что Салих ибн Васиф выйдет из своего укрытия и в их отсутствие наделает дел.
В воскресенье 28 января хозяин дома, расположенного напротив дворца Салиха, сидел, болтая с друзьями, когда заметил вынырнувшего из аллеи мальчика-раба, который выглядел ужасно испуганным. Прежде чем они успели спросить его, что он тут делает, мальчик исчез. Вскоре появился оруженосец Салиха с четырьмя товарищами и тоже исчез в аллее. Скоро они появились вновь, ведя Салиха. Выяснилось, что мальчик зашел в дом в переулке, чтобы попросить воды, когда услышал, как кто-то сказал по-персидски: «Командир, прячься быстро, потому что в дом вошел мальчик попросить воды». Мальчик услышал зги слова и помчался сообщить о них оруженосцу Салиха, которого знал. Но тот решил выдать старого хозяина его врагам. Он нашел его в доме при помощи зеркальца в руке, сделав вид, что расчесывает бороду.
Салих выскочил из комнаты, и оруженосец испугался, как бы тот не вытащил меч. Но когда он вошел за Салихом в следующую комнату, то увидел, как тот что-то шепчет в углу. Салих просил отпустить его. Взявший его в плен человек сразу отказался, но предложил торг: он проведет его мимо резиденций членов его семьи и сторонников, и если кто-нибудь из них выйдет, чтобы помочь Салиху, он позволит пленнику уйти.
Группа двинулась по улице, Салих шел босиком, с непокрытой головой. Никто не вышел ему на помощь, и маленькая процессия проделала по улицам путь в три километра. Когда они достигли дворца Мусы ибн Буги, Салих оказался окружен врагами. Его взяли под стражу и повели к дворцу халифа, но когда конвой проходил у подножия большого спирального минарета, который до сих пор возвышался над Самаррой, один из солдат ударил Салиха сзади. После этого все закончилось очень быстро.
Людей с головой Салиха привели к халифу на закате, когда тот молился. Голова убитого была завернута в одежду раба, причем со свертка еще капала кровь. На следующий день, в понедельник, голову пронесли по городу, и какой-то поэт оказался под таким впечатлением от этого зрелища, что сочинил стихотворение, в котором говорилось, что Муса (то есть Моисей) сразил фараона.
Теперь Муса ибн Буга остался единственным еще оставшимся в живых лидером группы тюрков, убившей Мутаввакиля девять лет тому назад. Но начавшееся кровопролитие не закончилось. После смерти Салиха Муса со своими людьми оставил Самарру и отправился на север сражаться с бедуинами, которые сожгли Балад— но, как и прежде, его люди сохраняли живой интерес к тому, что происходит в столице. Существует несколько рассказов о том, что случилось потом
{574}, и по крайней мере общая картина случившегося ясна.
Согласно некоторым источникам, халиф попытался использовать отсутствие Мусы для подрыва его позиций. Он написал старшему командиру в армии Мусы по имени Баникбек, приказав ему принять командование на себя и привезти Мусу к нему в цепях. Но Мухтади неверно оценил этого человека: Байикбск отнес письмо прямо к
Мусе, и они договорились совместно действовать претив халифа. Баникбек прибыл во дворец Джансак в субботу 16 июня и сразу же отправился к придворным. Он принес клятву верности халифу и извинился, что не схватил Мусу. Мухтади был подозрительным— у протестующего Байикбека забрали оружие и арестовали его. Тогда вооруженный эскорт военачальника окружил дворец. Среди советников Мухтади был член семьи Аббасидов по имени Салих ибн Али, прямой потомок халифа Мансура. Он понуждал своего владыку действовать более смело, чем действовали его предшественники. Салих напомнил Мухтади, как в ранние дни халифата Аббасидов Мансур казнил Абу Муслима, а когда сторонники Абу Муслима увидели его голову, то мирно разошлись — хотя многие из них ранее считали его чуть ли не богом. Халиф должен сделать то же самое с беспокойным тюрком.
Исторические примеры — опасная вещь. На Мухтади рассказ произвел впечатление, он вызвал кузнеца, который изготавливал колья и шесты для палаток и был его доверенным лицом. Этот человек убил Байикбека, а голову выбросил сопровождавшим его солдатам. Но те отнюдь не подумали мирно разбегаться. Вместо этого они восстали и убили командира дворцовой стражи. Халиф вызвал дополнительные войска из тех рядовых тюрков, которые совсем недавно принесли ему клятву верности. Возникла беспорядочная свалка.
Тогда Мухтади решил лично обратиться к тюркам, рассчитывая на тот же хороший результат, что получил раньше. Он вышел к ним со своим советником Салихом ибн Али, который воздел Коран над головой и призвал правоверных прийти на помощь своему халифу. Вместо этого солдаты ответили, что по призыву родственников мертвого Байикбека все тюрки отложили в сторону свои распри и объединились против халифа.
Тогда халиф в отчаянии начал взывать о помощи к народу. С мечом в руке он прошел через весь город, призывая простой народ поддержать его. «Люди, я повелитель правоверных. Выходите на бой, чтобы защитить своего халифа!»
Никто не вышел. Пока Мухтади шел через пустынные улицы, мимо глухих стен из глиняного кирпича и запертых дверей, он понял, что его игра проиграна. В конце концов он нашел убежище во дворце. Он отложил меч, переоделся в простой белый халат и вышел на крышу, откуда мог, перепрыгивая с одного здания на другое, спастись от преследователей.
Враги двигались вплотную за ним; поднявшись по лестницам, они обнаружили халифа на крыше. Раненый стрелой, он был вынужден сдаться. Долго Мухтади не протянул. Тюрки с некоторой долей справедливости упрекали его в плохом поступке по отношению к Мусе и в убийстве Байикбека, которому он давал письменные обещания. Ходили разные истории о том, как умер Мухтади — но в основном считалось, что его убили, разбив ему яички. К среде 20 июня он уже был мертв, и на следующий день народу выставили его тело, обмытое и подготовленное к похоронам, с незакрытым лицом.
Мухтади ясно понимал, как надо восстанавливать халифат, что импонировало чувствам мусульман; он имел широкую поддержку в народе. Окажись у него больше времени, он мог бы и преуспеть. Если бы он находился в Багдаде с его огромным населением из ученых, купцов и простых людей, то получил бы поддержку, в которой так нуждался. Но в Самарре, где большинство населения состояло из военных или государственных служащих, не возникло массового народного энтузиазма, который позволил бы его политике заработать. Теперь стало ясно, что руководить страной отныне будут военные: ни один правитель не мог выжить, если не сотрудничал с ними.
Смерть Мухтади от рук тюркских солдат отметила конец кошмаров в Самарре, но не привела к реставрации халифата в том виде, в каком он существовал в ночь убийства Мутаввакиля. Девять лет анархии разрушили империю, которую Мансур собрал, а Мамун оживил. Хаос в Самарре сопровождался падением власти Тахиридов на северо-востоке Ирана. Контроль в родных землях Аббасидов перешел в руки местных мусульманских правителей, которые больше не посылали халифам ничего, кроме сухих писем с едва заметным налетом уважения. Когда люди в Рее обратились к Мусе ибн Буге, чтобы он защитил их от диких дейлемитов с гор на севере, тот отверг их просьбы — и бросил жителей Рея на произвол судьбы из-за своих амбиций в столице. На западе назначенный Аббасидами правитель Египта Ахмед ибн Тулун объявил себя первым независимым правителем страны со времен Клеопатры.
В течение следующих шестидесяти лет халиф и ею сторонники боролись за обновление и расширение своей власти. На вершине этого возрождения, в конце краткого правления Муктафи в 908 году, халифы вернули неустойчивый контроль над всем Ираком и большой частью Сирии, Египта, а также областями западного Ирана. Халифат Аббасидов всегда был крепок именно региональной властью. Все это снова было потеряно во время долгого и гибельного правления Муктадира с 908 по 932 год. Халифат, разъедаемый финансовым кризисом и разрушенный военными беспорядками, ослабел до полной несостоятельности и в результате к 930-м годам исчез как политическая сила. Уменьшающиеся налоги и ресурсы разоренных сельскохозяйственных земель Ирака не могли более поддерживать амбиции халифов. Последний великий визирь, ибн Мукла, был посажен в подземную тюрьму, его руки, создававшие прекраснейшую арабскую каллиграфию, отрубили в злобной жажде мести.
К этому времени армия подмяла под себя все, что можно. Великие дворцы были разграблены и покинуты, большая часть Багдада лежала в руинах, оросительные системы были разрушены так, что уже не подлежали восстановлению. Великий канал Нахраван, разрушенный в военных целях, тоже больше никогда не был восстановлен. Разбойники-бедуины украли даже священный Черный Камень из Каабы в Мекке, а византийцы усилили натиск по всей протяженности границы. Неспособность халифов проводить
джихад и защищать паломников была видна всем. В 935 году военный авантюрист по имени ибн Раик захватил власть как
Амир аль-Омара, Эмир Эмиров, лишив Аббасидов последних остатков их светской власти.
Исчезновение халифата Аббасидов отмстило конец целой эры. Оно символизировало прекращение существования единого мусульманского государства под властью одного правителя. В 919 году соперничающий шиитский халифат Фатимидов преобразовался в государство Тунис, а в 969 году Фатимиды захватили и Египет. В 931 году Омейядами был образован еще один халифат — на территории далеких Испании и Португалии. Но ниспровержение Аббасидов отметило конец гораздо более долгой и древней истории. Халифат Аббасидов оказался последним государством, которое использовало ресурсы Месопотамии для поддержания громадной империи. С третьего тысячелетия до нашей эры следовавшие одно за другим государства шумеров, вавилонян, ассирийцев, арамейских персов и иранских Сасанидов использовали плодородие, даруемое Тигром и Евфратом, для создания великих цивилизаций и мировых империй. Аббасиды были последними властителями, которые поддерживали эту древнюю традицию. К десятому веку разоренные и покинутые земли, эксплуатируемые жадной и продажной администрацией, опустошенные мародерствующими бандами солдат, которым не платили денег, не могли больше содержать ничего, кроме мелких княжеств. Настоящая власть над мусульманским миром перешла в Египет и Иран, а позднее — в Турцию.
Но память о халифате выжила во всех последующих поколениях. Во все времена мусульмане помнили его величие и стремились восстановить его власть, престиж и единство. Память о древнем величии — это мощный стимул и для Усамы бен Ладена с его последователями. Поэтов, которым покровительствовали халифы, все еще читают и признают величайшими творцами на арабском языке, а переводы, спонсируемые владыками того времени, создали базис для более высоких знаний не только в исламском мире, но и на средневековом Западе.
Аббасиды определили стиль и вид мусульманской монархии: они показали, как должны себя вести халиф и визирь, как украшать дворец, как составлять формальные воззвания; плавный и изящный арабский алфавит сам по себе был продуктом канцелярии Аббасидов. Для потомков смиренного арендатора Хумаймы это было поразительным достижением.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Первоисточники и сокращения
Aghani = al-lsfahāni,
Kitab al-Aghāni, ed. Yusuf al-Biqâ’i and Gharїd al-Shaykh, 25 vols. (Beirut, 2000)
Akbbar al-Abbax = Anon.,
Akbbār al-Abhās, cd. A. A. al-Duri (Beirut, 1972)
Bal.,
Ansab = al-Baladhuri,
Ansab al-Ashraf vol. HI, ed. A. A. al-Duri (Beirut, 1978)
Bal., Futuh = al-Balādhuri,
Futuh al-Buldān, ed. M. J. de Goeje (Leiden, 1866)
CHAL = Ashtiany, Julia (ed.),
Abbasid Belles-Lettres: Cambridge History of Arabic Literature («Художественная литература Аббасидов: Кембридж, Исторический отдел Арабской Литературы»), vol. 11 (Cambridge, 1990)
Fihrist — al-Nadim,
Fihrist, ed. Rida Tajaddud (Beirut, 1988)
Hadaya = Anon.,
Book of Gifts («Книга подарков»), trans. Ghâda Qaddumi (Cambridge, MA, 1966)
Jah = al-Jahshiyāri,
Kitāb al-Wuzarā, ed. M. al-Saqqa et al. (Cairo, 1949)
Jahiz,
Qiyan = The Epistle on Singing-girls by Jāhiz («Послание Джахиза девушкам-певицам»), trans. A. F. L. Bceston (Warminster, 1980)
Jahiz,
Rasa'il = Rasā'il al-Jāhiz, ed. A. M. Harun, 2 vols. (Beirut, 1991)
Ibn Abi Tahir = Ibn Abi Tahir Tayfūr,
Kitāb Baghdād, ed. H. Keller (Leipzig, 1908)
Ibn Khali. = Ibn Khalikān,
Wafayât al-acyān, ed. 1. Abbas, 8 vols (Beirut, 1968-72);
Ibn Khallikan s Biographical Dictionary («Биографический словарь Ибн Халлигана»), trans. M. de Slane, 4 vols. (Paris, 1842-71)
Khatib = al-Khatib al-Baghdādi,
Ta'rïkh Baghdād, ed. M. A. Ata, 24 vols. (Beirut, 1997)
Lassner — Lassner, Jacob,
The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages: Text and studies («Топография Багдада в начале Средних веков: Текст и исследования») (Detroit, 1970)
Mas. = al-Ma
csūdr,
Миrūj al-dhahah, ed. C. Pellat, 7 vols. (Beirut, 1966-79). Ссылки даны на номера параграфов
Mas.,
Tanbih = Mas
cūd,
Taribïh wa 'l-shāf (Beirut, 1981)
Misk. = Ibn Miskawayh,
Tajārib al-umam. ed. H. F. Amedroz, 7 vols. (London, 1920-21). Ссылки на 1 том арабского текста
Sabi,
Rusum = Hilāl al-Sābi,
Rusüm Dbr al-Khitāfa. ed. M. Awwad (Baghdad, 1964)
Shabushti = Shābushti,
Kitāb al-diyārāt, ed. G. Awad (Baghdad, 1966)
Tab. = al-Tabari, Muhammad ibn Jarir,
Annales, ed., M. J. de Goçje et al., vol. Ш (Leiden, 1879–1901)
Yaq. = al-Ya
cqũbi,
Ta'rïkh, ed. M. Houtsma, 2 vols. (Leiden, 1883)
Yaq.,
Buldan = al-Ya'qūbi, Kitāb al-Buldān, ed. M. J. de Goeje (Leiden, 1892)
Yaqut= Yāgūt al-Hamawi,
Mucjam al-bildān, ed. F. Wustenfeld (Leipzig, 1866-70)
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Хумайма. Теперь разрушенная и опустевшая, когда-то она была цветущей местностью. Часть руин дома семьи Аббасидов. Различим ряд комнат вокруг центрального дворика.
(Фото автора)

Внизу. Хумайма: восстановленные стены маленькой домашней мечети Аббасидов
(Фото автора)

Ворота Алии. Старая Хорасанская дорога в Бизитунс (Иран), где она проходит через горы Зарос. Эта дорога связывала Багдад с Иранским плато, и именно тут проходила армия Аббасидов в 749 году, чтобы свергнуть Омейядов, а в 812 году — войска Тахира, чтобы свергнуть Амина.
(Фото автора)

Древние стены Мерва (Туркмения). Город, которому уже тысяча лет, был центром мусульманского правления в Хорасане и местом, где Абу Муслим впервые провозгласил халифат Аббасидов.
(Фото автора)

Мерв. Вне городских стен располагались укрепленные дворцы персидской аристократии, Эти здания, вероятно, построены Тахиром и его семьей в начале IX века.
(Фото автора)

Багдад. Здесь внешне не осталось ничего от города первых халифов Аббасидов, но рисунок XIX века, сделанный лейтенантом британского флота Дж. Фнцджеймсом, схватывает некую атмосферу — купола и дворцы у Тигра, мост из лодок через реку.
(Взято из: Ф. Р Чесни. «Отчет о Евфратской экспедиции», Лондон. 1868)

Басра. Огромный портовый город южного Ирака, лежащий среди каналов и пальмовых рощ, которые давали самые лучшие финики, представлен романтическим рисунком подполковника Эсткорта из 43-го легкого пехотного полка.
(Чесни)

Ракка на Евфрате была основана халифами династии Аббасидов как военная база для кампаний на византийской границе. Она стала любимой резиденцией калифа Гаруна аль-Рашида.
На этой фотографии 1930-х годов, сделанной с воздуха, мы видим степы города Аббасидов; на переднем плане — очертания дворца Гаруна.
(Французские вооруженные силы. Армия Леванта. 1939)

Эта карта северного Ирака относится к X веку и показывает Тигр и Евфрат. Север внизу страницы, а Тигр кончается в Багдаде. Реки Больший и Малый Заб впадают в Тигр, а Хабур в Евфрат. Картограф показал также канал, который идет от Евфрата до Тигра в Багдаде
(Бриджмен / Египетская национальная библиотека. Каир)

Высохшее русло великого Нахраванского канала, который орошал плодородный иракский Савад — хлебную житницу халифата Аббасидов.
Канал был разрушен во время войны 935 года и никогда больше не наполнялся водой.
(Фото автора)

Ухайдир (Ирак). Этот огромный. разрушенный ныне дворец был построен одним из принцев Аббасидов в конце VIII века.
Он позволяет представить себе облик крепости и дворца Мансура того же периода в Багдаде.
(Кресуэлл. Эшмолианский музей. Оксфорд)

Ухайдир. Центральный двор дворцового комплекса.
Арка открывает вход в иван — зал для приемов.

Ухайдир. Верхняя галерея.
Архитектура дворца чрезвычайно проста, для нее характерны расписанные арки и цилиндрические своды.
(Кресуэлл. Эшмолианский музей. Оксфорд)

Ухайдир.
Зал приемов. Голые степы были покрыты расписанной штукатуркой и гипсовой лепниной. Богатые драпировки и ковры дополняли обстановку.
(Кресуэлл. Эшмолианский музей. Оксфорд)

Самарра (Ирак). План города Аббасидов, вид с воздуха На переднем плане хорошо видна главная улица, вдоль которой стояли дома и дворцы наиболее приближенных к халифу людей. администраторов и военачальников
(Кроун, Королевские ВВС. 1930)

Самарра. Великая мечеть. (848–852) Внешние стены пой огромной постройки придавали ей вил военного укрепления.
(Фото автора)

Самарра. Великая мечеть. Внутри ничто не напоминает о культовом сооружении, здесь лишь пустое огороженное пространство. За стеной виден огромный спиральный минарет.
(Фото автора)

Вверху. Мальвия, громадный спиральный минарет мечети Мутаваккиля, все еще возвышается над разрушенной Самаррой. Обратите внимание на размер человеческой фигуры наверху.
(Фото автора)
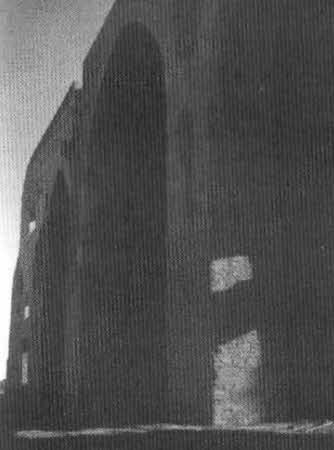
Самарра. Ворота дворца халифов. Вход в виде громадной тройной арки — единственная часть дворца, полностью сохранившая свою высоту.
(Фото автора)

Самарра. Два вида дворца халифов, сделанные Эрнстом Херцфельдом, который начал здесь раскопки незадолго до Первой мировой войны. На верхнем рисунке виден купол главного зала приемов и окружающий его двор. Внизу, главные ворога, вид со стороны берега реки сквозь сад. (Самарра, Джавсак. Реконструкция портала и лестницы к озеру, D-1101. Оригинальный рисунок. Бумаги Эрнста Херцфельда. Галерея, искусств Флир и архивы галереи Артура М. Саклера Смитсоновский институт. Вашингтон. Дар Эрнста Херцфельда. 1946)

Самарра. Настенное украшение из дворца Мутаза (умер в 869 г.), использовавшееся, чтобы придать изысканный вид стенам из глиняного кирпича.
(Кресуэлл. Эшмолианский музей. Оксфорд)

Две девушки-танцовщицы, разливающие вино. Сохранились лишь маленькие фрагменты настенной росписи, украшавшей дворец в Самарре.
(Стамбул, Турецкий и исламский музей)

Каир. Мечеть Иби Тулун, построенная тюркским военачальником из Самарры в 876–879 годах — прекрасно сохранившийся образец мечети времен Аббасидов.
(Фото автора)

Двор мечети Ибн Тулун. Тяжелые контрфорсы. остроконечные арки и фрески по штукатурке характерны для периода Аббасидов.
(Фото автора)

Конный воин из Пенджикента (возле Самарканда). Аристократическая культура Трансоксании оказала большое влияние на арабский придворный стиль эпохи Аббасидов.
(Санкт-Петербург, Эрмитаж)

Серебряный дирхем Гаруна (786–809) несет на себе надпись, типичную для монет времен Аббасидов.
(Британский музей)

Монета, отчеканенная Халидом Бармакидом в Табаристане, покатывает его в венце, подобном тому, какой носили шахи Сасанидов, что отсылает к иранским корням этого рода.
(Британский музей)

Монета халифа Мутаваккиля (847 861), чью голову покрывают куфия и укаль в традиционном бедуинском стиле.
(Вена, исторический музей)

Монета эпохи Муктадира (908–932). Халиф сидит на тропе с кубком вина в руке.
(Берлин, Государственный музей, Мюнцкабинет)

Еще одна монета эпохи Муктадира. Халиф на коне, вооруженный мечом. Он сидит верхом на арабский манер, держа поводья в одной руке.
(Британский музей)

Монета времен халифа Ради (934–940). Халиф сидит на молитвенном коврике, играя на лютне.
(Британский музей)

Прекрасные ткани были значимой частью придворной культуры, почти заменой денег. Этот фрагмент ткани с изящной надписью был сделан в Египте и несет на себе имена халифа Муктадира, визиря, который сделал заказ, и управляющего государственной ткацкой мастерской.
(Берлин, Музей исламской культуры)

Гобелен — пример полотна изумительно тонкого плетения, произведенного в государственных мастерских Аббасидов.
(Египет, ал-Бахнаса, период Аббасидов. IX век нашей эры. Гобеленовое плетение: шерсть и лен, 80*83 см. Кливлендский музей искусств, куплено у фонда Дж. X Уэйда. 1959)

Это позолоченное серебряное блюдо сделано в Табарисгане в конце VIII века. В изображенной на нем сценке халиф наслаждается едой и вином в саду. Блюдо показывает, что придворный стиль Сасанидов был унаследован Аббасидами.
(Британский музей)

Бронзовая курильница в форме сокола, созданная в Иране и датированная 796–797 годами (надпись на шее птицы). Один из самых ранних и редких металлических предметов роскоши эпохи Аббасидов.
(Санкт-Петербург, Эрмитаж)

Считается, что эта бронзовая астролябия, сделанная Ахмедом ибн Халафом в конце IX века, принадлежала халифу Муктадиру (908–932 годы правления).
(Париж, Лувр)

Музыканты, певцы и их покровитель. Иллюстрация из «Книги Песен» Исфахани, манускрипт 1219 года. Истории «Книги Песен» сохранили в исламском мире память о культуре и роскоши двора Аббасидов.
(Каир, Египетская национальная библиотека)

На этой миниатюре, сделанной в 1494 году великим персидским художником Бихзаде, изображен халиф Гарун аль-Рашид, посещающий баню. Обратите внимание на царский венец, аккуратно лежащий поверх снятой одежды.
(Британская библиотека)

Стиль двора Аббасидов повлиял на многих более поздних исламских правителей — как эти видно на фото аудиенции, даваемой правителем Каджара, шахом Насир ад-Дином во дворце Гулистан (1848–1896). Гражданские и военные придворные выстроились перед властителем рядами по рангам. По сути, они воспроизводят практику, имевшую место в правление Мансура.
(Желатиновая серебряная печать со стеклянного негатива. Бумаги Майрона Бемента Смита. Галерея искусств Фрир и архивы галереи Артура М. Саклера. Смитсоновский институт, Вашингтон. Дар Кэтрин Денис Смит. 1973–1985. Фотограф: Антуан Севрюгин, негатив № 51.4)

Такой обычай когда-то существовал и при дворе Аббасидов: большой занавес поднят, давая увидеть монарха на троне
(Там же)
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Исторические и географические сочинения в английских переводах
Anon.,
Book of Gifts and Rarities, trans. Ghada Qaddumi (Cambridge, MA, 1996)
Anon.,
The Arabian Nights, trans. Husain Haddawy (New York, 1990)
al-Baladhuri,
The Origins of the Islamic State, trans. P. Hitti and F. Murgotten, 2 vols. (New York, 1916-24)
Jahiz,
Nine Essays, trans. William M. Hutchins (New York, 1988)
Jahiz,
The Book of Misers, trans. R. B. Serjeant (Reading, 1997)
Jahiz,
The Epistle on Singing-girls by Jahiz, trans. A. F. L. Beeston (Warminster, 1980)
Ibn Khallikan,
Ibn Khallikan s Biographical Dictionary, trans., M. de Slane, 4 vols. (Paris, 1842-71)
al-Mawardi,
The Ordinances of Government, trans. W. H. Wahba (Reading, 1996)
al-Masudi,
The Meadows of Gold: the Abbasids, partial trans. P. Lunde and C. Stone (London and New York, 1989)
Miskawayh,
The Eclipse of the Abbasid Caliphate, trans, with continuation by Abu Shuja al-Rudhrawari and D. S. Margoliouth, 3 vols. (London, 1921)
al-Muqaddasi,
The Best Divisions for Knowledge of the Regions, trans. B. Collins (Reading, 2001)
al-Suli,
Customs of the Caliph s Palace, trans. E. Salem (Beirut, 1977)
al-Tabari,
The History of al-Tabari, ed. Y. Yarshater, 38 vols. (Albany, NJ, 1985–2000)
al-Tabari,
The Early Abbasi Empire 754–808, trans. J. A. Williams, 2 vols. (Cambridge, 1989)
2. Вторичные источники
Abbott, Nabia,
Two Queens of Baghdad (Chicago, IL, 1946; reprinted London, 1986)
Agha, Saleh Said,
The Revolution which Toppled the Umayyads (Leiden, 2003)
Ahsan, M. M.,
Social Life under the Abbasids (London, 1979)
Allen, Roger,
The Arabic Literary Heritage (Cambridge, 1998)
Ashtiany, Julia (ed.),
Abbasid Belles-Lettres: Cambridge
History of Arabic Literature, vol. ii (Cambridge, 1990)
Bell, Gertrude,
Amurath to Amurath (London, 1911)
Bloom, Jonathan,
Paper before Print: the history and impact of paper in the Islamic world (New Haven and London, 2001)
Bonner, Michael,
Aristocratic Violence and Holy War. Studies in the Jihad and the Arab-Byzantine Frontier (New Haven, CT, 1996)
Bosworth, C. Edmund,
The New Islamic Dynasties (Edinburgh, 1996)
Bowen, Harold,
The Life and Times of Ali b. Isa, the Good Vizier (Cambridge, 1928)
Bulliet, Richard,
The Camel and the Wheel (Cambridge, MA, 1975)
Bulliet, Richard,
Conversion to Islam in the Medieval Period (Cambridge MA, 1979)
Bulliet, Richard,
Islam: the View from the Edge (New York, 1994)
Cobb, Paul M.,
White Banners: Contention in Abbasid Syria. 750–880 (Albany, NJ, 2001)
Cooperson, Michael,
Classical Arabie Biography (Cambridge, 2000)
Creswell, K. A. C.,
A Short Account of Early Muslim Architecture, ed, James Allen (Aidershot, 1989)
Crone, Patricia, and G. Martin Hinds,
God's Caliph: Religious authority in the first centuries of Islam (Cambridge, 1968)
Daniel, E, L.,
The Political and Social History of Khurasan under Abbasid Rule (Minneapolis, MN, Chicago, IL, 1979)
El-Hibri, T.,
Reinterpreting Islamic Historiography: Harim al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate (Cambridge, 1999)
Fanner, Harold,
A History of Arabian Music (London, 1929)
Frye, Richard,
The Heritage of Persia (London, 1964)
Frye, Richard,
The Golden Age of Persia (London, 1975)
Goldziher, Ignaz,
Muslim Studies, ed. and trans. C. R. Barber and S. M. Stem, 2 vols. (London, 1967,1971)
Gordon, Matthew S.,
The Breaking of a Thousand Swords: A History of the Turkish Military of Samarra (A.H. 200–275/815-889 C.E.) (Albany, NJ, 2001)
Gruendler, Beatrice,
Medieval Arabic Praise Poetry (London. 2002)
Gutas, Dimitri,
Greek Thought, Arabic Culture (London and New York, 1998)
Heidemann, Stefan and Becker, Andrea,
Raqqa II: die Islamische Stadt (Mainz, 2003)
Herrmann, Georgina,
Monuments of Merv (London, 1999)
Hillenbrand, Robert,
Islamic Architecture (Edinburgh, 1994)
Hourani, Albert,
A History of the Arab Peoples (London, 1991)
Humphreys, R. S.,
Islamic History: a framework for inquiry (Princeton, NJ, 1991)
Irwin, Robert,
The Arabian Nights: A Companion (London, 1994)
Irwin, Robert,
Islamic Art (London, 1997)
Irwin, Robert,
Night and Horses and the Desert: An Anthology of Classical Arabic Literature (London, 1999)
Jafri, S. M.,
The Origins and early Development of Shi'a Islam (London, 1979)
Kennedy, Hugh,
The Early Abbasid Caliphate: A political history (London, 1981)
Kennedy, Hugh,
The Armies of the Caliphs (London, 2001)
Kennedy, Hugh (ed.),
A n Historical Atlas ofIslam (Leiden, 2002)
Kennedy, Hugh,
The Prophet and the Age of the Caliphates. 2nd edn, (London, 2003)
Kilpatrick, Hilary,
Making the Great Book of Songs (London, 2003)
Lassner, Jacob,
The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages: Text and studies (Detroit, Ml, 1970)
Lassner, Jacob,
The Shaping of Abbasid Rule (Princeton, NJ, 1980)
Lassner, Jacob,
Islamic Revolution and Historical Memory: An inquiry into the art of Abbasid apologetics (New Haven, CT, 1986)
Le Strange, Guy,
Palestine under the Moslems (London, 1890)
Le Strange, Guy,
Lands of the Eastern Caliphate (Cambridge, 1905)
Le Strange, Guy,
Baghdad during the Abbasid Caliphate (London, 1909)
Mcz, Adam,
The Renaissance of Islam, trans. Khuda Bakhsh (London, 1937)
Morony, Michael,
Iraq after the Muslim Conquest (Princeton, NJ, 1984)
Mottahedeh, Roy,
Loyalty and Leadership in Early Islamic society, 2nd edn, (Princeton, NJ, 2001)
Northedge, Alistair, «The palaces of the Abbasids at Samarra». in ed. C. Robinson,
A Medieval Islamic City Reconsidered: an interdisciplinary approach to Samarra (Oxford Studies in Islamic Art, xiv, 2001)
Peirce, Leslie,
The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire (Oxford, 1993)
Petry, Carl (ed.),
The Cambridge History of Egypt, vol. i,
Islamic Egypt, 640-1517 (Cambridge, 1998)
Popovic, A.,
The Revolt of the African Slaves in Iraq in the Jrd/ gth Century (London, 1999)
Robinson, Chase
(ed.), A Medieval Islamic City Reconsidered: An interdisciplinary approach to Samarra {Oxford Studies in Islamic Art, xiv, 2001)
Robinson, Chase,
Islamic Historiography (Cambridge, 2003)
Roden, Claudia (ed.),
Medieval Arab Cookery (Totnes, 2001)
Sharon, Moshe,
Black Banners from the East (Leiden, 1983)
Sharon, Moshe,
Revolt. The Social and Military Aspects of the Abbasid Revolution (Jerusalem, 1990)
Sourdel, D., «Questions de ceremoniale Abbaside»,
Revue d ’Etudes Islamiques (1960), 121-148
Stetkevych, Suzanne P.,
Abu Tamtnam and the Poetics of the Abbasid Age (Leiden, 1991)
Van Gelder, Geert,
Of Dishes and Discourse: Classical Arabic literary representations of food (London, Curzon, 2000)
Waines, David, «The third century internal crisis of the Abbasids»,
Journal of the Economic and Social History of the Orient, xx (1977), pp. 282-306
Waines, David,
In a Caliph's Kitchen (London, 1989)
Williams, J. A.,
The Early Abbasid Empire, 2 vols. (Cambridge, 1988)
Zaman, M. Q.,
Religion ana Politics under the early Abbasids The emergence of the proto-Sunni elite (Leiden, 1997)
Кроме того, читатель может обратиться к двум изданиям «Энциклопедии Ислама». Первое издание, в четырех томах (Лейден, 1913—42), закончено, многие из его статей датированы. Второе издание (Лейден, 1954) ныне почти закончено. Оно также доступно на CD-ROM. Сейчас планируется третье издание. Многие из статей этого труда имеют большую академическую ценность и крайне интересны. Другой важный справочный труд — «Иранская энциклопедия» под редакцией Э. Яршатера (Лондон — Нью-Йорк, 1985-), он содержит менее последовательные статьи по истории и культуре Ирана и все еще не завершен.
INFO
Кеннеди, X.
К33 Двор халифов / Хью Кеннеди; пер. с англ. Н. Тартаковской. — М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.—412, [4] с.: ил.
ISBN 978-5-17-039643-6 (ООО «Издательство АСТ» ХС.: Ист. библ.(84))
ISBN 978-5-9713-5632-5 (000 Издательство «АСТ МОСКВА»)
ISBN 978-5-9762-2313 Л (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)
ISBN 978-5-17-045730-4 (ООО «Издательство АСТ» ХС.: ПКДВ(84))
ISBN 978-5-9713-5631-8 (000 Издательство «АСТ МОСКВА»)
ISBN 978-5-9762-4297-5 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)
Серийное оформление А. А. Кудрявцева
Компьютерный дизайн В. С. Петрова
УДК 94(5)
ББК 63.3(5)
…………………..
FB2 — mefysto, 2022
Примечания
1
Термин «халиф» (араб.
Khalifa) — это сокращенная форма понятия «Халиф — заместитель Аллаха» (араб.
Khalifat Allah), он стал нормальным обозначением правителя мусульманского мира для поколения, которое пришло после смерти Пророка в 632 году. Правителя более формально называли «владыкой правоверных» (араб.
Amir al-Mu’minin). Термин «султан» используется в арабских текстах того периода для обозначения отвлеченного понятия «власть» или «правительство». Вплоть до XI века он не используется как персональный титул для правителей, которые были халифами; таким же образом абстрактное существительное «величество» становится персональным титулом в Англии.
(обратно)
2
К сожалению, в русском языке не существует дополнительных символов, аналогичных расширенной латинице и способных передавать подобные нюансы произношения. Поэтому при переводе мы решили передавать арабские имена наиболее традиционной транскрипцией. Придыхание «’» встречается в таких распространенных именах, как Джафар, Исмаил, Якуб, а также Мутаз и Мута-сим,
(Прим. ред.)
(обратно)
3
В оригинале — Jurjān, в отечественной традиции — Гурган, современный Ургени.
(Прим. ред.)
(обратно)
4
Греческое название современной Амударьи.
(Прим. ред.)
(обратно)
5
Совр.
Мары в Туркменистане.
(Прим. ред.)
(обратно)
6
Публичные рыдания считались не стыдным, естественным и вполне соответствующим способом выражения эмоций в мире раннего ислама, так же, как и в средневековой Европе. История изменения отношения к рыданиям говорит нам многое об изменении понимания мужественности с исками.
(обратно)
7
Известный под этим названием
(iwan) в Персии, подобный открытый арочный зал был характерен для древней архитектуры, принятой у мусульман; он часто использовался в исламской архитектуре вплоть до настоящих дней.
(обратно)
8
«Когда треть вечера прошла».
(обратно)
9
В английском переводе эта книга называется «Арабские ночи», но далее мы будем использовать привычный отечественному читателю вариант.
(Прим. ред.)
(обратно)
10
Джахиз, описывая события почта веком позже, вспоминал о Хализе как об одной из женщин, которой было позволено в то время свободно общаться с мужчинами
(Qiyān).
(обратно)
11
На дороге, ведущей от Медины на север.
(обратно)
12
Золотая молодежь
(фр.)
(обратно)
13
Слово
diwan заимствовано большинством европейских языков, но в двух противоположных значениях. В значении «правительственная канцелярия» («присутствие», в Османской империи — кабинет министров — Fed.) оно появилось в администрации норманнской Сицилии XII века как
dohana — а от него образовалось слово
dogana в итальянском языке и
douane во французском, оба слова означают таможню. Кроме того, оно означает также скамью, на которой сидели официальные лица; в персидском произношении это слово звучало как
divan, так оно и вошло в английский язык, означая кровать с задней спинкой. Помимо этого, оно могло означать также сборник поэзии, как это сделал Гёте в заглавии книги «Западно-Восточный Диван».
(обратно)
14
Выражение «Бармецидов пир» (видимость щедрости и радушия), означающее пир, на котором нет еды, пришло к нам из «Тысячи и одной ночи», где член семьи Бармакида дразнит ловца губок, пригласив его на ужин и сделав вид, что есть нечего. Первое упоминание об использовании этого выражения в английском языке относится к 1713 году.
(обратно)
15
В оригинале книги — «раньше»; очевидно, это ошибка.
(Прим. ред.)
(обратно)
16
Свенгали — персонаж средневековой европейской мифологии, колдун и гипнотизер, подавляющий волю человека; более всего этот образ известей по роману и пьесе Джорджа Дюморье «Трильби» (1894). В переносном смысле — закулисный инициатор чьих-либо действий.
(Прим. ред.)
(обратно)
17
Баллиста
(mangonel, по-арабски
martjaniq; и в английский, и в арабский это слово пришло из греческого) — метательная осадная машина, которая в позднем Средневековье на Западе называлась требушетом. Судя по всему, их впервые использовали в конце VI века. В мусульманских армиях они использовались в качестве обычной артиллерии и могли применяться как для разрушения укреплений, так и против пехоты противника.
(обратно)
18
Нафта (араб,
naft) — сырая нефть, которая выступает из земли в центральном Ираке и возле Баку в Азербайджане. Тряпки, пропитанные нефтью, прикрепляли к стрелам или другим метательным приспособлениям, используя их в качестве зажигательного оружия.
(обратно)
19
Точнее, она родилась приблизительно за полтора века до откровения Мухаммеда.
(Прим. ред.)
(обратно)
20
Дикий арбуз, несъедобный и горький, обладающий сильным слабительным действием.
(обратно)
21
Ухайднр почти наверняка был построен Исой ибн Мусой, принцем рода Аббасидов, который вел армии на подавление восстания Мухаммеда Чистая Душа в 762 году. Одно время Иса был несомненным наследником Мансура — до того, как в 764 году его сменил будущий халиф Махди. После этого Иса отошел от общественной жизни, получив огромную сумму денег в виде компенсации, и может быть, именно в это время построил свой удаленный дворец. Он умер в Куфе в июле 784 года.
(обратно)
22
Резиденция британского правительства.
(Прим. ред.)
(обратно)
23
В более привычкой нам транскрипции — Азуд аль-Доулэ.
(Прим. ред.)
(обратно)
24
Это неизбежно (хотя и абсолютно неуместно) ассоциируется с известным комментарием Гиббона по поводу домашнего устройства императора Горднана:
«Двадцать четыре официальные наложницы и библиотека из шестидесяти двух тысяч томов характеризовали спектр его интересов; из деяний, которые он оставил после себя, ясно, что как первые, так и вторые служили для использования, а не для хвастовства». («Decline and Fall», 1, р. 312).
(обратно)
25
Вопрос, была ли девушка свободна или же являлась рабыней, не всегда ясен, Согласно рассказу Джахиза, Мамун спросил девушку из свиты Зубейды, свободная она или рабыня, на что та ответила, что не знает. «Когда моя госпожа сердится на меня, она говорит, что я рабыня, когда она довольна мною, то говорит, что я свободная». По предложению халифа она написала Зубейде письмо, в котором спросила о своем статусе, и послала его голубиной почтой. Вероятно, выпал хороший день, поскольку пришел ответ, что она свободная. (Джахиз,
Киян, стр. 24)
(обратно)
26
Джахиз (а кто же еще?) рассуждает о женском удовольствии от секса и о том, прилично ли женщине кричать во время соития, в рассказе, который должен отражать взгляды его времени. Он рассказывает об аристократке из Медины времен начала ислама, которой группа молодых девушек задала именно этот вопрос. Она ответила историей: «Доченьки, как-то я отправилась в паломничество с властителем правоверных Османом [халиф в 644–656 гл]. Когда мы достигли аль-Арджа, на пути назад, мой муж посмотрел на меня, а я посмотрела на него. Он захотел меня, а я захотела его, и он схватил меня как раз, когда мимо проходили верблюды Османа. Я громко закричала, когда на меня накатило то, что приходит к дочерям Адама — и верблюды, все пятьсот, разбежались. Прошли часы, прежде чем их собрали снова» (Джахиз,
Раса’ил, II, стр. 129-30).
(обратно)
27
Карматы (по-арабски Qarāmita) были манихейской сектой, которая нашла широкую поддержку в среде бедуинов Сирийской пустыни и северо-восточной Аравии. Они разграбили Басру и в 928 году чуть не взяли сам Багдад.
(обратно)
28
Ср. выше с другим рассказом о примирении Мамуна с Ибрахимом, который связан с женитьбой халифа на Буран.
(обратно)
29
Имеется в виду мечеть Омара в Иерасалиме, выстроенная на скале, на которую когда-то, согласно легенде, запрыгнул конь Пророка.
(Прим. ред.)
(обратно)
30
В английском языке не существует разницы между обозначением современных турок и тюрок — древнего кочевого населения Центральной Азии, от которых позднее произошли туркмены.
(Прим. ред.)
(обратно)
31
Русский аналог — «гуляй-город».
(Прим. ред.)
(обратно)
32
Его полная анонимность оставляет возможности для воображения. Роман «Васик» (1786) Уильяма Бекфорда (1760–1844) не имеет практически ничего общего с историческими сведениями о Васике. Это фантастическая сказка о жестокости, беспутном образе жизни и поисках потерянных сокровищ древних царей под водительством самого Иблиса, то есть Сатаны.
(обратно)
33
Сикк был бумагой, подтверждающей, что предъявитель может брать деньги из казны. Он часто использовался во времена Аббасидов, чтобы дать возможность членам правящей семьи или другим придворным получать деньги. Слово это— почти наверняка первоисточник английского слова «чек».
(обратно)
34
Остроумия
(фр.)
(обратно)
35
На самом деле окружность экватора земли равна 40 076 километров, то есть 24 902 мили.
(Прим. авт.)
Здесь у автора ошибка — 40 076 километров составляют 24 907 сухопутных миль. Поскольку земной шар не является идеальным сфероидом, говорить о точной длине его окружности бессмысленно
(Прим. ред.)
(обратно)
36
«Проклятие памяти»
(лат.)
(обратно)
Комментарии
1
Для лучшего представления см: Robinson,
Islamic Historiography.
(обратно)
2
Jahiz,
Rasa'il. p. 139.
(обратно)
3
Akbbar al-Abbas. p. 196.
(обратно)
4
Akbbar al-Abbas. pp. 198-9.
(обратно)
5
al-Istakhri,
Masalik al-Mamalik, ed. M. J. de Goeje (Leiden, 1927), p. 260.
(обратно)
6
Tab., p. 115.
(обратно)
7
Tab., p. 33.
(обратно)
8
Tab., p. 35.
(обратно)
9
Tab., р. 60.
(обратно)
10
Tab., pp. 391, 414.
(обратно)
11
Tab., pp. 250, 307, 362.
(обратно)
12
Tab., p. 398.
(обратно)
13
Tab., p. 411.
(обратно)
14
Tab., p. 423.
(обратно)
15
Tab., pp. 392–3.
(обратно)
16
Tab., р. 393.
(обратно)
17
Tab., рр. 426–33.
(обратно)
18
Tab., р. 402.
(обратно)
19
Tab., рр. 417–18.
(обратно)
name="c_20">
20
Tab., рр. 325–6.
(обратно)
21
Tab., р. 435.
(обратно)
22
Tab., р. 398.
(обратно)
23
Tab., рр. 445–6.
(обратно)
24
Tab., рр. 405–6.
(обратно)
25
Tab., р. 406.
(обратно)
26
Tab., рр. 99–115; Mas., 2,392–4.
(обратно)
27
Tab., р. 408.
(обратно)
28
Isa b. Nahik al-Akki. Tab., p. 110.
(обратно)
29
Tab., p. in.
(обратно)
30
Tab., p. 117.
(обратно)
31
Tab., pp. 143–317; Mas., 2,401–13.
(обратно)
32
Tab., p. 169, p. 203.
(обратно)
33
Tab., pp. 241–2.
(обратно)
34
Tab., p. 223.
(обратно)
35
Tab., p. 167.
(обратно)
36
Tab., p. 168.
(обратно)
37
Tab., p. 168.
(обратно)
38
Tab., pp. 154–5.
(обратно)
39
Tab., pp. 172–80.
(обратно)
40
Tab., p. 172.
(обратно)
41
Tab., pp. 195–6.
(обратно)
42
Tab., p. 205.
(обратно)
43
Tab., pp. 223–4.
(обратно)
44
Tab., p. 217.
(обратно)
45
Tab., pp. 228–9.
(обратно)
46
Tab., p. 229.
(обратно)
47
Tab., р. 247.
(обратно)
48
Tab., p. 252.
(обратно)
49
Tab., p. 254.
(обратно)
50
Tab., pp. 126–7, 330, 375.
(обратно)
51
Tab., pp. 328–31.
(обратно)
52
Muhammad ibn al-Ashath al-Khuzai. Tab., p. 72; Bal, Ansab, p. 89.
(обратно)
53
Tab., p. 466.
(обратно)
54
Tab., p. 494.
(обратно)
55
Tab., pp. 262, 375.
(обратно)
56
Bal., Ansdb, pp. 276–7.
(обратно)
57
Aghani. xiii, pp. 228–9.
(обратно)
58
Tab., p. 359.
(обратно)
59
Tab., pp. 616–17; Aghani, xxiii, pp. 113–14.
(обратно)
60
Bal., Ansab, p. 275.
(обратно)
61
Tab., p. 188.
(обратно)
62
Bai., Futiih, p. 386.
(обратно)
63
Lassner, p. 78.
(обратно)
64
О домашнем хозяйстве Убейд Аллаха ибн Джафара см., например: Aghani, xxiii, pp. 112–15.
(обратно)
65
Kilpatrick, Making the Great Book of Songs, p. 246.
(обратно)
66
Ibn Tayfur, p. 19.
(обратно)
67
Yaq., Buldan, p. 252.
(обратно)
68
Jan., p. 116: Bal., Ansab, pp. 243–4.
(обратно)
69
Tab., pp. 405–6, 408.
(обратно)
70
Tab., pp. 488–90.
(обратно)
71
Aghani, vi, p. 232.
(обратно)
72
Tab., p. 609.
(обратно)
73
Tab., p. 638.
(обратно)
74
Tab., pp. 620–1.
(обратно)
75
Tab., pp. 699–70.
(обратно)
76
Tab., р. 692.
(обратно)
77
Fihrist, р. 366.
(обратно)
78
Tab., р. 738.
(обратно)
79
Tab., р. 1, 065.
(обратно)
80
Tab., р. 529.
(обратно)
81
Aghani. vi, р. 121; v, p. 115.
(обратно)
82
Tab., p. 684.
(обратно)
83
Aghani. vi, p. 240.
(обратно)
84
Yaq., Buldan, p. 256.
(обратно)
85
Fihrist. p. 587.
(обратно)
86
Tab., p. 273; Jah., p. 100.
(обратно)
87
Jah., pp. 117–19.
(обратно)
88
Jah., pp. 101, 114.
(обратно)
89
Jah., pp. 99–100.
(обратно)
90
See his Siyar al-muluk, ed H. Darke (Tehran, 1962), 218–20, English trans., H. Darke, The Book of Government (London, Routledge and Kegan Paul, 1960).
(обратно)
91
Tab., p. 32; Jah., p. 87.
(обратно)
92
Почти такая же история рассказывается и про сына Халида Яхья Каха: р. 229).
(обратно)
93
Tab., рр. 381–4.
(обратно)
94
Jah., р. 138.
(обратно)
95
Tab., р. 367.
(обратно)
96
Jah., рр. 133, 149.
(обратно)
97
Tab., р. 384.
(обратно)
98
Tab., р. 599; Jah., р. 136; see Abbott, рр. 23–5,63, о подробностях дискуссии.
(обратно)
99
Tab., рр. 497–8; Jah., р. 150.
(обратно)
100
Tab., р. 631.
(обратно)
101
For example, Jah., рр. 180–2.
(обратно)
102
Jah., р. 188.
(обратно)
103
Jah., р. 178.
(обратно)
104
Jah., р. 177.
(обратно)
105
Jah., p. 91.
(обратно)
106
Jah., p. 177.
(обратно)
107
Fihrist, p. 539.
(обратно)
108
Fihrist, pp. 826–7.
(обратно)
109
Fihrist, p. 710.
(обратно)
110
Yaq., Buldan, p. 246.
(обратно)
111
Yaq., Buldan. p. 243.
(обратно)
112
Yaq., Buldan, p. 248.
(обратно)
113
Tab., p. 620.
(обратно)
114
Tab.,p. 479.
(обратно)
115
Tab., p. 240.
(обратно)
116
Lassner, Topography, pp. 55–7.
(обратно)
117
Tab., p. 131.
(обратно)
118
Tab., p. 495.
(обратно)
119
Tab., pp. 416–17.
(обратно)
120
Tab., p. 354.
(обратно)
121
Tab., p. 387.
(обратно)
122
Tab., pp. 456–7.
(обратно)
123
Tab., pp. 451–5.
(обратно)
124
Tab., pp. 537–8.
(обратно)
125
Tab., p. 460.
(обратно)
126
Tab., pp. 486, 520.
(обратно)
127
Tab., p. 530.
(обратно)
128
Abbott, pp. 23–4.
(обратно)
129
Tab., pp. 494–9.
(обратно)
130
Tab., pp. 497–8.
(обратно)
131
Tab., p. 496.
(обратно)
132
Tab., pp. 503–5.
(обратно)
133
Tab., p. 505.
(обратно)
134
Tab., pp. 506–7.
(обратно)
135
Tab., p. 545.
(обратно)
136
Tab., p. 523.
(обратно)
137
Tab., p. 580.
(обратно)
138
Tab., p. 545.
(обратно)
139
Tab., p. 668.
(обратно)
140
Tab., pp. 523–6.
(обратно)
141
Tab., pp. 545–6.
(обратно)
142
Tab., p. 548.
(обратно)
143
Tab., p. 458.
(обратно)
144
Tab., pp. 572–3.
(обратно)
145
Tab, p. 574.
(обратно)
146
Tab, p. 571.
(обратно)
147
Tab, p. 571.
(обратно)
148
Tab, pp. 601–2.
(обратно)
149
Tab, p. 646; например, 181 год мусульманского летосчисления.
(обратно)
150
Tab, рр. 603–4.
(обратно)
151
Tab, рр. 646, 647
(обратно)
152
Tab, р. 637.
(обратно)
153
Tab, рр. 640–5.
(обратно)
154
Tab, рр. 635–7.
(обратно)
155
Tab, рр. 642–4.
(обратно)
156
Tab, р. 635.
(обратно)
157
Tab, р. 609.
(обратно)
158
Tab, р. 610.
(обратно)
159
Tab, р 629.
(обратно)
160
Tab, рр. 638–9.
(обратно)
161
Tab, р. 646.
(обратно)
162
Tab, рр. 651–2.
(обратно)
163
Tab., р. 701.
(обратно)
164
Tab., p. 604.
(обратно)
165
Tab., p. 646.
(обратно)
166
Tab., pp. 708–9.
(обратно)
167
Tab., pp. 606–7.
(обратно)
168
Tab., pp. 606–7.
(обратно)
169
Tab., p. 610.
(обратно)
170
Tab., p. 646.
(обратно)
171
См. статью «Ракка» во втором издании «Энциклопедии Ислама».
(обратно)
172
Tab., р. 647.
(обратно)
173
Tab., р. 649.
(обратно)
174
Tab., р. 654.
(обратно)
175
Tab., рр. 610–12.
(обратно)
176
Tab., р. 647.
(обратно)
177
Tab., рр. 651–2.
(обратно)
178
Tab., рр. 664–5.
(обратно)
179
Tab., р. 653.
(обратно)
180
Tab., рр. 678–9.
(обратно)
181
Tab., рр. 683–4.
(обратно)
182
Tab., рр. 681–3.
(обратно)
183
Tab., рр. 667–8.
(обратно)
184
Tab., р. 669.
(обратно)
185
Tab., р. 676.
(обратно)
186
Tab., рр. 613–14.
(обратно)
187
Tab., рр. 623–4.
(обратно)
188
Tab., рр. 669–72.
(обратно)
189
Tab., рр. 670–1.
(обратно)
190
Tab., рр. 671–2.
(обратно)
191
Tab., рр. 676–7; Mas., 2, 588–95; Tanukhi, Table Talk, р. 257, Abbott, рр. 196–8 (see also Jahshiyari on this).
(обратно)
192
Mas., 2, 589–91.
(обратно)
193
Tab., pp. 700–2.
(обратно)
194
Tab., p. 709.
(обратно)
195
Tab. p. 710, quoting a poem of Abu’l-Ma'ali al-Kilabi.
(обратно)
196
Tab., pp. 695–6.
(обратно)
197
Tab., p. 696.
(обратно)
198
Tab., pp. 709–10.
(обратно)
199
Tab., pp. 713–15.
(обратно)
200
Tab., p. 704.
(обратно)
201
Tab., p. 712.
(обратно)
202
Tab., pp. 716–17.
(обратно)
203
Tab., pp. 720–1.
(обратно)
204
Tab., pp. 733–9.
(обратно)
205
Tab., р. 771.
(обратно)
206
Tab., р. 781.
(обратно)
207
Tab., pp. 784–5.
(обратно)
208
Tab., pp. 785–6.
(обратно)
209
Tab., pp. 786–7.
(обратно)
210
Tab., pp. 793–4.
(обратно)
211
Tab., pp. 792–4.
(обратно)
212
Tab., p. 810.
(обратно)
213
Tab., p. 818.
(обратно)
214
Tab., p. 818.
(обратно)
215
Tab., pp. 796–8.
(обратно)
216
Tab., p. 808.
(обратно)
217
Tab., pp. 796–8.
(обратно)
218
Tab., pp. 819–20.
(обратно)
219
Tab, рр. 821–2.
(обратно)
220
Подробности взяты из: Mas. 2,628.
(обратно)
221
Tab, рр. 823–4.
(обратно)
222
Tab, р. 802.
(обратно)
223
Tab, рр. 802–3.
(обратно)
224
Tab, рр. 830–1.
(обратно)
225
Tab, р. 803.
(обратно)
226
Tab, рр. 804–5; наш сокращенный перевод с некоторыми изменениями основан на переводе Фишбейна (Fishbein, рр. 58–9) и включает его версию текста.
(обратно)
227
Tab, рр. 836–8.
(обратно)
228
Tab, рр. 840–1.
(обратно)
229
Tab, рр. 842–6.
(обратно)
230
Tab, рр. 846–51.
(обратно)
231
Tab, рр. 851–5.
(обратно)
232
Tab, рр. 855–6.
(обратно)
233
Tab, рр. 860–4.
(обратно)
234
Tab, рр. 885–6.
(обратно)
235
Tab, рр. 896-7, abbreviated; trans. Fishbein, р. 165.
(обратно)
236
Tab, р. 883.
(обратно)
237
Tab, рр. 883–5 trans, after Fishbein, abbreviated.
(обратно)
238
Tab, pp. 873–80. Текст лейденского издания не вполне точен, здесь я тоже использовал превосходный перевод Фишбейна, который сам по себе является новым переложением этой поэмы, основанном на сопоставлении лейденского и каирского изданий и других источников.
(обратно)
239
Tab, рр. 890–1.
(обратно)
240
Tab, р. 887.
(обратно)
241
Tab, р. 897.
(обратно)
242
Tab, р. 911.
(обратно)
243
Tab, рр. 908–9.
(обратно)
244
Tab, рр. 909–11.
(обратно)
245
Gruendler, Beatrice, Medieval Arabic Praise Poetry (London, 2002), pp. 42–7.
(обратно)
246
Ibn Khali., i, pp. 221–2, trans, i, pp. 204–5.
(обратно)
247
Aghani, iii, p. 109.
(обратно)
248
trans. A. H. L. Beeston, CHAL, p. 280.
(обратно)
249
trans. Julia Bray, CHAL, p. 286.
(обратно)
250
Tab., p. 508.
(обратно)
251
Tab., p. 538.
(обратно)
252
trans. Julia Bray, CHAL, p. 289.
(обратно)
253
trans. Julia Bray, CHAL, p. 292.
(обратно)
254
trans. Julia Bray, CHAL, pp. 294–5.
(обратно)
255
trans. Julia Bray, CHAL, p. 298.
(обратно)
256
trans. Julia Bray, CHAL, p. 298.
(обратно)
257
Farmer, Harold, A History of Arabian Music (London, 1929).
(обратно)
258
Это следует из его биографии: Aghani, v, 111–17.
(обратно)
259
Kilpatrick, pp. 40–7.
(обратно)
260
Jah. pp. 281–8.
(обратно)
261
Tab., p. 273.
(обратно)
262
Yaq., Buldan, pp. 238–54; Khatib, i, pp. 50–141, перевод c комментариями см: Lassner, pp. 45–118.
(обратно)
263
Khatib, i, p. 9.
(обратно)
264
Lassner, p. 238, n. 17.
(обратно)
265
Yaq., Buldan, p. 238.
(обратно)
266
Tab., p. 322; Khatib, i, p. 9.
(обратно)
267
Tab., p. 352.
(обратно)
268
Tab., pp. 426–33. 10 Tab., p. 537.
(обратно)
269
Khatib, i, p. 93; trans, pp. 52–3.
(обратно)
270
Ibrahim ibn All al — Khutabi (d. 951) quoted in Khatib, loc. cit.
(обратно)
271
Hillenbrand, pp. 390–1.
(обратно)
272
Amurath to Amurath, Gertrude Bell (London, 1911), p. 140.
(обратно)
273
Creswell, p, 248.
(обратно)
274
Tab., p. 333.
(обратно)
275
Tab., p. 396.
(обратно)
276
Tab., p. 394–5.
(обратно)
277
Tab., pp. 581–2,608–9.
(обратно)
278
Tab., p. 573.
(обратно)
279
Aghani, v, pp. 202–3.
(обратно)
280
Tab., p. 332.
(обратно)
281
Tab., p. 586; Ahsan, pp. 30–1.
(обратно)
282
Ahsan, pp. 31–3.
(обратно)
283
Ahsan, pp. 42–3.
(обратно)
284
Tab., p. 622.
(обратно)
285
Tab., p. 463.
(обратно)
286
Tab., p. 585.
(обратно)
287
Tab., pp. 582–3.
(обратно)
288
Tab., p. 409.
(обратно)
289
Tab., p. 488.
(обратно)
290
Tab., pp. 608–9.
(обратно)
291
Tab., p. 415.
(обратно)
292
Tab., p. 525.
(обратно)
293
Tab., p. 472.
(обратно)
294
Tab., pp. 510–13.
(обратно)
295
Tab., pp. 417–18.
(обратно)
296
Ahsan, pp. 181–4.
(обратно)
297
Tab., p. 516; Sourdel, Questions, p. 129.
(обратно)
298
Tab., pp. 524–5.
(обратно)
299
Tab., pp. 752–3.
(обратно)
300
Нижеследующее описание дворцов Самарры основано на: Alistair Northedge, «The palaces of the Abbasids at Samarrа», in ed. C. Robinson, A Medieval Islamic City Reconsidered: an interdisciplinary approach to Samarra (Oxford Studies in Islamic Art, xiv, 2001).
(обратно)
301
Aghani, v, p. 138.
(обратно)
302
Shabushti, p. 170.
(обратно)
303
Shabushti, p. 161.
(обратно)
304
Tab., pp. 1, 331–2.
(обратно)
305
Сведенные в таблицу списки см: Northedge, рр. 251–2.
(обратно)
306
Shabushti, р. 96.
(обратно)
307
Northedge, рр. 39–41.
(обратно)
308
Yaqut, s.v.; Northedge, p. 259.
(обратно)
309
Misk., p. 258.
(обратно)
310
Misk., pp. 53–5.
(обратно)
311
Khatib, i,p. 117.
(обратно)
312
Khatib, i, pp. 117–20.
(обратно)
313
Watson, pp. 48–50.
(обратно)
314
Lassner, pp. 269–70, n.14 for refs. Also Yaqut, s.v. Dar al-shajara.
(обратно)
315
Misk., pp. 195–9.
(обратно)
316
См., например, осуждение гарема полководцем Мунисом: Misk., р. 189.
(обратно)
317
Sabi, Rusum, р. 120.
(обратно)
318
Mas., 2,593.
(обратно)
319
Aghani. v, pp. 173–5.
(обратно)
320
Lassner, p. 78.
(обратно)
321
Lassner, p. 80; Tab., p. 757.
(обратно)
322
Tab., p. 757.
(обратно)
323
Lassner, р. 78; Yaqut, s.v. Qasr Umm Habib.
(обратно)
324
Lassner, p. 85, with trans.
(обратно)
325
Misk., p. 193.
(обратно)
326
Aghani, x, p. 145.
(обратно)
327
Abbott, p. 138.
(обратно)
328
Mas., 2,961.
(обратно)
329
С августа 847 по декабрь 861 года (Mas., 2,872).
(обратно)
330
Tab., pp. 423, 442; Abbott, pp. 15–16.
(обратно)
331
Tab., p. 442.
(обратно)
332
Дочери Салиха ибн Али: Tab., р. 466; Abbott, pp. 39–40.
(обратно)
333
Tab., p. 580.
(обратно)
334
Tab., pp. 757–8.
(обратно)
335
Peirce, pp. 28–9.
(обратно)
336
Peirce, pp. 61–3.
(обратно)
337
Peirce, esp. pp. 109–12.
(обратно)
338
Tab., pp. 1, 081–7; Mas., 2,752–3; Ibn Khali., i, pp. 268–71.
(обратно)
339
Abbott, p. 12.
(обратно)
340
Ibn Khali., 1,289; trans. I, 270.
(обратно)
341
Mas., 2,75a.
(обратно)
342
Abbott, pp. 234–5.
(обратно)
343
Tab., p. 138.
(обратно)
344
Tab., pp. 753, 1,329.
(обратно)
345
Tab., p. 1, 365.
(обратно)
346
Mas., 2,978.
(обратно)
347
Mas., 3,109.
(обратно)
348
Mas., 3,241.
(обратно)
349
Mas., 3,015.
(обратно)
350
Jahiz, Qiyan, para. 53.
(обратно)
351
Aghani, xvi, pp. 267–8; Abbott, pp. 144–5.
(обратно)
352
Историю Инан см: Aghani, xxiii, pp. 72–9; Abbott, pp. 146–7.
(обратно)
353
Khatib, x, pp. 411–21; Abbott, pp. 148–9.
(обратно)
354
Tab., р. 590.
(обратно)
355
Tab., р. 836; Abbott, р. 209.
(обратно)
356
Tab., рр. 1, 029,1,102.
(обратно)
357
Aghani, х. р. 138.
(обратно)
358
Aghani, х, рр. 154–6.
(обратно)
359
Aghani, х, р. 146.
(обратно)
360
Aghani. х, р. 144.
(обратно)
361
Aghani. х. р. 142.
(обратно)
362
Aghani, х, р. 143.
(обратно)
363
Aghani, х, р. 158.
(обратно)
364
Tab., р. 405.
(обратно)
365
Tab., р. 510.
(обратно)
366
Abbott, рр. 32–9.
(обратно)
367
Tab., рр. 543–4; Abbott, р. 32.
(обратно)
368
Abbott, рр. 38–9.
(обратно)
369
Abbott, р. 30.
(обратно)
370
Hadaya, caps, in, 148.
(обратно)
371
Abbott, p. 140.
(обратно)
372
Abbott, pp. 154–5.
(обратно)
373
Aghani, xviii, p. 234; Abbott, p. 152.
(обратно)
374
Lassner, pp. 72–3; Abbott, p. 238.
(обратно)
375
Abbott, pp. 236–7.
(обратно)
376
Abbott, pp. 242–7.
(обратно)
377
Yaq. p. 519.
(обратно)
378
См. приложения к Масуди, 3,449–51, полученный от Мухаммеда ибн Али аль-Мисри аль-Хурасани аль-Ахбари устный рассказ истории Калифа, переданный аль-Кадиром.
(обратно)
379
Tab., рр. 610–12; Abbott, рр. 172–3.
(обратно)
380
Abbott, рр. 178–88.
(обратно)
381
Tab., р. 730, trans. Williams, р. 291.
(обратно)
382
Tab., р. 775.
(обратно)
383
Abbott, р. 299.
(обратно)
384
Mas., 3,451, trans., pp. 390–1; об этом и других примерах переодевания в одежду противоположного пола см.: Е. Rowson, «Gender Irregularity as Entertainment: Institutionalized Tranvestism at the Caliphal Court in Medieval Baghdad», in S. Farmer and C. Pasternack (eds.), Gender and Difference in the Middle Ages (Minneapolis, 2003), pp. 45–71.
(обратно)
385
Khatib, iii, 433–4.
(обратно)
386
Aghani, x, p. 182; xiv, p. 76; xix, p. 234.
(обратно)
387
Hadaya, caps. 141–2.
(обратно)
388
Tab., p. 1, 718.
(обратно)
389
Tab., pp. 1, 710–2.
(обратно)
390
Tab., pp. 1, 718–20; trans., xxxvi, pp. 8–9.
(обратно)
391
Tab., p. 1, 916.
(обратно)
392
Misk., p. 20.
(обратно)
393
Misk., p. 40.
(обратно)
394
Misk., pp. 24–5, 42.
(обратно)
395
Hadaya, p. 353.
(обратно)
396
Misk., p. 22.
(обратно)
397
Misk., p. 185.
(обратно)
398
Hadaya, p. 350.
(обратно)
399
Misk., p. 75.
(обратно)
400
Misk., p. 143.
(обратно)
401
Misk., p. 164.
(обратно)
402
Sabi, Rusum, pp. 27–33.
(обратно)
403
Misk., pp. 41–4.
(обратно)
404
Misk., pp. 179–81.
(обратно)
405
Misk., p. 193.
(обратно)
406
Misk., p. 235.
(обратно)
407
Misk., p. 226.
(обратно)
408
Misk., pp. 243–4.
(обратно)
409
Misk., pp. 244–5.
(обратно)
410
Misk., p. 260
(обратно)
411
Misk., р. 13.
(обратно)
412
Misk., pp. 189–93.
(обратно)
413
Misk., pp. 241–2.
(обратно)
414
Ibn Kliali, i, р. 85.
(обратно)
415
Tab., pp. 1, 027–8; Mas., 2,747; Abbott, pp. 224–5.
(обратно)
416
Tab., p. 1, 030; Yaq, ii, p. 551.
(обратно)
417
Lassner, pp. 265–6.
(обратно)
418
Lassner, pp. 48, 66, 68,251.
(обратно)
419
Tab.,pp. 1, 042–3.
(обратно)
420
Ibn Abi Tahir, text 35–53, trans. 18–25, Tab., pp. 1, 046–61; Bosworth, «An early Islamic Minor for Princes», Journal of Near Eastern Studies, xiv (1970), pp. 25–41.
(обратно)
421
Tab., p. 1, 055.
(обратно)
422
Tab., p. 1, 056.
(обратно)
423
Tab., p. 1, 059.
(обратно)
424
Tab., p. 1, 060.
(обратно)
425
Tab., p. 1, 060.
(обратно)
426
Tab., pp. 1, 030,1,039.
(обратно)
427
Abbott, pp. 227–35.
(обратно)
428
Tab., p. 1, 068.
(обратно)
429
Tab., p. 1, 068.
(обратно)
430
Tab., p. 1, 046.
(обратно)
431
Tab., pp. 1, 080–1, цитата из Корана, ХИ, 92; см также Aghani, х, рр. 98–101, где красноречие Ибрахима спасает ему жизнь.
(обратно)
432
Ibn Khali., trans., i, pp. 16–20.
(обратно)
433
Tab., p. 1, 103.
(обратно)
434
Tab., pp. 1, 109–11.
(обратно)
435
Ref. to Koran, lx, 52.
(обратно)
436
Tab., р. 1, 1)1–12.
(обратно)
437
Даты взяты из: Tab., р. 1, 140.
(обратно)
438
Ibn Tayfur, рр. 349–50, trans, рр. 157–8; Tab., рр. 1,134–5.
(обратно)
439
Mas., 2,780–1.
(обратно)
440
Tab., р. 1, 137. Многие описания событий, безусловно, были искажены с политическими целями, однако приводимые детали похорон, скорее всего, близки к истине.
(обратно)
441
Здесь я использовал информацию Майкла Куперсона.
(обратно)
name=t498>
442
Tab., рр. 1, 323–4.
(обратно)
443
Tab., р. 1, 164.
(обратно)
444
Tanbih, рр. 322–3.
(обратно)
445
Mas., 32 Tab., рр. 1, 183,1324, trans. Bosworth, n. 617, quoting Mas., Tanbih.
(обратно)
446
Tab, pp. 1, 325–6.
(обратно)
447
Tab., p. 1, 164.
(обратно)
448
Tab., pp. 1, 181–3.
(обратно)
449
Tab., pp. 1, 183–4.
(обратно)
450
Tab, pp. 1, 183–4.
(обратно)
451
Tab., p. 1, 181.
(обратно)
452
Tab., p. 1, 180.
(обратно)
453
Tab., pp. 1, 180–228.
(обратно)
454
Tab., pp. 1, 230–2.
(обратно)
455
Относительно этой даты см. перевод Босуорта: Bosworth trans., n. 270 quoting Mas.
(обратно)
456
Tab., pp. 1, 234–56.
(обратно)
457
Tab., p. 1, 236.
(обратно)
458
Tab., p. 1, 256.
(обратно)
459
Tab., p. 1, 249.
(обратно)
460
Tab., p. 1, 249.
(обратно)
461
Tab., pp. 1, 257–8.
(обратно)
462
Tab., pp. 1, 249–50.
(обратно)
463
Tab, p. 1, 261.
(обратно)
464
Tab., р. 1, 265; Yaq.,ii р.581.
(обратно)
465
Tab., р. 1, 265.
(обратно)
466
Tab., р. 1, 267.
(обратно)
467
Uyun, р. 398.
(обратно)
468
Tab., рр. 1, 308–13; краткое описание ареста и смерти Афшина см.: Yaq., ii, р. 583, and Mas. 2,819–21.
(обратно)
469
Tab., р. 1, 317.
(обратно)
470
Tab., pp. 1, 317–18.
(обратно)
471
Tab., pp. 1, 326–8.
(обратно)
472
Tab., p. 1, 364.
(обратно)
473
Tab., pp. 1, 351–7.
(обратно)
474
Tab., pp. 1, 343–9. Лидером мятежа был Наср ибн Ахмад аль Хуза’л.
(обратно)
475
Подробнее об этом см. в следующей главе.
(обратно)
476
Tab., р. 1, 338.
(обратно)
477
Tab., р. 1, 369.
(обратно)
478
Tab., р. 1, 465.
(обратно)
479
See Kraemer’s n. 631 in Tab., trans., p. xxxiv. Моя интерпретация головного убора слегка отличается от его версии.
(обратно)
480
По-арабски — zayy al-mukhanithin.
(обратно)
481
See Tab., trans. Kraemer, n. 244, детали этой истории использовались более поздними авторами.
(обратно)
482
Tab., р. 1, 375.
(обратно)
483
Tab., р. 1, 377.
(обратно)
484
Tab., рр. 1, 411–12.
(обратно)
485
Tab., р. 1, 421.
(обратно)
486
Tab., р. 1, 407.
(обратно)
487
Tab., trans. Kraemer, n. 358, quoting Ibn Hawqal.
(обратно)
488
Tab., pp. 1, 389–90. Полный текст декрета дается в: Tab., рр. 1, 390–4.
(обратно)
489
Tab., рр. 1, 413–4.
(обратно)
490
Tab., рр. 1, 424–5.
(обратно)
491
Tab., pp. 1, 435–7; Yaq., ii, 600; Mas., 2942.
(обратно)
492
Tab., pp. 1, 438–9.
(обратно)
493
Tab., p. 1, 459.
(обратно)
494
Mas.,2,857–68.
(обратно)
495
Mas., 3,043.
(обратно)
496
Fihrist, p. 66 (trans, pp. 131–3).
(обратно)
497
Fihrist, pp. 320–1 (trans., pp. 626–8); Mas., 3,316.
(обратно)
498
See D. Gutas, Greek Thought. Arabic Culture (London, 1998), pp. 54–60, подробное обсуждение этого вопроса см. в рассказе о «Байт аль-хикме». Я следовал за заключениями Гутаса, хотя следует отметить, что они остаются спорными.
(обратно)
499
Yaqut, Mu'jam al-Udaba (Irshad al-Arib), ed. I. Abbas (Beirut, 1993), ii, pp. 545–6. Я хотел бы выразить свою благодарность Летиции Ости, которая привлекла мое внимание к этому тексту. Мой перевод основан на ее варианте с незначительными изменениями.
(обратно)
500
Yaqut, Udaba, ii, р. 536.
(обратно)
501
О его жизни и карьере см.: Fihrist, р. 67, trans, pp. 133–5: Ibn Khali., trans, iii, p. 37.
(обратно)
502
О его жизни см.; Fihrist, р. 163, trans, pp. 320–2. Сохранившиеся части «Kitab Baghdad» опубликованы в немецком переводе X. Келлера (Leipzig, 1908).
(обратно)
503
Fihrist, pp. 378–9, trans, p. 742,
(обратно)
504
Fihrist, p. 170, trans, p. 335.
(обратно)
505
See G. J. van Gelder, «Beautifying the Ugly and Uglifying the Beautiful: the Paradox in Classical Arabic literature», JSS, 48 (2003), pp. 321–51.
(обратно)
506
Tab., p. 165, n. 556, trans. (Kraemer) p. xxiv.
(обратно)
507
Sub, Kitab abAwraq, ed. A. Khalidov (St Petersburg, 1998), pp. 457–8.
(обратно)
508
Tab., pp. 1, 557–8.
(обратно)
509
Tab., pp. 1, 634,1,641–2,1,647.
(обратно)
510
Gutas, p. 138.
(обратно)
511
Ibn Khali., i, pp. 478–9.
(обратно)
512
Fihrist, p. 346, trans, p. 673.
(обратно)
513
Fihrist, p. 353, trans, pp. 694–5.
(обратно)
514
Fihrist, p. 304, trans, p. 585.
(обратно)
515
Fihrist, p. 331, trans, pp. 647–8.
(обратно)
516
Jahiz, Bukhala (Misers), pp. 81–93, trans, pp. 67–78.
(обратно)
517
See the list in G. N. Atiyeh, Al-Kindi: the philosopher of the Arabs (Rawalpindi, 1966), pp. 148–210.
(обратно)
518
Ibn Khali., v, pp. 162–3, trans, pp. 315–17.
(обратно)
519
Tab., рр. 1, 394–403, дает полный текст этих документов. См. также: Yaq., ii, рр. 594–5; Abbott, «Arabic papyri from the reign of al — Mutawwakil», ZDMG, 92, 1938, pp. 88–135.
(обратно)
520
Tab., p. 1, 497.
(обратно)
521
Tab., p. 1, 542.
(обратно)
522
Tab., p. 1, 543.
(обратно)
523
Tab., pp. 1, 454–5.
(обратно)
524
Tab., trans, p. xxxiv (Kraemer), n. 589.
(обратно)
525
Здесь мы можем вспомнить современные примеры подобных случаев — хотя бы пресловутое предсказание принцессе Диане ее гибели в автомобильной катастрофе.
(обратно)
526
Tab., р. 1, 462.
(обратно)
527
Tab., р. 1, 471.
(обратно)
528
Tab, р. 1, 472.
(обратно)
529
Tab, pp. 1, 463–4.
(обратно)
530
Tab, p. 1, 473.
(обратно)
531
Tab, pp. 1, 481–5.
(обратно)
532
Tab, p. 1, 484.
(обратно)
533
Tab, pp. 1, 486–8.
(обратно)
534
Согласно Сули по лейденскому изданию Табари, р. 1, 502, trans. Saliba, р. 1, 502.
(обратно)
535
Tab, р. 1, 505.
(обратно)
536
Tab, р. 1, 510.
(обратно)
537
Tab, рр. 1, 511–12.
(обратно)
538
Tab, р. 1, 515.
(обратно)
539
Tab, рр. 1, 538–9.
(обратно)
540
Tab, р. 1, 542.
(обратно)
541
Tab, р. 1, 544.
(обратно)
542
Tab, р. 1, 550.
(обратно)
543
Tab, р. 1, 553.
(обратно)
544
Tab, р. 1, 552.
(обратно)
545
Tab, р. 1, 552.
(обратно)
546
Tab, рр. 1, 586–7.
(обратно)
547
Tab, рр. 1, 555–6.
(обратно)
548
Tab, р. 1, 556.
(обратно)
549
Tab, рр. 1, 563 4.
(обратно)
550
Полностью приведено у Табари, рр. 1, 565–76.
(обратно)
551
Tab, р. 1, 578.
(обратно)
552
Tab, рр. 1, 578–9.
(обратно)
553
Tab, р. 1, 580.
(обратно)
554
Tab, рр. 1, 592–3.
(обратно)
555
Tab, рр. 1, 621–3.
(обратно)
556
Tab, р. 1, 630.
(обратно)
557
Tab., р. 1, 632.
(обратно)
558
Tab., pp. 1, 638–9.
(обратно)
559
Tab., p. 1, 645.
(обратно)
560
Tab., p. 1, 712.
(обратно)
561
Tab., p. 1, 659.
(обратно)
562
Tab., p. 1, 669.
(обратно)
563
Tab., p. 1, 657.
(обратно)
564
Tab. pp. 1, 670–1.
(обратно)
565
Tab., pp. 1, 687–8.
(обратно)
566
Tab., pp. 1, 694–7.
(обратно)
567
Tab., pp. 1, 707–8.
(обратно)
568
Tab., pp. 1, 712–13.
(обратно)
569
Tab., p. 1, 374.
(обратно)
570
Tab., pp. 1, 736.
(обратно)
571
Tab., p. 1, 720.
(обратно)
572
Tab., 1,722–4.
(обратно)
573
Tab., pp. 1, 793–4.
(обратно)
574
Tab., pp. 1, 813–34.
(обратно)
Оглавление
ОТ РЕДАКЦИИ
БЛАГОДАРНОСТИ
ДАТЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава I
РЕВОЛЮЦИЯ
Глава II
МАНСУР И ЕГО НАСЛЕДНИКИ
Глава III
ГАРУН АЛЬ-РАШИД: ЗОЛОТОЙ РАСЦВЕТ
Глава IV
ВОЙНА МЕЖДУ БРАТЬЯМИ
Глава V
ПОЭЗИЯ И ВЛАСТЬ
ПРИ РАННИХ АББАСИДАХ
Глава VI
ЛАНДШАФТ С ДВОРЦАМИ
Глава VII
ГАРЕМ
Глава VIII
ОТ МАМУНА ДО МУТАВВАКИЛЯ
Глава IX
КУЛЬТУРА ПРИ ДВОРЕ АББАСИДОВ
Глава X
РАСЦВЕТ И ЗАКАТ В САМАРРЕ
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
ИЛЛЮСТРАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
INFO
*** Примечания ***