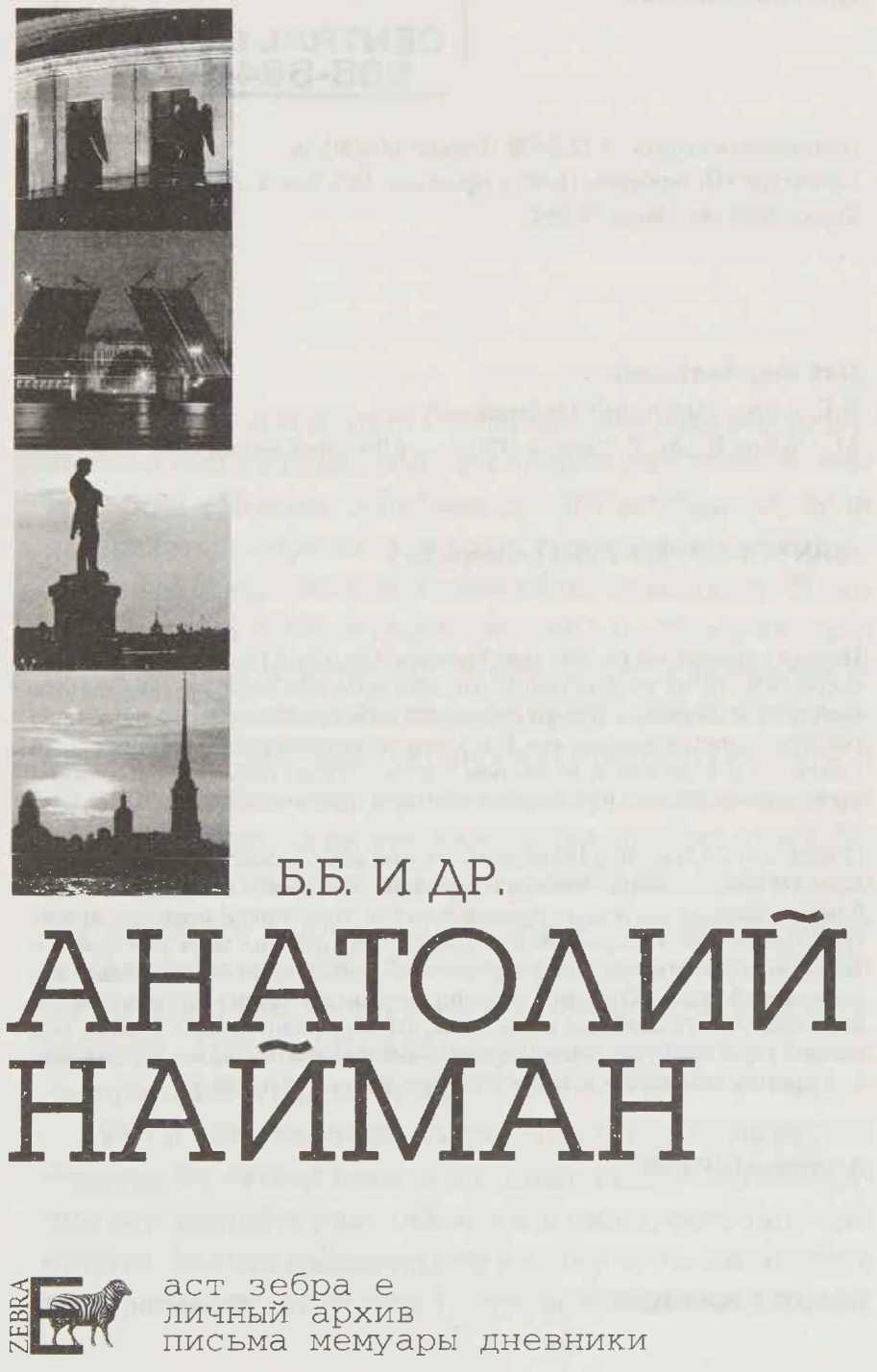Б.Б. и др.
Анатолий Найман
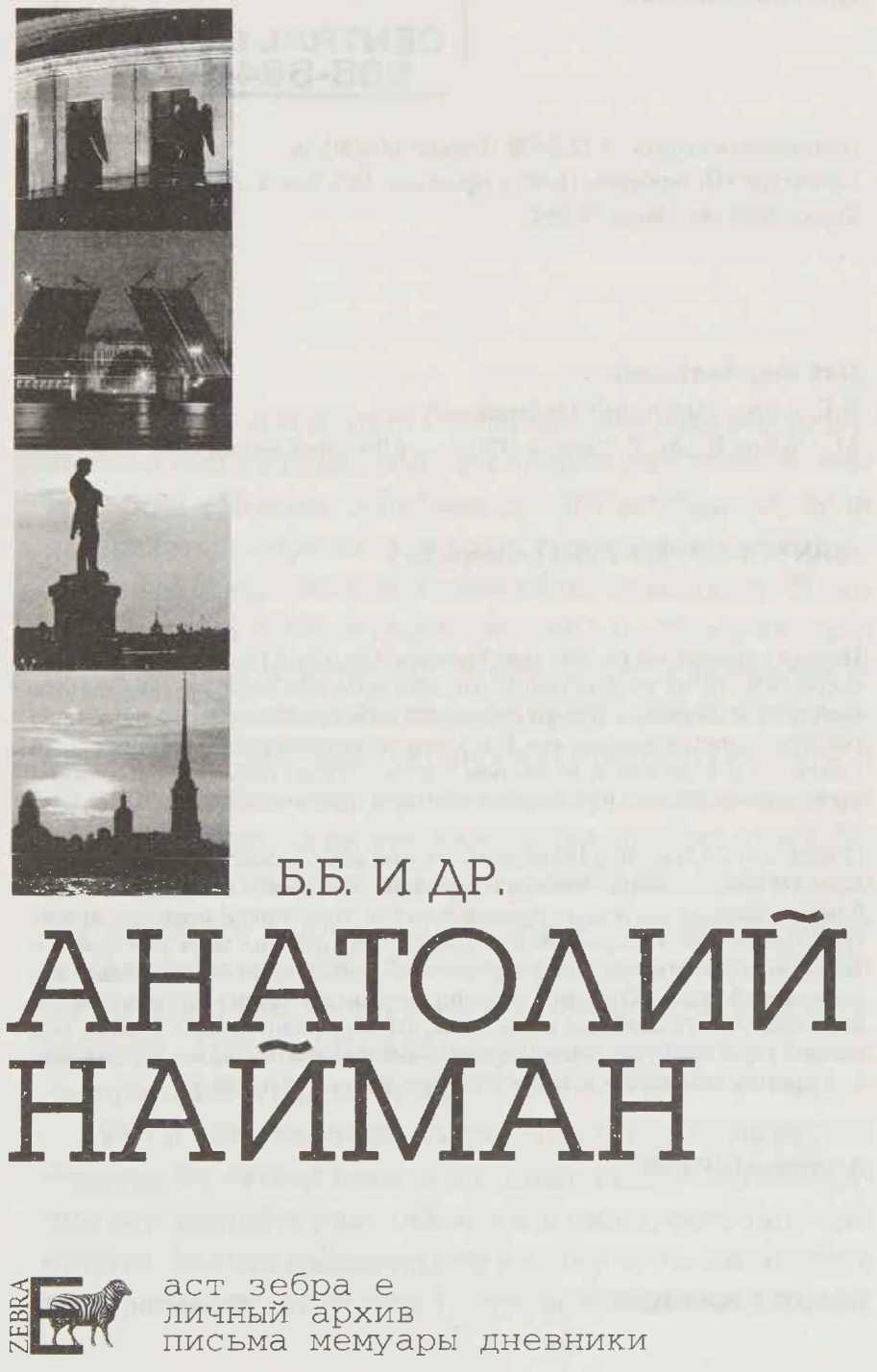
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(Меня зовут Александр Германцев, это имя могло попасться вам на глаза, если вы читали книгу Анатолия Наймана «Поэзия и неправда». Я был близок, если не сказать — принадлежал, к тому кругу молодых ленинградских поэтов, который он описывает. Я довольно рано и решительно отошел от этого круга и поддерживал отношения — всё более отдаленные — с одним Найманом. В тот раз я предоставил в его распоряжение собственную версию происходившего, и он использовал ее — достаточно корректно в своем «романе». Сейчас он уговорил меня рассказать о Б.Б., объясняя это тем, что фигура его общеинтересна, что мы знали его одинаково близко, но что между ними двумя связь не прервалась до сих пор, и это, начни он писать о нем, будет его сковывать. Однажды поддавшись, ты уже не можешь устоять в другой раз: он заставил меня согласиться.
Его я зато заставил согласиться на магнитофон: никогда не любил писать длинные вещи, а за последние лет двадцать разучился и письма простейшие сочинять. Так что наговорил на пленку что и как хотел, а он перевел это на бумагу. То, что получилось, так же не похоже на то, что я говорил, как мы с Найманом. Я так не умею: слова те же, но я так не хочу и, честно говоря, не люблю. То есть и сам не хотел бы так писать и не очень люблю, как это делается вместо меня. Потому и не пишу, что не знаю, как хотел бы это делать, чтобы любить. Знаю только, что не так, не сяк и не этак. Он и для «Поэзии и неправды» всю мою часть — правда, по моим дневникам — под себя переписал. И как тогда я дал согласие на публикацию только при условии, что под его именем, так и сейчас. Все, что здесь написано, — правда, под каждой страницей готов
подписаться — так, как подписывался в свое время под протоколом допроса. Короче говоря, я этого не
писал.)
Какого-нибудь человека объяснить можно единственным словом: скажем, благородный или, наоборот, дрянной. Другой требует целой фразы, третий — абзаца. На четвертого надо потратить рассказ, как на священника Сергия Касатского; на пятого — роман, как на Родиона Раскольникова. На Б.Б. должен уйти том, и обязательно неоконченный, как у Музиля. Потому что Б.Б. — человек, тоже не зависящий от свойств, только не человек
без свойств, а человек
из свойств: из заемных качеств, каковые он, не ориентируясь и даже не понимая, как можно ориентироваться на собственные реакции, которые могут в один и тот же момент быть какими угодно вплоть до прямо противоположных, одна другую отрицающих, всю жизнь брал напрокат у других — естественно, не спрашиваясь. Доброту, заботливость, внимательность, иногда услужливость — и даже дурные: зависть, неприязнь, безжалостность. Он как будто приглядывался, как в случае, подобном его, поступают окружающие, и имитировал их поведение. С годами многие модели вошли в память, он стал пользоваться уже приобретенным опытом, хотя и не всегда впопад.
О таком человеке лучше писать не любя, а я его не то чтобы люблю, но бывало, что любил, бывает, что и сейчас люблю, и, во всяком случае, не не люблю. Слыша про него от кого-то, я беспокоюсь о нем, жалею, ссорюсь с теми, кто его не любит, — а его не любят почти все. Такой человек, механически регулирующий выбор и силу свойств, неуязвим как некий абсолютный танк, и трудно вообразить, чтобы кто-то любил — и более того: не не любил — танк, особенно такой.
На чем-то окончить разговор о нем, а стало быть, и книгу, невозможно — как о погоде. У того, чего нет и что поэтому заполняется то одним, то другим и всем на свете: облаком кучевым, перистым, зноем, моросью, инеем, цветущим лугом, листопадом, градусом выше, двумя ниже, у окна, в лесу, на Невском проспекте, зонтиком, купальником, шубой, кряхтением «о-хо-хо», кашлем, барометром… — по определению, нет конца, потому что нет и начала. Кроме того, Б.Б. еще жив и, как дерево, прибавляя годовые круги, пуская из середины ствола побеги и сбрасывая сухие ветки, не может быть описан раз навсегда, как кубометры дров или платяной шкаф.
Б.Б. никогда не пуст, более того, он никогда не заполняется произвольно, тем, что оказывается под рукой, чем попало. Я недавно в течение недели трижды слышал одну женщину, редактрису толстого журнала. Она выступала с эстрады, а я сидел в зале, давала телевизионное интервью в перерыве футбольного матча, который я смотрел, и наконец, столкнувшись в компании, просто со мной разговаривала. Все три раза ее тело ограничивало ровно тот объем интеллектуально-психологического сквозняка, которым в данную минуту тянуло через помещение, где она оказалась. Но она была из породы элиотовских «полых людей», а Б.Б. из тех, кто сам этот сквозняк создает. Однако, повторяю, ближе к той черте, у которой вызванное его поступком пли словами свойство должно было бы достичь полноты, он терялся, оглядывался и, будучи, например, по природе настойчивым, заимствовал чью-то чужую, апробированную настойчивость, чувствуя, что его собственная может быть и непомерной и проявляться в диапазоне от настырности до тиранства. И, увы, проявлялась.
Два «Б» — это инициалы не то его имени-отчества, пето имени-фамилии. Борис, Бенедикт, Богдан, Бруно, даже Боб, даже Боян годятся для подстановки. Я предпочел бы дубль: Борис Борисов, а еще лучше Борис Борисович, потому что его отец был из таких, что считают рождение сына компонентой исключительно собственной судьбы, причем событием во славу ее, и дают сыну свое имя, как кораблю или улице.
Б.Б. моложе меня на восемь-девять лет. Пишу так не потому, что не знаю, на сколько именно, а потому, что умный его отец записал его в загсе месяцем позже против подлинной даты рождения — чтобы впоследствии, через восемнадцать лет, выиграть год призывного возраста. Шла война, и в ее неразберихе назвать декабрь январем большого труда не составляло. Надо ли говорить, что при такой ранней предусмотрительности Б.Б. уже годам к десяти имел справки, освобождающие его от призыва в армию по причине сотрясения мозга, хрипов в легких, астигматизма и проч., так что украденный месяц оказался в колоде пятым тузом. Родители об обмане ему рассказали — но, на всякий случай, только в двадцать восемь лет, когда по закону кончается срок воинской повинности для мирного времени. Б.Б. раз навсегда лишился дня рождения: ни по-старому уже праздновать было нельзя, ни начинать по-новому. Все вместе поставило его в положение, с одной стороны, мальчика из еврейской семьи, где страх попасть в армию воспитывался столетиями и на каком-то витке совпадал со страхом Судного дня; а с другой — дамы, родившейся в прошлом веке и словчившей во время революционной смуты лет на пять помолодеть.
Семья была не еврейская, а которая скрывает, что она еврейская. Б.Б. родился полукровкой: отец, уверенный, что знает жизнь настолько глубоко и детально, чтобы распоряжаться судьбой сына посредством присвоения ему собственного имени и чужого возраста, был, как мы уже догадались, еврей, мать русская. Отец делал тягучую советскую карьеру, при которой еврейство было изнурительным гандикапом. Но делал он ее, втайне имея в виду приумножение славы еврейского народа, поэтому чем громче звучал его коммунистический голос с трибуны, тем громче раздаваться внутри себя позволял он голосу крови. О том, какие обстоятельства и как сделали Б.Б. своим в кругу тех самых неопределенно старых дам, поговорим, когда придет время.
Я увидел Б.Б., когда ему было, наверное, лет пятнадцать: в случайной компании познакомился с его сестрой, моей ровесницей, и она пригласила меня к себе домой. Я пришел в огромную роскошную петербургскую квартиру, петербургскую в насквозь и нервно советском, безостановочно и рьяно демонстрирующем свою советскость Ленинграде. Об этой квартире в старинном барочном особняке на Фонтанке в двух домах от Невского, так же как о даче в Рощине, построенной отцом на деньги со Сталинской премии, я уже слышал рассказы от приятелей, побывавших там: описание антиквариата и редкостности, но главное, богатства — описание восторженное и потому невыразительное, и всегда с насмешкой, неоправданно призываемой, только чтобы снизить ускользавшее от слов сильное впечатление. Войдя, я понял и разделил и эти чувства, и принципиальную невозможность убедительно их выразить.
Не в том было дело, что все семьи, какие знал я и мои приятели, жили, как правило, в коммуналках, редко — в одно-, двухкомнатных квартирах новостроек, а тут был целый этаж,
бельэтаж, зеркальные окна, лепные потолки, люстры, наборный паркет, павловская мебель, севрские вазы, хрусталь, бронза, тяжелое столовое серебро. Не меньшее, чем внушительность этой пышной красоты, впечатление производила отчужденность ее от хозяев: все было чье-то, занятое, свезенное; не жилье и не музей. Узкая специальность отца был Карамзин и карамзинисты, но, конечно, с выходом на Пушкина, на Пушкина. Вернее, в 20-х, когда начинал, он и начал с Пушкина — какой-такой еще Карамзин мог прийти на ум пламенеющему комсомольцу? Но оглядевшись и сообразив, в какую сторону оно пойдет дальше и как не только он кому-то, а и ему кто-то должен будет стать подошвой на нос и глаз, чтобы продемонстрировать остальным оторванную от пушкинского фрака фалду, вовремя отдрейфовал к невредным сентименталистам, не отпуская, впрочем, далеко от себя и
нашего первого поэта. Тем самым заявил себя как
ученый и как
знаток, а не просто карьерист
из новых. Другими словами, помимо «вульгарной социологии», как стали называть комсомольский метод литературоведения недобитки
из бывших, он отдал дань и знакомству с эпохой, с ее культурой не только интеллектуально-духовной, но и с материальной. Образцами последней были набиты тогдашние комиссионные магазины, куда их за копейки отдавали все те же недобитки, чтобы купить себе несколько картофелин и вязанку дровишек. И теперь я глядел на мраморную головку княжны, потерявшей имя, и малахитовые часы из гостиной, забывшей, почему ее так называли, и понимал невразумительность рассказов об этой коллекции как минимум дважды опозоренных чучел.
Сестру Б.Б. звали ни больше ни меньше, как Береника — по наводке, надо полагать, не Иосифа Флавия, а Фейхтвангера. Легко себе представить, как, должно быть, разочаровало отца то, что первенец — женского пола. (Грузинский анекдот. Из окна роддома жена кричит мужу, что все в порядке, родила. «Мальчик?» — «Нет». — «А кто?!») Все-таки он делает усилие и называет дочь не только в честь иудейской принцессы, едва не ставшей римской императрицей, но и как-то сопрягая с собственным именем — возможно, подлинным еврейским, каким-нибудь Барух, данным секретно во избежание сглаза, которое, будучи переозвучено на русский, может быть, произносилось бы как-нибудь как Берендей. Береника Берендеевна, а? Представлялась она, однако, и в обиходе звалась исключительно Никой.
Проводя меня мимо открытой двери в одну из комнат, она ткнула пальцем в сторону сидевшего там существа, в первую секунду показавшегося мне изможденным, а возможно, и больным, а возможно, и калекой, и представила его: «Мой брат Б.Б.». Я хочу сказать, что она именно так и произнесла — «бэбэ». Тот, как будто ждал, немедленно отложил тетрадь, не то альбом, в который, держа на коленях, писал, вскочил, подошел ко мне очень близко, неприлично близко, худой, костлявый, с компрессом на шее, но никакой не инвалид, поводил глазами и губами, словно что-то обдумывая, и сказал: «Вы на машине?» Это было все равно что спросить: «Вы на слоне?» — из всех знакомых машина тогда была у одного Мироши Павлова, так Мироша Павлов — осубь статья: четыре водорода равно одному гелию плюс ноль целых двадцать девять тысячных, умноженных на скорость света в квадрате. Но я ответил просто: «Нет». — «А от нас не на такси поедете?» — «Едва ли». — «А вы поезжайте на такси — хотите я закажу? И меня подвезете. Вы куда от нас?» — «Занятный юноша», — сказал я Нике, и Б.Б. так же внезапно вернулся на место и стал быстро писать.
Через некоторое время нас позвали пить чай. К столу вышел отец в черной ермолке, которую носили академики, — их так и фотографировали для газет, как шахтеров в касках. Считалось, что ермолка греет кровь в мозге, который у академиков, понятное дело, постоянно и напряженно работает и потому теряет много энергии. Шапочка на голове отца означала, что хотя он пока только профессор, но ум его трудится в силу академического. Через равные промежутки времени он шутил, не смешно, а словно из снисхождения к окружающим: так сказать, одарял их шуткой. «От огурцов может случиться насморк», — в этом роде. Жена и Ника аккуратно смеялись, Б.Б. скатывал между пальцами хлебный мякиш и ни на кого и ни на какое слово не обращал внимания. По некоторым интонациям и оговоркам я почувствовал, что главные надежды в семье — на него, а Ника — хорошо, если защитит докторскую диссертацию.
Когда я уже уходил и у двери прощался с Никой, Б.Б. стремительно появился — словно бы ворвался — в прихожей с тяжелым портфелем в руке, в фетровой шляпе с полями, и вокруг шеи вязаный шерстяной шарф (дело было летом, правда, вечерело). Мы вместе вышли, у ворот стояло такси. «Я вызвал для вас, — сказал он. — Завезите меня, пожалуйста…» — и назвал адрес. Я рявкнул в ярости: «С какой стати?» — и зашагал прочь. «Уверен, вам на такси будет удобнее», — сказал он вслед. Я не обернулся. «Тогда хотя бы дайте рубль, я не взял с собой кошелька». Я сделал еще несколько шагов, потом подумал, с чего мне так звереть-то, полез в карман, там была только трешка. «Только трешка», — показал я ему. «Ну ладно», — извиняя меня, сказал он, подошел и взял ее из моих пальцев. Сел в машину и уехал. А я глядел завороженно.
Лучшее время в Ленинграде — белые ночи, как говорили тогда наши профессиональные соблазнители иногородним девушкам. Я шел пешком на Петроградскую сторону и рассуждал об увиденном. Собственно говоря, рассуждений было немного, а точнее, одно, а именно: «Ну и семейка!» — но иногда из него, как из змеи в засаде, выбрасывался быстрый язычок комментариев. Я подумал, например, что если сейчас отцу Б.Б. предположительно нравится хватка сына, то еще немного, совсем немного, и ему первому придется несладко. Б.Б. не будет различать, под кого вызывать такси и на чью трешку. Отец знал, как надо сыну жить, чтобы взять от жизни максимум. Сын знал — на уровне прежде всего инстинктивном, — что должен делать всякий попадающий в сферу его интересов, в частности и само собой разумеется, отец, чтобы он, Б.Б., жил, получая от жизни максимум. Разница между ними была, как между Троцким и Сталиным.
Много, почти сорок, лет спустя, летним московским вечером мне позвонил и пригласил в гости мой приятель Лев, с которым мы свели знакомство все те же сорок лет назад, когда он вместе с Найманом и Вольфом проводил июль в Серебряном Бору, снимая там дощатую халупу. Тогда перед ним открывалось манящее будущее с получением от жизни по максимуму, со стремительной карьерой, с долгими командировками на вожделенный Запад. Потом много чего случилось неожиданного, и прежде всего — слишком пристально стал он вглядываться в жизнь на предмет исследования, что в ней правда и что, стало быть, неправда, и получил пять лет лагерей. Выпущен был, однако, спасибо Горбачеву, до срока и немедленно стал бороться за права человека. И вот позвонил мне и сказал, что есть у него свежая редиска и холодная водка, а еще и малосольный лосось, и что так он за сегодня наборолся, что мутит его и от прав человека, и от сидения ради них у компьютера, и чтобы я приезжал без отговорок.
Мы еще к столу не успели выйти, только поболтали первые десять минут, когда в дверь позвонили и вкатились две женщины и мужчина в состоянии крайнего возбуждения и тревоги. Одна женщина, с широко раскрытыми, когда их не зашторивали траурные ресницы, голубыми глазами, оказалась кандидатом в депутаты тогдашнего Верховного Совета, другая, поистёртей наждачком советских будней, — ее доверенным лицом, мужчина — ее законным мужем. «Все пропало! — воскликнула первая с порога. — Они узнали, что он еврей!» Даже я понял: голубоглазая — за реформы, выборы на носу, в штабе противников пронюхали, что ее муж — еврей. А с мужем-евреем трудно набрать голоса. Лев потух — не от того, что тем казалось трагедией, а от того, что вместо редиски и семги под водку — такая бодяга. Жена Льва поманила меня за собой, мы вышли на кухню, налили по рюмке, хрустнули овощем, заели рыбкой. И тут в дверь позвонили опять.
Вошел православный священник, стал расстегивать плащ.
И еще звонок. Соседка: «Лева, у вас нет счетчика Гейгера? А то сегодня на Калужской выброс был радиоактивный». — «Счетчика Гейгера нет». — «А то днем выброс случился на Калужской…» — и не может взгляда оторвать от подрясника, который был подобран, а сейчас у нее на глазах разворачивается, и человек из мужского как бы превращается в женского. «А у вас, — это мне, — нет Гейгера?» — «Не захватил». — «Тогда я пойду. — И уже с площадки: — Боюсь, не дошло бы до нас». Батюшка проходит прямиком на кухню, выпиваем за знакомство. Наконец появляется Лев и обнадеженная им троица. Не такие они идиоты — если поглядеть после третьей-то. Кандидат в депутаты ресничками хлоп-хлоп, и доверенное лицо, в общем, интеллигентное, а муж, мой непосредственный сосед, тот так вообще экономист.
Экономист говорит мне: «Как вам нравится Рыжков — развалил экономику!» Я ему: «Да что вы, мы к нему, он к нам уже привыкли». — «Но экономика! Если не отпустить цены, страна рухнет в пропасть!» — «Зато мы его уже знаем». Экономист начинает злиться, но еще сдерживается: «Вы, кажется, поэт. Какое вам дело до рыночных отношений, не так ли?» — «Как это какое мне дело? Я очень даже за рыночность, но на Рыжкова вы зря. Тут, я догадываюсь, что-то личное, не так ли? А лицо у него, вы вглядитесь, не хамское. Вы вглядитесь», — и показываю ему, как надо вглядываться. Экономист отчеканивает: «Страна должна немедленно переходить на рыночные отношения. Цены отпустить! Рубль — в свободном падении! Добавочная стоимость —
[что-то неразборчивое, вроде: ] буль-буль-буль! Налоговая политика — буль-буль-буль! А таких, как вы, поэтов, правильно Платон сказал, держать где подальше!» И смех смехом, а я увидел перед собой Троцкого, Льва Давыдыча.
Это было цельное, без единой щербинки, ветхозаветное первосвященническое знание того, как мне жить. Как жить всем, народу, и в частности, мне.
И единственное, что меня с ним примиряло, больше того, вызывало к нему сочувствие, это что и на него был Сталин. Не надо систем, тем более — объяснений, тем более — нюансов: рэзать! Бери такси, тебе говорят!
Ладно, не хочешь — давай трешку.
И тут не до
папи, не до
сестре: вот мы в этой точке, а нам надо в ту — прикладываем линейку, и по прямой, через папу, сестру и кого там еще придется!.. В этот момент Лев поднял стопку и патетически провозгласил: «А я предлагаю выпить именно за этого поэта, который два раза в месяц писал в зону моему соседу по бараку». И экономисту, троцкистскому отродью, некуда деваться — выпивает. А в зону я писал Б.Б…
* * *
Мироша Павлов меня на своей машине время от времени катал. Мы с ним дружили, что в ранней молодости означает, в общем и целом, не не дружили. Мы с ним дружили, но однажды он и Илья Авербах целый вечер провели в разговоре с отцом нашей общей знакомой, известным юристом, советуясь с ним, как следует организовать убийство, к примеру, Толи Наймана, чтобы совсем не оставить улик. Ну, не всерьез, конечно, только к примеру, интерес был чисто академический, и в ранней молодости «убить» — это, прежде всего и главным образом, один из глаголов 2-го спряжения. И в то время, глядя в полные театрального осуждения злоумышленников глаза нашей общей знакомой, доносившей мне на них, я думал, во-первых, о том, как Найман, когда узнает, начнет воображать о своей особе, которую, мол, из-за ее бросающейся в глаза неординарности каждому лестно избрать хоть в жертву, хоть в жреца, словом,
избрать; а во-вторых, о том, какие дурацкие вещи интересны Мирохе и Илюхе — дурацкие, потому что не дурацкие были интересны
мне, и этих, ихних, среди них не было.
Однако, когда года через два-три Наймана с Авербахом зачислили в слушатели Высших сценарных курсов и, расселяя по двое в общежитии, предложили объединяться в пары по личной склонности, и для Наймана, как он мне рассказывал, само собой разумелось, что они, к тому времени тесно приятельствовавшие уже несколько лет, есть пара необсуждаемая, о чем он Авербаху мимоходом просто чирикнул, а тот побагровел и с ошеломившей Наймана чуть ли не свирепостью выговорил, что давно собирался, да случая не было, сказать ему, что их понятия почти обо всем не только не близки, но прямо антагонистичны, что он, Найман, ни жизнью, ни творчеством не заслужил права судить о жизни и творчестве других свысока и насмешливо, не сообразуясь с общепризнанными их достоинствами, и что лучше он будет жить в одной комнате с незаметным Кокой Ватутиным из Брянска, чем с человеком, сплошь и рядом вызывающим в нем сильнейшую неприязнь, — из памяти вдруг выскочил тот отвлеченный, «к примеру», план о не оставляющем следов покушении на него, такого, как ему представлялось, безобидного и милого. Но мысль побуксовала, побуксовала и, состава преступления в юридически-детективной забаве не найдя, вернулась к слову «дурацкая». Ни тот, ни другой никогда о том яростном авербаховском объяснении не вспоминали и продолжали приятельствовать. Кока Ватутин из Брянска вскоре был не то помечен, не то даже разоблачен как платный осведомитель, специально засланный на курсы, — так что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Мироша Павлов с Авербахом
дружбанил, но и с Найманом и со мной — тоже. Он вообще всю жизнь партизан дружбы. Мироша Павлов был физик-ядерщик. Он и сейчас физик-ядерщик, с репутацией высокой, под Нобелевскую премию, но тогда на таких, как он, лежала печать принадлежности к закрытому клубу, причастности к мировым секретам, а сейчас мир не знает, как бы деликатней покончить со всеми этими низведенными на землю солнечными плазмами, которые никак не желают гореть, хотя за сорок лет в топку брошено сухой бумаги с изображением Кремля и Джорджа Вашингтона достаточно, чтобы разжечь льды и базальты Антарктиды и Гренландии. Мироша Павлов человек дружбы, но в не меньшей степени человек чести, и за дружбу с антисоветским поэтом Левой Друскиным стал невыездным на добрые десять лет, из которых в первые три, хотите верьте, хотите нет, невыездным даже в Москву — в Москву из Ленинграда! А машину ему, когда он еще только учился на физика-ядерщика, подарила мама, которая была деканом, доцентом, а также одним из первых номеров во всенародной борьбе за мир.
На этой машине марки «Москвич-407», специально сконструированной для нескоростной езды, они с Найманом отправились в Рощино, имея в виду без предупреждения явиться к Нике, а если честно, то в их дом. За месяц до того мы с Мирошей Павловым так и поступили, но вышел афронт. Тогда мы приехали в Рощино на электричке, повалялись на пляже, выкупались, и на нас напал зверский голод, ну невыносимый. День будний, ларьки закрыты, мы в привокзальную столовку — санитарный день. А давай к Нике, уж куска хлеба всяко не пожалеют, а может, и обедом накормят. Давай-то давай, но не так все просто: дело в том, что Мироша был в Нику влюблен и намеревался делать предложение. Точнее, один раз уже делал и был попрошен потерпеть. Так что пожрать ли мы с ним на рысях тогда шли или опять увидеть милый образ, с определенностью сказать было трудно. Оказалось, только второе. В калитку нас не впустили: сперва мама, Ника и Б.Б., а потом и профессор в шапочке вышли к забору и так минут пятнадцать с нами радушно разговаривали. Время от времени с их стороны на забор, задыхаясь, бросалась кавказская овчарка, еще прежде спущенная с цепи и обратно быть посаженной забытая. Наконец мы наболтались, нашутились, отсмеялись, душевно простились, были приглашены приходить еще, спрошены несовершеннолетним Б.Б., не на машине ли мы, и в голодном, доходящем до помрачения ума исступлении поплелись на шоссе, на автобус. В двух остановках электрички была дача Мейлахов, могли бы еще сунуться туда, тамошние «дети» тоже были нам не чужие, но это если бы сразу, сперва. Автобус пришел через полчаса, мы сели на свободные места и потихоньку, потихоньку стали говорить друг другу, где, что и как мы в Ленинграде поедим. Приедем, выйдем на Манежной, а на Толмачева как раз столовая, там щи суточные немыслимые; или на Малой Садовой кафе в подвальчике, там пирожки с луком тают, звучит банально, но тают, тают во рту; а на Большой Садовой ресторан рядом с «Молодежным», там эти, ромштексы; а кстати сказать, и в «Молодежном» буфет с бутербродами с сыром двух сортов свежайшими, а заодно можно и кино посмотреть; это если не дотянем до «Севера», а уж в «Севере»… На остановке в Солнечном в автобус вошла тетка с корзиной и стала рядом с нами. Из корзины пахло укропом, несло укропом прямо как… И тут я увидел у нее в кармане плаща яблоко и глазами показал Мироше, и он моментально стал тянуться к нему, наклоняться и уже рукой полез, но автобус тряхнуло, рука в тетку ткнулась, она посмотрела и отодвинулась.
И теперь Павлов с Найманом ехали все повторить — чтобы переломить судьбу и стереть то унижение. Они были в пиджаках и галстуках, два привлекательных молодых человека с большим будущем, ученый и поэт.
На всякий случай в багажнике у них лежал пакет с хлебом, сосисками и огурцами. И по яблоку.
Их впустили. Бесконечно долго ловили и привязывали пса, потом открыли калитку. Они просидели сперва в гостиной, потом на открытой террасе два часа — из самых, как клялся потом Найман, томительных в его жизни. Профессор рассказал краткую биографию Ипполита Богдановича, включив в нее несколько вольностей, идеологических, например, о его верноподданничестве, которое профессор чуть ли не одобрял. Мама сказала, что болен их сосед, известный критик, — сказала, как Найман подумал, к месту, потому что критик был известен прежде всего верноподданничеством. Б.Б. вдруг спросил с нелогичным воодушевлением: «Смертельно?» — «Ах, окстись, просто что-то с суставами». — «С суставами может быть смертельно, — не отступил он. — Есть такая болезнь, кальциевая смерть». — «Типун тебе на язык», — сказала мама и рассмеялась — как неосознанной шутке не по годам развитого мальчика. Им дали по чашке чая с печеньем. Мироша изредка бросал взгляды на Нику, которая безмятежно смотрела в сад. Когда они поднялись, Б.Б. сказал, что доедет с ними до Сестрорецка. Он пытался сесть на переднее, то есть на Наймана, место, тому пришлось его спихнуть коленкой. Он был в фетровой шляпе, с тяжелым портфелем и еще одной сумкой, в которую мама положила свитер и термос.
Высадив его — разумеется, свернув для этого с шоссе и довезя до дома, дорогу к которому он им, путаясь, показал, — они остановились на окраине Сестрорецка и перекусили. Никого не винили, ничего даже не обсуждали, поели и поехали дальше. Шоссе ремонтировалось, обгон был запрещен до самого Лисьего Носа. Вскоре они уперлись в «Победу», которая шла со скоростью тридцать километров в час. Вот кто у них вызвал негодование, презрение, ненависть, вот кто их, оказывается, по-настоящему унизил, испортил их такую приятную поездку, весь их день! Ты смотри, а! Тащится, паралитик, пенсионер, полковник в отставке, как сопля из носу! Ты посмотри, это же антиезда, это же он нарочно, издевается над нами! А знаешь, Толя, когда участок кончится, я выеду на обгон, и как поравняемся, ты ему скажи, кто он! Я ему, Мироша, скажу, ты только поравняйся! Потому что считалось тогда, что Найман жутко остроумный, язык как бритва, срежет любого, вот например… — и дальше какая-нибудь история вроде тех, которые Довлатов про этого самого Наймана рассказал по прошествии лет в «Соло на ундервуде». И за Лисьим Носом выезжают они на обгон, Найман с азартом спускает свое стекло — и видит в метре от себя удивительно, по его словам, спокойное, благородное, умное лицо мужчины лет пятидесяти, который бросает на него серьезный вежливый взгляд и снова переводит глаза на дорогу. Найман, на секунду споткнувшись, говорит ему с мгновенно выдохшейся, а главное, ни из чего не следующей страстью: «Д-дур-рак!» быстро поднимает стекло, успевает схватить еще один его точно такой же взгляд, и они проезжают мимо. Едут молча, не смотря друг на друга. Потом Мироша говорит: «Если ты, Толя, не против, я расскажу знакомым, как ты его остроумно срезал, ладно?» Так что я слышал эту историю от обоих.
Через много лет мне пришло в голову, что не подходили они им: ни Мироха Павлов, ни Толя. Конъюнктурно он был, конечно, хороший жених: русский, физик, пловец кролем, мать — декан и у властей на хорошем счету. Но в исторической перспективе, в великой исторической перспективе, где есть принцесса Береника и Лион Фейхтвангер, там нет даже Вестмюллера, дважды олимпийского чемпиона, больше известного как Тарзан, там из физиков есть только Эйнштейн, а уже Планка надо высвечивать сильным прожектором, там нет ни этих кратковременных, хорошо если на одно столетие, властей, ни, тем более, тех, кто у них на каком-то счету, а главное, там русские — племя, которое не упоминается в Библии даже среди гергесеев и исмаилитов, которому всего-то лет девятьсот-тысяча от роду. Хватит, отдано идее ассимиляции больше, чем следовало, много больше, чтобы не сказать — все: по молодости, но ошибке, теперь дети — полукровки, да к тому же по матери, то есть вообще не евреи, надо исправлять, если только это исправимо… Что же касается Наймана, то он, если дурака не валять, выглядел для профессора обыкновенным шаромыжником, хоть при галстуке, хоть без: пишешь стихи — так не сочти за труд, будь, куда ни шло, Евтушенко или Ахмадулина. Притом еще и опасный — с этой забубенно безмозглой позицией непринадлежности к торжествующему режиму. Так что приваживать, пуская в дом кого ни попадя, — это спускать планку до дворовых соревнований с уровня всесоюзных, на которые допущены хозяин дома, критик, заболевший суставами, писатель Герман и физик Понтекорво с семьями.
Словом, Павлов Мироша был забракован как не
наш, потому что
гой, пусть и стоящий, а Найман — как не
наш, потому что и никчемный, и не
советский, пусть и еврей.
Одна идея сидела в мозгу хозяина дома, один образ стоял перед глазами: он, полный уже годами, но сильный еще, точь-в-точь проданный в Египет патриарх, дождавшийся детей до третьего рода, спускается по лестнице со второго этажа дачи на первый, а внизу толпятся внуки и правнуки, лица подняты ему навстречу, и на каждом сияние радости. Время, однако, советское, соответственно и формы выражения восторга: что-то вроде кликов «спасибо товарищу дедушке за наше счастливое детство!» — и он с трибуны мавзолея помахивает рукой наподобие
того, главного родоначальника. Пусть не в фуражке, а в ермолке, зато и род, им произведенный и оставляемый, дотянет, переправившись через коммунизм, или как там еще будет зваться этот вавилон, до прихода
мессии. И тогда скажет ему Адонаи-Господь: «Молодец, ты хороший еврей. Хотя ты женился на русской и женился на партии большевиков, хотя одна твоя жена — Агарь, а другая — Далила, можешь взойти на лоно Авраамово. Благодарю».
* * *
Дальше — семнадцатилетие Б.Б., еще, так сказать, по старому стилю, в январе. День рождения, на котором не присутствуют ни папа, ни мама и нет ни одного ровесника, а только приятели сестры Ники вроде вашего покорного слуги да Мироши Павлова, сестрой уже почти уволенного по причине другого избранника, тут же сидящего, да Наймана, да Ильи Авербаха, да Рейна Евгения с молодыми женами, да Бродского Иосифа, о котором особый разговор, ибо он за этим столом и вообще в этой квартире — на особом месте. Домработница и бывшая няня Б.Б. Феня вносит и выносит блюда то веджвудского, то кузнецовского фарфора, сияют люстры, горит камин, в хрустале пенится искрометная влага и прячется скромная водка. Флюиды низменного хулиганства, низкопробного нигилизма люмпенов, нацеленных на великое попрание материальных и поругание интеллектуально-духовных ценностей здравомыслящего человечества, пронизывают воздух. Пятна соуса и вина вспыхивают на белоснежной скатерти, все громче хохот, следующий за звоном разбиваемого бокала, упавшей на пол тарелки. Безнаказанность возбуждает. Феня появляется с огромной супницей, из которой идет пар, — взрыв бессмысленного восторга! Это
кокили, крабы, запеченные в больших морских раковинах,
спесиалитэ-дэ-ля-мэзон. Эй, Б.Б., ну-ка, какого-нибудь этакого вина! Небось у отца где-то за-ныкано! И Никин жених, змеясь мефистофельской улыбкой, утвердительно: «Небось заныкано». И Ника, налегая на его плечо: «Давай, давай,
бэбэ, сам знаешь где». Б.Б. входит с вином — испанская малага 1935 года. Не из погребов ли товарища Франко?! Да-да, товарищ Франко и товарищ Муссолини, славных вин они попили в 1935 году! И Лорка. Лорка, правда, своего недопил, жаль. Паунд зато допил и за себя, и за него. Минус годы вынужденной абстиненции. А без строгости нельзя, вот Салазар… Да-да, Салазар, не забудьте товарища Салазара. И не забудьте товарища малагу, разлейте его по товарищам бокалам. Б.Б., а что еще там есть у товарища папы? Ну, есть арманьяк 1930-тоже-какого-то года. Так немедленно привести сюда товарища арманьяка — мы его приговорим за сотрудничество с камрадом Петеном! А теперь чаю, чаю в обе бутылки, и обратно в папашин сундук.
(Как переменилась за сто-полтораста лет литературная фактура книги, ее ценности! Цвет волос — кому он нужен? Рост, вес, хотя бы и Ильи Обломова, — неинтересен, усатенькая губка княгини Лизы — кого это
колышет? К знаменитый изгибчик Грушеньки, наоборот, затаскан потому только, что да, да, у них, у таких, у
всех изгибчик. Тошнотворное школьное «представительство»: Печорин представитель «лишних людей», Чичиков — нарождающейся буржуазии, Лопахин — народившейся. «Представительство» возобладало над «личностностью». Нам интересно то, чего они представители, раз они, даже в функции всего лишь представителей, оказались достаточно интересны. Изгибчик — представительный, губка — нет. Герой книги не личность, а сюжет, история, в которую личность попала как представитель среды, в которой такие истории происходят. Так ведь это потому, что и на улице так: из какой вы страны? из какой семьи? профессия? партийность? Ага, понятно. А что вы там за
личность, ни времени нет узнавать, ни сил. Да и что вы такая за личность особенная, чтобы отличаться от себя как представителя? Ну добавим в опросный листок еще десяток-другой пунктов, и разойдется ваша личность без осадка, как таблетка растворимого аспирина. Которые ваши особенности двигают сюжет и поддерживают наш интерес к нему, те и нужны, а остальные держите при себе, чтобы смотреться в зеркало… Итак, выглядел в это время Б.Б. не столько болезненным, сколько остерегающимся заболеть; тощим, но вполне возможно, чтобы не таскать лишний вес; «слабосильным», как тогда говорили, но в аккурат в ту меру, чтобы доносить (если Феня не помогала) полупудовые сумки до такси; без мышц, но с намечающейся жилистостью. Он был вял и если что-то ронял, а ронял часто, то другой успевал поднять быстрее, чем он. Он продолжал сжимать между большим и указательным пальцами хлебный мякиш, переводил глаза на того, кто в данную минуту говорил, и время от времени что-то писал в тетрадке, лежавшей возле него на мраморном столике.) Несколько мощных магнитов стали нагнетать и натягивать тогда электрическое поле вокруг Б.Б., и неизвестно, который был сильнее какого. Университет, куда он — естественно, на филологию — поступил; накопление самых разнообразных знаний, иногда смахивающее на коллекционирование; тяга, всегда немножко через край, к присутствию, если не участию, во всем и везде происходящем; компания сестры — вот эти самые
мы со стихами на кончике языка, самовлюбленные и ни в чьем участии не нуждающиеся; наконец, Бродский — и как часть
нас, и совершенно отдельно.
К университетской жизни студенческой оставался Б.Б. равнодушен, не столько из-за претящей вкусу дешевки стиля, коммунального, общепринятого, всегда одного и того же, сколько из-за ее одинаковой доступности для всех, отсутствия исключительности. Возможно, в этом проявлялось и сокрушительное его себялюбие, и снобизм, но решающим было то элементарное соображение, что если доступно, значит не лучшее, а получать имеет смысл только лучшее, это аксиома. В доступности была единственная привлекательность: не требовалось усилий. Иначе говоря, доступность не лучших вещей наилучшим образом обеспечивала сохранение сил для получения вещей лучших — тоже аксиома. Он этим пользовался: легкой, не осознающей себя доступностью дружб и Любовей, которые он без усилий поворачивал так, чтобы они проявлялись в нужном ему направлении.
С девицами, склонными к чувствам или, наоборот, к однообразным проделкам без чувств, он сходился по мере надобности, с демонстративной невовлеченностью в событие, или точнее, демонстративно не замечая, что это — событие, и платил им красотой антуража в квартире окнами на Фонтанку в двух шагах от Невского. Он даже приобрел репутацию — не ходока, разумеется, о, отнюдь не ходока, но — чуть ли не холодного развратника, во всяком случае, малого, который готов
положить глаз, что именно больше всего и ценилось у филологинь.
Приятели все были из увлеченных безделием и
балдежом, и попросить их что-то куда-то подвезти, его, а еще лучше кого-то из них же, с кем он условился, подождать, встретить, что-то взять, подержать покуда у себя, а он потом заберет, а еще лучше, когда он скажет, «захватить с собой»; получить для него в библиотеке книгу, не говоря уже о достать записи лекций по жалкому диамату, по политэкономии бессмысленной, чтобы их перед экзаменом ему, а еще лучше им для него, переписать, — было естественно, а еще лучше само собой разумелось, а еще и того лучше — было его им услугой, поскольку придавало их жизни хоть какое-то содержание. Не надо думать, что он только примитивно доил людей: он включал их в работу друг для друга, так сказать, создавал для них рабочие места. Если кому-то нужно было оставить дома на полдня ребенка, он находил, кому с ним посидеть; если кому-то требовалось лекарство, он знал, кому позвонить, чтобы тот это лекарство купил и по нужному адресу доставил. С такой отзывчивости, согласитесь, не зазорно и комиссионные получить, но не ради комиссионных он это делал, а именно что из одной отзывчивости. Он видел, что люди именно так отзываются на заботы других, и копировал их поведение. Не его вина, что какой-то витамин этой отзывчивости при копировании вымывался и она неожиданно начинала отдавать изжогой, временами ядовитой.
Он наблюдал людей, не выделяя их в особую категорию элементов мира. Встреча с новым человеком не отличалась от встречи с новым парком, или внезапным дождем, или очередной книжкой. Он замечал, что отношения между другими людьми, например в нашей компании, бывают другими, чем у него с его студенческими приятелями, но объяснял это все тем же: на одном прилавке товар подешевле, качеством похуже, на другом — подороже, подобротней. Он не обязательно хватал первое попавшееся, рылся, старался выбрать что поярче, покрасивее: иностранку для любви, иностранца для дружбы. Какая-нибудь иностранка даже и клевала, но, увы, не на конкретно Б.Б. с его, как он верил, своеобразием, и даже, увы-увы, не на вообще «русского», ибо прилагающийся набор пленительных экзотических атрибутов: пьянство, страсть бескрайняя до рукоприкладства и нежное сердце, исполненное яростного страдания, — был, как мы знаем, не про него; а на потенциального жениха, ровно такого же, как где-нибудь у нее в Гренобле или Упсале, с приличным приданым и хорошими перспективами на научную карьеру. Для иностранцев же мужского пола и тех из женского, которые о замужестве вплотную не думали, он был просто русской версией среднеарифметического западного студента, благополучного, поглощающего науки, знающего, чего он добивается, — от которого, то есть от заранее известного общения с которым, они сознательно и уехали в
другую Россию.
Зато знаний усвоить в университете, он понимал, можно было сколько хочешь, и первоклассных. С первых же дней он стал ходить на все мало-мальски интересные семинары старших курсов. В годы еще отроческие он был обучен французскому языку и английскому: несчастные сестра и брат, окончившие Эколь Нормаль и Кембридж, в начале 30-х уехавшие от филистерского капитализма Европы и приехавшие в готический коммунизм Ленинграда, арестованные в 37-м и попавшие в горстку напоказ прощенных в 39-м, впускали его, по возможности незаметно, в крохотную нищую каморку в коммунальной квартире и, приглушив голоса, чтобы соседям не пришло в голову, что это уроки, по очереди занимались с ним (отец умел скупать за бесценок не только канделябры и вазы). В университете он записался, само собой, на немецкий, но также и на иврит, фарси и старопровансальский. От фарси пришлось отказаться, потому что на семинаре по ивриту он попросил одну девушку из Баку учить его турецкому, а это было, как сказал стажировавшийся тогда в его группе рабочий парень из Ливерпуля,
ту мач. (Честно говоря, Б.Б. был немного разочарован, потому что первоначально принял ее за армянку и стал договариваться об уроках армянского и староармянского,
грапара, — что ливерпулец, узнав, оценил как
ту ту мач.) Старопровансальский тоже был сменен — на старогалисийский, потому что провансалистику уже оккупировал Миша Мейлах, который учился курсом старше и с которым тягаться, решил Б.Б., когда они встретились и коротко поговорили, выходило себе дороже. Ладно, язык соседний, а где кончаются провансальские трубадуры и начинаются испанские, надо еще разобраться.
Достоевский — вот в кого он впился клещом и уж насосался всласть. Достоевский тогда более или менее был под негласным запретом, но с Б.Б., искренне убежденным, что нет такого правила, из которого
для него не может быть сделано исключения, особенно когда запрет не имеет формальной юридической силы, то есть юридическую силу имеет разрешение, а к тому же и сыном
такого отца, профессора, кстати сказать, этого самого университета, все устроилось как бы само собой. Заметим, что и хождение на все прочие семинары старших курсов было разрешено
в порядке исключения, ибо на это запрет был уже официальный. До поры до времени, по крайней мере на протяжении университетских лет, в том числе и аспирантских, затруднительно было бы сказать с определенностью, что приносило победный результат всем его предприятиям: неодолимость его собственного неброского, но и неослабного напора или осененность репутацией отца — это при том, что почти все его знакомства, в том числе и с нашей компанией, демонстрировали, что он
— яблочко, падающее далеко от яблони.
Достоевского он как раз взял, в первую очередь, под нашим влиянием, а конкретно, скорей всего, под влиянием Бродского. Мы тогда были в пике упоения не только характерами, скандалами, «невыносимостью» всех этих романов, мучительное чтение и перечитывание которых больше было похоже на катастрофу, в которую собственной волей попадаешь и чудом выскакиваешь, но и авторским стилем, самой грамматикой, словечками. Мы возбуждали друг друга выученными наизусть абзацами, и Бродский в монологе о «благоухающих старцах» и что «до шестидесяти доживу, до семидесяти, до восьмидесяти доживу — постойте, дайте дух перевести!» был чемпион. От Достоевского круги расходились в 1870-е и 60-е годы, и даже в 50-е, совсем мало освоенные, так что первую курсовую работу Б.Б. написал вовсе про Тютчева, про Федор Иваныча, а не Федор Михалыча, как принято было тогда говорить вместо «Достоевский».
По силе притягательности и воздействия на нас соперничал с Достоевским в то время только Мандельштам, хотя качество преданности тому и другому было разное. С человеком, не чувствующим «Федор Михалыча» как ты, можно было и прервать отношения; «Осип Эмильича» ни обсуждать, ни, тем более, по его поводу ссориться не было ни малейшего желания — за него готов был хоть и сам сесть. Вернее: почему тебе не сесть, если он сел и там сгинул? Б.Б. взялся и за Мандельштама. Правда, уже помимо университета. Как раз в эту пору Гена (все его звали Генка, но не пренебрежительно, а скорее как Янко) Шмаков устроил что-то вроде домашнего семинара, и именно по Мандельштаму.
Шмаков был помоложе нас, постарше Б.Б. — «потерянное поколение», как сказала сорокапятилетняя дама по фамилии Стайн двадцатилетнему джентльмену по фамилии Хемингуэй, когда тот не мог починить ее сломавшегося автомобиля. Он прочитывал минимум три книги из каждых десяти сколько-нибудь стоящих, ежедневно выходивших в мире на главных языках. Он был набит знаниями, а еще больше сведениями. Выводов не делал, зато замечаний — уйму. Это ему, когда он собрался эмигрировать, директор библиотеки Академии наук, в которой он служил, сказал знаменитую триаду. Директор был лицо номенклатурное, член партии, но вот принял такого сомнительного типа на работу, и какое-то дуновение нормальных человеческих отношений между ними с тех пор витало. Генка пришел предупредить его, что подает бумаги на отъезд. Тот поглядел за окно, побарабанил пальцами по столу, сказал: «Да, эта страна не для вас». Помолчал и прибавил: «И не для меня». Еще помолчал и еще прибавил: «И ни для кого».
Генка обожал иностранцев: они были ему необходимы, чтобы рассказать им, какие в их странах появились последние издания. Для них-то, кучки тогдашних университетских стажеров, он и открыл семинар. Б.Б. с ним дружил и на первом занятии сидел, почти упираясь в него коленями. Итальянка Анна, по прихоти своего венецианского профессора-коммуниста занимавшаяся Бабелем, заметила, что, возможно, «аравийское месиво, крошево» в «Стихах о неизвестном солдате» имеет в виду также и муссо-линиевскую аннексию Абиссинии; а «свою голову ем под огнем» — образ Бертрана де Борна, несущего, как фонарь, по восьмому кругу Ада собственную голову, потому что в следующем по времени стихотворении Мандельштам написал: «чтобы в уши, глаза и глазницы флорентийская била тоска». Шмаков посмотрел на нее с восторгом, погладил по темно-русым волосам и сказал: «Золотая головка». После семинара Б.Б. подошел к ней и пригласил в ресторан.
Оказалось, в «Асторию»: крахмальные скатерти, хрусталь, свечи. Хорошее грузинское вино, хороший бифштекс; жюльен из грибов. Б.Б. заставил ее повторить все, что она уже сказала, про Абиссинию и про Бертрана, спросил, нет ли еще каких-то соображений и наблюдений. Их не было — он настойчиво предложил ей подумать, два раза. Что она так ничего и не прибавила, его видимым образом не разочаровало, но на этом он свою партию закончил. Если она что-то потом говорила, он иногда поддакивал, кратко отвечал, но сам ничего сверх сказанного в начале не произносил. Ничегошеньки. Это было все, из-за чего он ее пригласил: Шмаков назвал ее «золотой головкой», он воспринял его слова почти буквально — от
золотой головки можно было ожидать дальнейшей интеллектуальной продукции. Не получилось, ну что ж. Перед десертом он еще раз попросил ее напрячься, не придет ли что на ум. Она сказала: «Может быть, то, что Бертран де Борн тоже Б.Б., нет? И Бабель, в конце концов, тоже. А?» Он серьезно ответил: «Мне это в голову не приходило».
Вскоре он осмотрелся в поисках чего-то поосновательнее. Мандельштамоведов было трое на весь мир: Ахматова, Харджиев и, естественно, Надежда Яковлевна. С нее надо было начинать, с нее Б.Б. и начал. И тут случился конфуз: он был ею немедленно и без обсуждений отставлен — именно как сын
такого отца. Напрасно он, а потом и их общие знакомые, убеждали ее насчет яблока и яблони — она отвечала, что фамилия Мандельштам с фамилией Б. Б. может быть соединена только в контексте жертвы и гонителя, а ни в коем случае не поэта и преданного интерпретатора: дорожки врозь, и игрушки врозь. «Вы мне еще внуков Алешки Толстого подсуньте!»
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Б.Б. попросил Наймана представить его Ахматовой как начинающего исследователя творчества Мандельштама. Услышав имя, она усмехнулась, потом, переключив регистр усмешки, произнесла: «Сын за отца не ответчик» (знаменитая сталинская формула, якобы регулирующая террор), — и разрешила приходить. Дело было в Комарове, летом, она жила в литфондовском домике, Б. Б. — на уже упомянутой даче в Рощине. Два слова о даче. Отец, за которого сын не ответчик, был на вершок умнее умных и участок под дачу взял не на главной аллее, за близость к которой все попавшие в вожделенный список застройщиков, интригуя, боролись, а наоборот, согласился на наиболее отдаленный от нее, метрах в пятидесяти, на краю оврага. Эти пятьдесят метров он заранее исследовал, убедился, что песок, то есть луж не будет, но перевитый корнями сосен, то есть достаточно твердый, чтобы подъезжать к дому на машине. Соседей, тем самым, он получил всего одних, плюс немереный овраг, часть спуска в который оборудовал под помойку, и никакого шума от проезжающих автомобилей, никакого беглого света фар ночью по потолку. От этого-то дома, с собственной котельной, с солярием, с французскими окнами в сад и толстыми каменными стенами, и приехал на велосипеде Б.Б., держа в руке огромный букет бискайских лилий, нарезанных у себя в цветнике.
Он приезжал еще один раз, уже с розами. При первой встрече Найман присутствовал: как почти все ахматовские посетители, Б.Б. паниковал перед визитом, правда, по-своему — заставив Наймана дать слово, что он не оставит его одного. Другие знакомые тоже просили не бросать их, но физически произносить клятву вынудил только он. Это
сейчас те, кто вспоминают свою встречу или две с Ахматовой, спокойно пишут «мы говорили о том-то и том-то», а
тогда «говорить» с ней люди начинали раза с пятого — если до пятого раза доходило. Разговор как процесс ее не интересовал нисколько, а молчать она могла как угодно долго. На Наймана рассчитывали как на человека, который уже умеет с ней разговаривать и через которого легче будет в этот разговор войти. Но в случае с Б.Б. такой механизм не действовал, просто не запускался.
Когда он звонил тебе по телефону, все, на что он тратил силы, была фраза: «Это Б.Б.» — произносимая даже с некоторой энергией. И — молчание. Прошло лет десять, прежде чем я научился отвечать: «Добрый день» — и тоже умолкать, и держать у уха трубку минуту, две, пока он не согласится себя отягчить вопросом: «Как поживаете?» — и на незамедлительное: «Хорошо», — подумав, выжмет: «Может быть, увидимся?» И если ты с ним через три раза на четвертый «виделся», то и тут было то же самое: фразы-междометия из русско-русского разговорника, предлагающие тебе в промежутках между ними потрудиться.
Так что, протянув лилии и сказав «спасибо» в ответ на «садитесь», он сел на стул и стал наблюдать за разговором с ней Наймана, вовсе не помышляя в него входить. Найман сказал ей об интересе Б.Б. к Мандельштаму, и когда она спросила у него, был ли он уже у Надежды Яковлевны, он дал Найману знак, ну, в общем, глазами и подбородком поощрил его, разрешил, благословил объяснить ситуацию.
И тот, представьте себе, объяснял. Думаю, что если бы он нашел в себе силы не разжать губ, Б.Б. в конце концов свои бы разжал, но тогда Найман, так же как и я, еще так не умел. По этому сценарию встреча шла и дальше, Ахматова иногда обращалась к нему, и Найман за него отвечал. Причем какое-то волнение мутило его глаза на тот миг, пока раздавался ее вопрос, но едва он «включал» Наймана, в них разливалось полное спокойствие. Впрочем, она сразу разобралась что к чему и, отделавшись несколькими ожидаемыми фразами о Мандельштаме, заговорила об университете, о составе преподавателей, отдельно о Жирмунском, с которым регулярно виделась, о Струве-египтологе, с которым недавно просила Наймана повидаться по ее делу, об Алексееве-англисте, у которого на даче только что встречалась с Фростом. Но все это уже напрямую с Найманом — хорошо, если Б.Б. произнес в общей сложности три законченных предложения.
«Заходите еще», сказанное ею на прощание, он принял за буквальное приглашение и опять на Наймана насел: дескать, у нас
втроем так славно получалось, давайте еще раз; правда, давайте! То есть как это — «не давайте»? Какие у вас причины и основания отказываться?! Но Найман стал груб и не сдался. Б.Б. потом говорил, что вторая встреча вышла очень интересная, очень много было сказано интересного, про кошку, например, и еще про купца Семипалова… Но Найман и кошку, и купца уже проходил, так что просто кивал ему головой: здорово, здорово.
Зато с Харджиевым дело как-то сразу завязалось и распустилось пышным цветом. Б.Б. у него в Москве побывал, был оценен и даже обласкан. Харджиев, бирюк, мизантроп, подозрительный — раскрыл Б.Б. объятия! Уникальный случай, невероятный, но я слышал это от самого Харджиева: «уровень знаний», «потенциал», «научная хватка» и еще, с особенным удовольствием, — «холодный, почти ледяной». Не понимая, я спросил:
«Кул, что ли?» — но он повторил: «Почти ледяной, в филологии пользительнейшее качество». Теперь Б.Б. звонил ему из Ленинграда чуть не каждый день — и тот ему тоже позванивал. Раскрыть свой архив, мандельштамовскую часть, он не отказывался, но от Мандельштама отговаривал. Убеждал, что на Мандельштама вот-вот все бросятся, и толкучка будет непременно с этакой светской отрыжкой, а между тем есть обэриуты, никто ими толком не занимался, и материалов полно, и люди еще живы. «И до русского авангарда рукой подать», — показывал он рукой себе за спину на стену, где висело несколько Малевичей.
Так что начались обэриуты. Не Заболоцкий, уже взрыхленный официальной критикой, и не Олейников, уже расходящийся на юмористические декламации, а нетронутые, по существу же и неприкасаемые, Хармс и великий Введенский. И «материалов», то есть попросту стихов и прозы, написанных их рукою или перепечатанных на машинке их подругами, в самом деле оказалось полно, и люди, близкие им, еще были живы. Они сами уже нет, а какие-то старухи, милые им, когда были молодыми и веселыми, еще мыкались по свету. Что-то через их не то функцию, не то миссию выживать уже укоренилось в миропорядке долговременное, чтобы не сказать постоянное, что даже укрепляло его. Их длинная, разреженная, терпеливая очередь вползала в комиссионные магазины с черного хода, неся кто мраморное и фарфоровое барахло, кто английские и французские вокабулы, кто вот эти мятые неаппетитные рукописи, а с парадного входили то отец Б.Б., то Б.Б. сам и великодушно спасали их кого от голодного обморока, кого от полного забвения. У них, бесчисленных, и у этих, считаных, была нужда друг в друге, и стало быть, никаких нет оснований ни оплакивать одних, ни возмущаться другими. Но, выходит, и не так уж несправедлива была, отказывая Б.Б., Надежда Яковлевна, которую раз навсегда поставили в эту очередь, но дали немного лишних сил и времени посопротивляться и обойти стороной прилавок сдачи вещей на комиссию. Для нее и яблоня, и яблоко, как бы далеко оно ни откатилось, находились с той стороны, со стороны парадной двери и зеркальных витрин.
И наконец, были —
мы. Ничего мы как поэты не стоили, никакой цены не имели. Но что-то нами и с нами творилось заинтересовывающее посторонних, и стишки наши не совсем как прежние звучали, а даже если бы и не творилось и не звучали, все равно ничего лучшего-то не наблюдалось, верно? К тому же был он филолог и знал уже, что главное не поэт, а архив, не творчество, а история. Не искусство, в общем, а культура. Он приглядывался к нам. Он был амбициозен без предела, куда амбициознее нас, но, как во всем остальном, не чувствовал, какая мера будет хороша, и поэтому составлял элементарную пропорцию: если
они — единица, а я пока что, положим, четыре пятых от
них, и если
их амбиции — положим, стать Вяземским, или Ходасевичем, или, на худой конец, Павлом Антокольским, то мои пусть будут пока что — Павлом Анненковым, Шкловским, на худой конец Макогопенко. Он наши стишки в папки складывал, письма нумеровал, это все так, но лишь во вторую очередь как архивариус и коллекционер, а в первую — как младший компаньон, который сам, положим, не спаяет, не склепает, мотор не запустит, но зато лучше знает место, цену и спрос на спаянное, склепанное, запущенное.
Он нас любил, вернее, он нас и любил тоже. Однажды мой дружок из битников и анархистов сказал мне про своего дружка из битников и анархистов, что тот женился на битнице и анархистке, и я поинтересовался, по любви или как. «Да нет, он ее любит, — ответил мой друг. — Он ее любит, как может любить битник и анархист». Б.Б. любил нас, как может любить «холодный, почти ледяной». Это было самое трудное для него, неудобопостигаемое, потому что тут образца, по определению, не может быть. То так, то наоборот: и ласкает — любит, и ссорится, и мучает, и унижается — все любит. И все это надо одно другим быстро сменять, в одной последовательности, в другой. И не ошибиться с дозировкой ни на грамм, с температурой ни на градус, потому что как-то это мгновенно предметом любви улавливается, и пиши пропало. По-видимому, он решил плюнуть на то, в чем ему заведомо не разобраться, и сосредоточиться на исполнимом: оказывать внимание. Ему было трудно, и нам не легче. Никому его внимание было не нужно, обмениваться ему с нами было нечем. Всегда оставалось в запасе посмей ванне над ним — от подтрунивания, питаемого равномерной иронией, до уколов обидных, — но долго ли можно на этом продержаться? Если встречались с ним в компании, то его присутствие добродушно принимали, самого его не принимая в расчет. Если один на один, то твои вопросы к нему довольно быстро глохли, натыкаясь на ожидаемые, высушенные до необходимого соответствия твоим словам и грамматического минимума ответы; начинался твой монолог, который его тем больше устраивал, чем больше ты речи отдавался, и который, собственно говоря, он и считал, нисколько не сомневаясь, вашим общением. По и тут стоило быть начеку, так как едва заметными междометиями он норовил направить твою речь в наиболее интересующее его русло — например, что сказала Ахматовой Раневская про Чуковскую или Бобышев о последнем стихотворении Бродского и что при этом я думаю о Бобышеве; так что когда ты с ним прощался, то вскоре ощущал во рту неприятный вкус, который быстро распространялся в грудь и живот, и ты не мог себе объяснить, зачем говорил то-то и то-то и зачем так много. Он дарил книжку или галстук, приглашал в филармонию, на выставку, и все это было хорошего качества — книжка, концерт, но от всего сразу, не раздумывая, хотелось отказаться, и не затем, чтобы не чувствовать себя обязанным — таким
пустякам в самоупоении молодости не придаешь значения, — а потому, что и выставка была не в выставку, если смотреть ее надлежало непременно с ним и непременно как-то ему ее комментировать, и книжка не в книжку, если знал, что он вот-вот позвонит и спросит, ну как она тебе.
Он нас любил, и он у нас учился тому, в чем и как это выражается. Он и вообще нам подражал, в стиле поведения, больше чем кому бы то ни было, а из нас больше всех Бродскому — совсем уже некритически, зеркально. Таня Литвинова, сразу после возвращения того из ссылки, зная, что он нуждается в заработке, послала ему в Ленинград ирландскую пьесу, которую московское издательство предложило ей перевести. С месяц от него не было ни звука, а потом позвонил Б. Б., известил, что приехал в Москву, что звонит по поручению Бродского, что придет сегодня «между пятью и семью». Пришел, едва поздоровался, развалился в кресле, сказал, что Бродский на такую ерунду времени тратить не собирается, но что он, Б.Б., пожалуй, взялся бы это «перевалять». Таня (между прочим, лет ей было сорок пять и для Б.Б. звали ее Татьяна Максимовна) видела, что это он таким образом копирует «самого»,
переводила фальшивое хамство Б.Б. в натуральное и потому невинное — оригинала, и визит хоть ее и злил, но сильнее все-таки забавлял.
Однако Бродскому выпало и нечто большее и особенное: в него Б.Б. влюбился. Конечно, в определенном, а честнее и смелее сказать, в самом существенном, смысле Б.Б. был одушевленный чертеж человека, но я не доказательством того, что он чертеж, занимаюсь и такого договора, чтобы подо все его поступки подводить психологическое объяснение, не заключал. Что-то, стало быть, накатило — сначала, наверное, через ratio, то бишь через мозги, а потом и через жилы, и всю вегетативно-сосудистую систему в конце концов отравило. Я ничего, ничего совершенно не понимаю про гомосексуальную любовь, но, может быть, оттого, что у Бродского был подбородок сильный, а у Б.Б. не очень, все и произошло. Он вел себя нелепо, глупо, себе во вред, то есть так, как и ведут себя все влюбленные. Бродский был с ним груб, жесток, в глаза и за глаза говорил немыслимо оскорбительные вещи, а не стукач ли он, что везде непонятно зачем «трется», а не «гомосек» ли, а если нет, то «не играет ли в карманный бильярд». Потом, когда совесть угрызала, давал ему свои стихи — перепечатать, передать кому-то, просто дарил. Так что свой, «патентованный
бэбэшный» навар тот с него имел, но терпел неизмеримо, невыносимо больше. Однако терпел, глядел на него по-собачьи, иногда улыбался болезненно, но чаще молчал и терпел. И Бродский его терпел, приходилось терпеть.
* * *
«Глядел по-собачьи», «немыслимо оскорбительные вещи» сносил… Про живого, да еще близко знаемого тобой человека неприятно так говорить, нехорошо. Про мертвого — тем более; а ведь будет и мертвым. Что ж он, вовсе не испытывал самоуважения, элементарной гордости, что позволял себя так унижать? Или, напротив, до такой степени смирялся? Или, наоборот, так был высокомерен, что на унижение плевал? Конечно, его несчастные запутанные отношения с миром чувств давали какую-то анестезию, притупляли боль от обид. Когда нет четкого представления, не говоря уже уверенности,
твое это твое свойство или прижитое от прохожего молодца, иначе сказать: какое оно на самом-то деле, — то чувство этого качества тем паче под вопросом, тем паче нереально. Но ведь шел он на то, чтобы терпеть — от
нас, улыбался болезненно —
Бродскому, а мы-то были в то время полнейшие
никто и
ничто. И «навар», который он, как я походя в него пальнул, с нас получал, вид навара имел для него одного. И даже если он делал так с прицелом на будущее, то это был только доморощенный прицел, а никак не провидение змеиным взглядом пифии, и ни из чего не следовало, что это будущее принесет навар, который и другими будет признан за таковой.
Уже в недавние годы я слышал от старых знакомых, правда, преимущественно отдам, что, например, Бродский еще тогда — или уже тогда, не знаю, как сказать лучше, — был красавец, «самый красивый из всех встреченных мною в жизни мужчин». Защита — или обвинение, не знаю, как лучше сказать, — располагает другими свидетельствами. Да Горбовский — я имею в виду физическую красоту — был рядом с ним, как Есенин рядом с Ремизовым! Да Нина Королева была признаннее Рейна больше, чем Бальмонт Крученыха! Да что любой из лито Горного института перспективнее нас, вместе взятых, было оттиснуто на сколах древнейших тектонических пород! Да сам умнейший и честнейший Глеб Семенов попер нас из этого перспективного лито после первого нашего туда визита!
И правильно сделал — потому что мы были тогда хуже, чем
никто и
ничто', у нас не было перспектив, абсолютно не было. А ведь были еще и еще ярусы достижений, признания и успешной будущности, ведь у горного лито билеты были лишь в средние ряды амфитеатра, а впереди была и Москва фрондирующая, и устоявшаяся, и преимущества принадлежать к тем и этим были самоочевидны. Однако же «влеченье, род недуга» Б.Б. испытывал почему-то как раз к нашим сиятельным нулям и минус-единицам.
Бродский, который шпынял, а то и пинал Б.Б., тогда был еще постоянно краснеющий, не уверенный в себе, страдающий от обид молодой человек, юноша, мягкий, готовый на услугу, открытый нежности, дружбе, — а никакой не авторитет. Никакой не железный исполнитель якобы намеченной им железной программы, никакой не первый поэт, которому, как сейчас пишут, «до Нобелевской премии оставалось двадцать пять лет». Он мог экспромтом сочинить, неуклюже рифмуя: «Prix Nobel? Oui, ma belle», но он сочинял гораздо лучшие, по большей части каламбурные, экспромты вроде: «padam, padam, padam padam документы в ОВИР», или: «охота к перемене nest» и множество других, и все только потому, что они в нем клокотали точно так же, как короткие горловые смешки, которыми он непроизвольно сопровождал свои бесконечные импровизации. Его мысли о премии были точно такие же, как у многих прочих, как у нашего общего приятеля, который сочинил: «не пронесите Нобеля мимо мово шнобеля», но премии не получил. И про ОВИР — Голду Меир он напевал, как Найман «девы, девы, девы — в Венгрии за форинты, в Болгарии за левы», не пересечение границы планируя, а исключительно ради созвучий и модной на ту минуту темы. Целью его и всех наших стихов были сами стихи, и только они — я думаю, этим мы и отличались в первую очередь и по самому существу от всех попадавших в амфитеатр, тем более допущенных на сцену. И, кто его знает, не именно ли поэтому обдуманно и необдуманно тянулся к нам Б.Б.? Именно для того, чтобы откатиться от яблони, несущей кубические, чтобы компактнее их укладывать, яблочки, как можно дальше.
Другим его выбором, который также не подгоняется под схему прямолинейных объяснений, хотя, на первый взгляд, и преследует выгоду, была не столько даже связь, сколько привязанность, опять-таки односторонняя, к Готе Степанову. Это за глаза или если ты с ним дружил — Готя, а так-то — Георгий Владимирович. Степанов был из «испанцев», из тех молоденьких советских добровольцев, которые воевали в испанской войне против Франко. Какие они были добровольцы, он рассказывал без нажима и между прочим. Он вообще так рассказывал — не пуская в ход свое всегда готовое сверкнуть, очаровательное остроумие, оставляя его для беседы. Он рассказывал, как после последнего инструктажа, пятого или десятого по счету, энкавэдэшник сказал: «Всё. Завтра в двенадцать на Белорусском вокзале», — и уже вслед их удаляющимся спинам добавил как нечто неважное, чисто формальное, даже забавное: «Если у кого за последние дни случилось изменение против анкетных данных, можно подойти ко мне». И тогда молодой человек по фамилии Римский-Корсаков вернулся к столу и сказал, что на прошлой неделе у них, «у папы с мамой», в гостях был его дядя, о котором они до той поры ничего не знали, приехавший из Парижа с делегацией по приглашению наркома просвещения. Степанов описал, как тот стоял у стола, высокий, худой, длиннорукий, длинношеий, «по-аристократически», как он выразился, нескладный, совсем мальчишка. В голосе у Степанова появились, когда он это говорил, нежность и боль, и он неожиданно стал на него похож — тоже длинный, с той же грацией, разве что не тощий, а сухой, обросший необходимым набором взрослых мускулов. Энкавэдэшник улыбнулся и ответил, что это не изменение, а изменение — это если бы вы женились или, например, забеременели. Все рассмеялись, а он повторил: «Значит, к двенадцати. До завтра, товарищ Римский-Корсаков». И после этого Степанов и
никто, кто мог бы о нем знать,
никогда нигде его больше не видели и
ничего о нем не слышали.
В начале войны с немцами, в звании лейтенанта, Степанов был ранен, взят в плен и с четырьмя пулями в разных частях тела брошен, как куча других раненых, на открытую железнодорожную платформу, отправлявшуюся в, если не ошибаюсь, Эстонию. Дело было зимой, в стужу, это наилучшим, а врачи говорят — единственно возможным, способом спасло его от смерти. Наскоро прооперированный, с не извлеченной из локтя пулей и осколками кости, он попал в лагерь, бежал, снова воевал, после войны доучивался в Ленинграде у Шишмарева на романской филологии, начал аспирантуру, но тут пристальнее занялись поворотами его ратной судьбы и сослали в Ташкент. Когда Сталин умер, вернули.
На войне он вступил в партию, это, естественно, способствовало его карьере. К тому времени как Б.Б. приступил к галисийским трубадурам, Степанов был член-корреспондент академии, и именно как испанист. Так что Б.Б. была самая к нему дорога: он по ней и раскатился.
Степанов принял его вежливо, приветливо. Но сразу заметил, что пока, то есть на первом курсе, когда Б.Б. еще не вошел в предмет, или, как говорят мадридцы, в предмете — ni orcja, ni hocico, «ни орэха, ни hошико», что есть калька с латыни nihil auris, nihil oris, «нихил аурис, нихил орис», — как бы поточнее перевести? — ибо буквально-то это значит: ни уха ни рыла, — он, Степанов, к сожалению, не располагает той стороной орудийных возможностей романских, а конкретнее, старогалисийских штудий, которая на этом этапе могла бы принести Б.Б. хоть какую-то пользу. Б. Б. попробовал взять его на свой безотказный прием, на клещевидный захват необсуждаемой повелительности своих желаний и газовую атаку беспредметности доводов в их защиту, жестко замямлил: «Я уверен, что нам обоим будет…» — но Степанов, попадавший в окружение под Любанью, просто снял левую руку с локтя раненой правой, которую поддерживал, поднял указательный палец на уровень носа и, улыбаясь, поводил им влево-вправо. Поднялся, протянул, насколько возможно, правую для прощания и проговорил: «До встречи через минимум три года». У Б.Б. оставались секунды на последнюю реплику, он был в растерянности, сделал, лишь бы отдалить поражение, глупый — а какие тут могут быть неглупые? — ход: «Я могу подвезти вас до университета, меня ждет внизу машина отца». — «Благодарю, но и я могу подвезти вас, меня ждет служебная». Мат.
Степанов был не нужен Б.Б., ему был нужен Жирмунский. И Б.Б. Жирмунского имел, с самого начала университета, сперва как отцова знакомого и коллегу, знавшего его с детства, а вскоре и заставив обратить на себя внимание серьезностью академических намерений и целеустремленностью. Забегая вперед, скажу, что Жирмунский готов был пойти в его научные руководители, если бы Б.Б. выбрал темой диссертации своих трубадуров. Он не выбрал, так что, как видите, и практически Степанов был ему ни к чему. Безусловно, тут ко всему еще срабатывал глотательный инстинкт: почему не иметь Степанова, если можно? Но в том-то и дело, что на стезе, постланной под ноги Б.Б., Степанов был более отрицательной, чем положительной величиной. От него если и могла зависеть карьера, то должностная, которая Б.Б. была абсолютно чужда, а не академическая, которую единственно он преследовал и для которой Жирмунского хватало за глаза и за уши. Приближение же к Степанову могло даже бросить тень на его репутацию в среде
честных, политически
чистых филологов. А несмотря на то, что честные и незапятнанные на посты, которых они заслуживали, не допускались и вообще содержались под определенным идеологическим прессом, определенный террор порядочности — как часть общеинтеллектуального террора их среды — был академической реальностью.
Например, не-члены партии несли свое не-членство, как знамя, и относились к нему, как один мой знакомый, православный татарин, к католичеству: «У нас, — любил он в подпитии сказать, — слава богу, крест. Крест, слава богу, а не
крыщ, прости господи». Матлингвист Тополянский, Найманов приятель, услышав, что я дружу с Ренатой Ц., и наведя справки о моей политической физиономии, просил передать недоумение, непонимание, а если откровенно, то неодобрение близких отношений «с человеком, вступившим в партию из карьерных соображений». А я ее знал со школы, хрупкую, изящную, с нежным, не в пример Тополянскому, голоском, она служила в Институте археологии, бредила раскопками в Монголии, и все ее карьерные планы сводились к тому, чтобы получить разрешение туда раз в год ездить, и непременным условием этого был партийный билет. Лучше бы, конечно, как Тополянский, удержаться, лучше, как он, недополучить, но ведь слабость — и за это остракизм? За такую награду, как Монголия? Что такое наша кромешная коммунистическая партия, мы знаем, однако ведь и ваша беспартийность — как-то она «по-партийному сурова», товарищи. Да и не ходи тогда, если ты
чистый, к
члену КПСС Степанову с просьбами вполне личными. А то прекрасно шли и, просимое получив, фыркали по поводу недостаточной строгости и глубины его книги о Лорке и статей о Сервантесе: «Ну что вы хотите, интернациональная бригада, над всей Испанией безоблачное небо», — и еще более презрительно по поводу его административных успехов: «Что и говорить, партия наш рулевой». И Степанов, прекрасно об этом зная, тем не менее всегда старался выполнить их просьбы как можно удовлетворительнее.
Что он об этом знал, он рассказывал Найману, с которым дружил и который его любил. «А вам ничего от меня не нужно?» — спрашивал он в конце какой-нибудь очередной истории, подливая ему и себе сливовицы из хрустального графинчика. Однажды Найману стало нужно, он позвонил, объяснил, что хорошо бы иметь отзыв Степанова на его перевод «Фламенки», иначе издание отодвигают на год. Тот сказал: «Умоляю, напишите сами, я завтра подпишу». Назавтра Найман привез более или менее нейтральный фрагмент своего уже готового послесловия к книжке, протянул Степанову и предупредил: «Я только не уверен — “отзыв о” или “отзыв
на”?» И тот с мгновенно вспыхнувшим азартом, как Тристрам Шенди учителю, спросившему, разве не мог отвести жеребца на случку не он, а Обадия, ответил:
«Отзыв — о. Донос — на».
Б.Б. в покое Степанова не оставлял как до истечения назначенных трех лет, так после. Смешно сказать, но во время их встреч, достаточно редких, ибо палец, покачивавшийся возле носа влево и вправо, всегда был у Степанова наготове и сближения, которого необъяснимо хотел бы Б.Б., не получалось, они занимались исключительно текстами галисийцев, с которыми Б.Б. к нему приходил: разбирали темные места, искали для комментария непосредственных реалий. Степанов бывал в Ла Корунье и Байоне, не говоря о Сантьяго де Компостелла. После одного из таких уроков с Б.Б. он сказал Найману, что уже готов был рассказать Б.Б. одну личную историю, но тот в аккурат в этот момент не удержался и попросил чего-то — участия в старокаталонском спецсеминаре, права на бесплатное получение португальских филологических книг, — чего ему и не нужно было, а просто потому, что можно было попросить, и Степанов, вежливо отказав, предпочел за рамки сугубо научных тем так и не выходить. А история была такая, что недавно он летал в Испанию по личному приглашению президента тамошней Академии наук и несколько дней гостил у него на гасиенде. Однажды утром они сидели на балконе, пили кофе, тот показал ему на узкую долину вдоль реки между недальних гор и произнес: «Красиво, правда?» Степанов подтвердил. «Помните? — сказал тот. — Ваша рота лежала на том берегу, а наша на этом. Какие молодые мы были! И славные». Это к вопросу о непосредственных реалиях.
Б.Б. в разговорах с академическими либералами их пренебрежительную оценку научной значимости Степанова непременно оспаривал, настаивал на специфичности его знаний и филологического чутья и уникальности его самого как ученого, а именно как фигуры в ученом, преимущественно книжном, мире. Однажды он даже повторил
мо Наймана: «Степанов знает цепу книг о книгах, цену книг о жизни и цену жизни без книг, а именно, на ледяной товарной платформе с четырьмя пулями в себе — что и отличает его от всех академиков». Любви к Б.Б. это ни в коем случае не прибавляло, неприязни — с избытком.
* * *
В 70-е годы творческая компонента интеллектуальнокультурной жизни ушла в тень, на передний план вышла исследовательская. Литературу, живопись и музыку продолжали писать по инерции, иногда восхитительно писали, например «Москву — Петушки», но определяющим сделалось писание
об искусстве: обнаруживали общие принципы, методы и механизмы в его разных, «далековатых» и вполне далеких одно от другого произведениях, приводили их к более или менее общим знаменателям. Первенство перешло от
сочинителей к
университетским, от знаний эмпирических к книжным. Юноши нашего поколения бросались на жизнь как на что-то, наконец, после доброй четверти века недоступности, открытое для непосредственного узнавания, полнокровного участия, навязывания себя. Образование сколько-нибудь систематическое, по естественной ограниченности человеческих возможностей, по недостатку сил и желания, упускалось; своим умом доходили до того, про что можно было бы узнать из учебника, интуицией — до элементарных знаний. Самолично добытые, они были дороже заемных, как самодельный гвоздь дороже магазинного. Сплошь и рядом откровение сводилось к тому, что два, умноженное на два, равно четырем, зато это было твое два и твое четыре, а что результат подтверждается таблицей умножения, значило, в первую очередь, что и все другие результаты верны.
Поколению Б.Б. бросаться уже было особенно не на что: эка невидаль — жизнь без Сталина, при Хрущеве, при Брежневе. Да особенно и некому. Поэты и художники следующего за нашим десятилетия мотались более или менее неприкаянные и что-то дополнительное к стихам и картинам доказывали. Их сверстники, как следует отучившиеся в университетах, понимали в их деле не меньше, а больше их, и высокомерно их третировали. Университетские кумекали по-гречески и по-латыни, им было все равно, чьи
тексты перед ними: Тютчева или Тютькина, их товарища, — у них были одни критерии для обоих, и бедняге приходилось играть по их правилам и настаивать, что его стихи
экзистенциалъней тютчевских. И правда, экзистен-циальностью они день ото дня всё больше обходили Тютчева — и, параллельно, скукой — самого Тютькина «раннего». И складывал бедняга их в циклы, перепечатывал в четырех экземплярах, брошюровал и оставлял незаметно за зеркалом в прихожей у многоумных своих бывших однокурсников.
Честно-то говоря, и у этих, как говорила когда-то прислуга Ольги Судейкиной, «первоученых» в душах пело ретивое: им было не все равно то, что они вышли на такой уровень постижения культуры, на котором все равно, чьи перед тобой стихи; им было не все равно, что они могут все равно что, стихи или квитанцию из металлоремонта, называть текстом; они чуть-чуть нервничали оттого, что у них столько знаний, оттого, что они понимают греческий, не говоря уже старогалисийский; а больше всего возбуждало их, что они — первое поколение филологов «такого ранга» после великих Бахтина, Шкловского и Томашевского, типичный комплекс «интеллигентов» в первом поколении.
Б.Б. каким-то боком примкнул к Тименчику и Осповату, другим каким-то — к Левинтону и Мейлаху. (Забавно, что к четырем из пяти перечисленных имен надо прибавлять «младший»: у одного Тименчика отец был просто ремесленник, у остальных — филологи, «старшие». Помните: «Будет, так же как и отец, содержать трактир», — Бобчинский про трехнедельного младенца говорит.) Не ими их подход к продукту искусства был открыт, «всегда», хочется сказать, имел место, а в 20-е годы так и громче, и ярче ихнего себя объявил, но в их время он назвался структурализмом, с претензией, то есть, на универсальность. С непосвященными — да нет, и между собой, пожалуй, тоже — разговор о своей причастности новой науке они вели с тонкой улыбкой, намекающей на эзотеричность
всего дела, этакого интеллектуального cosa nostra, и в профанное пространство обыкновенной жизни выпускали лишь несколько сакральных слов вроде
кяарику и
семиотикэ, которые притягательными пузыриками скользили по поверхности, указывая на существование тайного бездонного водоема. Кяарику был городок в Эстонии, куда они из двух столиц съезжались летом на семинары «по знаковым системам», в результате чего зимой выходили их статьи в сборниках под названием «Семиотикэ», напечатанным греческими буквами.
Времяпрепровождение было славное, да и время неплохое, особенно поначалу — сужу об этом в основном по их рассказам. Потому что статьи, за редчайшим исключением, были написаны кошмарным языком, и если судить по ним, то в Сочи в каком-то смысле было лучше. Язык они объясняли двумя причинами: величественно — тем, что это наука, такая же специальная и точная, как, скажем, математика, и не требуется же от математиков, чтобы они писали эссе; и жалобно-мужественно — условиями цензурными, при которых написанное таким образом более проходимо. Дескать, была бы свобода, писали бы так, что дух бы захватывало. Это, однако, не подтвердилось, когда свобода пришла и они написали воспоминания и объяснения, «былое и думы», так сказать, уже по-человечески. У Лотмана, у Гаспарова Бориса, еще у нескольких как тогда статьи были захватывающие, так и сейчас получилось, а другие многие, вроде нашего Б.Б., привлекательнее выглядели все-таки когда выражались стилем (σημειωτικη), «бессмысленным и беспощадным». Некоторые из них, как оказалось, сами пробовали силы в сочинении художественной прозы и стихов: образцы сейчас опубликованы и похожи на бумажный рубль, частью разрезанный на ломтики, частью обвалянный в яйце и зажаренный, и так поданный к столу в качестве фунта колбасы, который на него можно было бы купить.
Не то чтобы их было много, но их присутствие стало проступать по всей филологической, на глазах превращавшейся в культурологическую, территории, как влага на лугу после дождей или на ковре, залитом соседями с верхнего этажа, — в том месте, куда в данную минуту ступала твоя нога. Это было следствием замысла безусловно грандиозного, одного из тех, которые замахиваются на самое главное, на «общую теорию поля». Наиболее одаренные и знающие открыли много замечательных вещей, что они, родись раньше или позже, сделали бы и не будучи структуралистами. Разумеется, методы нового искусства порождали методику нового понимания его, и то, что Ахматова, к примеру, писала так, как она писала, вызвало к жизни то, что о ней
так написали Тименчик, Топоров и Цивьян. Но параллельно с филологической работой, наглядно существенной и плодотворной, шла игра в бисер, в конечном итоге бесплодная и неадекватно разочаровывающая, хотя в самом своем процессе веселая, увлекательная, пленяющая необязательностью и остротой и как таковая претензий не вызывающая, — если бы запятые ею не выдавали и ее за серьезную, общезначимую и нелегкую
работу.
Структуралистами становились все, надо не надо, хочешь не хочешь, можешь не можешь, и это приводило к тому, что ключи, подобранные к Ахматовой или к Мандельштаму, совали, как отмычки, в замочные скважины ничего такого не ожидающих Пастернака и Цветаевой. Однажды за многолюдным дачным столом заплелся, побежал летний разговор о «Докторе Живаго», и молоденький филолог по имени Костя после достаточного помалкивания доложил с умеряемой ради компании безапелляционностью, что Лара — это, конечно, Марина, понимай — Ивановна. И когда зашумело, зататакало вокруг, что с какой стати Марина, если Зина, и куда Ольгу девать, он, погуляв желваками и порозовев, брякнул: «Вы все любители, а я семиотик-профессионал!» А когда жена Наймана однажды в подобной компании, на сей раз чеканившей звенящие сталью максимы о Набокове, заикнулась, что были в это время писатели и получше… («Например, кто?!» — «Например, Томас Манн…»), — то молоденький филолог по имени Федя отказался захватить с собой перчатки, которые забыла у Найманов его мать, и объяснил это кратко, взорвав грамматику возмущением: «Которые Набокова… которые Томаса Манна… нет, нет и нет!»
И, конечно, как за всяким предприятием, претендующим создать структуру, параллельную созданной актом творения, и уразуметь как систему то, что принципиально должно выходить за рамки всех систем, а именно, как «полагались основания земли» и каковы «уставы неба», проступал на заднике и этой оперы остроухий силуэт и поскребывали из-за кулис коготки ее
главного режиссера. «Ради красного словца не пожалеть родного отца — это и есть филология», — нормировал одним из своих афоризмов веселый Осповат. Ну, во-первых, возвед на высокую гору, показывали нам все царства вселенной во мгновение времени и обещали власть над ними и славу их. Маяковский сопрягался с фараоном египетским, и оба они — с корейскими гностиками. Одно было равно другому, и всё всему, и всё достигалось щелчком пальцев. Пчела у Овидия, и в песне «Пчела, пчела, кругом пчела» на слова поэта Танича, и в инструкции по устройству пасек на приусадебном участке была одна и та же. Слова сбивались в мелкодисперсный майонез, он же автомобильная смазка, он же крем для загара. Вкус, естественно, отменялся. Разница в установках политических, эстетических, моральных, естественно, тоже: было бы слово, а
текст найдется.
Не поразительно, что автор известной финской монографии о воровстве попался на краже в универмаге, а швейцарец, писавший книги о де Саде и Мазохе, скупал все, какие мог найти, порнофильмы. Если по-академически бесстрастно и безмятежно сопоставлять в одной статье колонны, возводившиеся архитектором Шпеером в Третьем рейхе, и колонны, обрушенные Самсоном, то незаметно и сам, как говорил один мой друг, уже не ориентируешься, где — своя жена, а где — продавщица из часового магазина, и те, кто статью читает, тоже перестают ориентироваться. Смешение — великое дело, могущественное: главное, чтобы царства, чтобы — все, чтобы — разом, и непременно чтобы — с высокой горы, откуда все выглядит одинаково бледно, одинаково убедительно-неубедительно, одинаково достижимо-недостижимо — что власть, что слава.
Что до жен и продавщиц, то нареканий на личную нравственность новых интеллектуалов в партком не поступало. Однако захватить после смерти чей-то архив или библиотеку, залезть в дневники и письма
покойничков, «артиста и его окружения», хоть уже истлевших, хоть еще теплых, считалось не просто нормой, а даже с отсветом высшего служения — потому что «в хорошие руки» и «хорошими руками». Если Михаил Булгаков, сидя на корточках у печки, выдирал из тетради листы промежуточного варианта «Мастера и Маргариты» и бросал их в огонь, то булгаковед, дыша учащенней и счастливее, чем обычно, как хищник, учуявший кровь, набрасывался на рваные клочки корешков и по нескольким застрявшим на них буквам
реконструировал текст. Что, может быть, так не надо или, того пуще, нельзя, и в голову никому не пришло бы обсуждать, настолько это было само собой разумеющимся. Того размаха и разгула, который появился вскоре, в пору, названную постмодернистской, тогда еще не было, постельное белье вроде не перетряхивали, инцестов не вскрывали, не объявляли, кто истинно верующий, а кто спрохвала, но семя посеяли и почву взрыхлили.
И как косвенное следствие, которое все такие грандиозные антрепризы производят независимо от желания или нежелания участников, повысилась ощутимо общая энтропия творческой мысли, наклонился мыслящий тростник еще на градус к земле и депрессии. Как ни крути, а походила эта семиотика структуральная, этот семиотический структурализм на похороны искусства, и музыкой несло заунывной, и тоской потягивало замогильной. И то, что именно та-кие
мастера культуры вышли на авансцену, отодвинув неученых, но каких-никаких богемных, горячих, бесшабашных и обольстительных поэтов нашего десятилетия, выглядело как замена актерской труппы союзом театральных критиков и, если угодно, безумного Хрущева обстоятельным Брежневым. Поэты — пока они поэты, — что замечательные, что так себе, существуют вне какого бы то ни было, кем бы то ни было принятого списка, и все остальные люди волей-неволей с этим соглашаются, зная при этом, что сами в какие-то списки входят. А если властители умов —
ученые, то есть отличающиеся от всех лишь величиной, но не качеством знания, лишь манерой, но не качеством поведения, то значит, в общем списке — все, пусть одни под первыми номерами, а другие под сотыми: ведь вполне возможно с течением времени местами и поменяться, свободное дело. А так как бесчувственный ровный тон, каким они описывали выбранных ими для своих статей поэтов, выдавал неуловимое их над поэтами превосходство, то выходило, что и поэты — такие же, как все, а
их, новых ученых, так даже чуточку и хуже.
По самой установке, в профессиональном плане они тоже были люди
из свойств, из свойств тех, о ком они писали и делали доклады, так что Б.Б. пришелся очень даже в масть. Не упустим к тому же из виду, что если запрет на вкус и различение этических и прочих позиций еще как-то оговаривался, то запрет на эмоции стоял за скобками, и тут оказаться «холодным, почти ледяным» было — Харджиев знал, что говорил! пользительнейшим качеством. И все-таки в первый ряд Б.Б. так никогда и не попал. Когда действуешь, соразмеряя проявление какого-то собственного свойства с проявлением его у других людей, то есть так или иначе его ограничивая по их меркам, то группа свойств центростремительных, замыкающихся на тебе самом, таких как самолюбие или самоотверженность, естественно выпадает из регулирования, и самоограничение — первое из них. Достоевский, испанские трубадуры, обэриуты, турецкий язык. Да еще и Ахматова, потому что не упускать же
Ахматову, если видел ее лично. Да так ли сяк ли и то, что вот-вот будет называться «ленинградская
что-то» «сироты», «купол», «аввакумовцы» — то есть каких-нибудь Димы, Жени, Оси и Толи поэзия. И все это через семиотическую призму и в структуралистской обертке, обращение с которыми тоже надо освоить, мозги и время потратить… Пространство культурное было покрыто максимальное, окраины уже начинали выходить из-под контроля, а значит, и оттягивали сосредоточенность и силы от метрополии.
Впрочем, что центр, а что периферия, он и сам не мог бы сказать. Повод, почему сейчас выбрана именно эта тема, как правило, включал в себя необязательное понуждение извне. Даг Хаммаршельд, генеральный секретарь ООН, а в «гражданской», так сказать, жизни — выдающийся лингвист, упомянул в одном из интервью, которых у него, наверное, брали десятки, но до России дошло почему-то это, урезанное до полстолбца в «Литгазете», что он только что написал статью «Мандельштам и Шекспир». Б.Б. позвонил с этим Харджиеву. Тот сказал, что у Надежды Яковлевны он видел оксфордский однотомник Шекспира, с пометами на полях, про которые она говорит, что это «Осины». Харджиев в то время был с ней еще в самых милых отношениях, и Б.Б. насел на него, чтобы он взял книгу, ни словом не упомянув о Б.Б., а как бы для себя. Одновременно он насел и на бельгийского филолога, который в это время приехал в Ленинград с группой ошалелых от благополучия и страха перед нашими ракетами борцов за мир, о чем с соответствующим пафосом сообщили газеты. Б.Б. вызвонил его еще раньше, на всякий случай, а тут случай и подвернулся. Б.Б. убедил его, что Хаммаршельду в высшей степени необходимы здешние архивные материалы, и взял с бельгийца слово, что он отправит тому телеграмму: «Прошу задержать публикацию статьи Мандельштаме зпт прислать текст тчк уникальную находку отправляю течение недели бб».
Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне мар-ширт, Харджиев забирает оксфордского Шекспира, проводник «Красной стрелы» заезжает к Харджиеву и привозит книгу в Ленинград, Хаммаршельд приостанавливает публикацию статьи в Мутоне и высылает статью Б. Б. Тот новой телеграммой благодарит, но с отправкой «уникальной находки» уже не торопится, поскольку «теперь это стало не так актуально». Он выбирает из книги все пометы, довольно рутинно их комментирует и вставляет в разные места хаммар-шельдовской статьи по методу «эти наши (то есть уже
наши с Дагом) тезисы подтверждаются и тем, что Мандельштам подчеркнул в “Тимоне Афинском” такое-то место». К первой такой вставке он делает, правда, сноску, мелким шрифтом: дескать, принадлежность помет Мандельштаму весьма, весьма вероятна, но не доказана окончательно. Новый, скомбинированный текст перепечатывается на пишущей машинке с двумя клавиатурами, латинской и русской, а также и под двумя теперь фамилиями, и переправляется
Дагу — что значит, что к хороводу под флейту Б.Б. уже танцующих присоединились еще знаменитая Зинаида Викентьевна, у которой у одной в Ленинграде была такая машинка и заказы расписаны на полгода вперед, и еще американский дипломат, «пожелавший остаться неизвестным», ибо пересылки этакого рода считались «несанкционированными» и беспощадно карались властью.
Нет на свете и не может быть такой научной и ненаучной статьи, которая соответствовала бы масштабу проделанной Б.Б. работы. Да плевать, в конце концов, толково он что-то там прокомментировал или нет, прибавил что-нибудь к соображениям Хаммаршельда или, наоборот, уплощил их, и даже мандельштамовские то были пометы или какой-нибудь бедной английской гувернантки вроде обучавшей юного Б.Б., — если буквально из ничего он создал такое
всё. Хаммаршельд, который улаживал тогда очередной палестинский конфликт, находит время поблагодарить. От Б.Б. следует указание как можно скорее отдать статью в «Russian Literature». Генеральный секретарь повинуется, но тут неопознанная зенитная установка сбивает его самолет, и статья появляется в ближайшем номере журнала с траурной рамкой вокруг его фамилии — и с коротким послесловием Б.Б., скорбящего о потере близкого друга и сотрудника… С такими
причудливыми выводами из научно-исследовательской деятельности в первый ряд научно-исследователей не выходят. Не говоря о том, что научно-исследователи, да и никто из состоящих в какой-нибудь корпорации, такого не прощают.
* * *
Самоограничение не копируется и не имитируется, как нельзя скопировать строчку или имитировать почерк, которым она пишется, если в ту же секунду как она появляется на классной доске из-под правой руки пишущего, левая рука ее стирает. Но число классов и число досок, на которых текст или хотя бы его ошметки, появившись, остаются достаточно долго, до следующего дня, а то и на несколько дней, практически безгранично, а стало быть, безграничны и возможности усвоения. Б.Б. принимал участие — почти исключительно созерцательное: в премьерах, вернисажах, закрытых просмотрах, днях рождения, свадьбах, в геологических и археологических экспедициях, путешествиях по горам, по пустыням, по океанам, в вызывании духов, шаманстве, медитациях, в Пасхе православной и католической, в Йомкипуре, в ботанике, минералогии, энтомологии… Упомяни в разговоре с ним, при нем о каком-нибудь неизвестном ему предприятии, новой затее, о чьем-то приезде, виду не подаст, что обратил внимание, но, прощаясь, обязательно промямлит: «Как, вы сказали, фамилия этого, который приезжает? И кто, вот вы говорили, это дело-то затевает?» И уже через неделю обедает у него приехавший, и ты тоже на этот обед приглашен, и Б.Б., оказывается, уже участвует в предприятии осуществляющемся — и непонятно почему и гостя видеть не хочешь, и о предприятии думаешь с тоской.
Несколько раз он ездил с Арием Древиным на Памир и Тянь-Шань. О, Арий Древии, о, о! Как во всякое удавочное время, мистика, которая почему-то — а в общем, и понятно почему, но сейчас неохота на эту тему сворачивать, — всегда валит с Востока, была из нормальной жизни откачана, частью в близлежащую Европу, частью по сибирским лагерям, частью выпущена вместе с кровью на тот свет. Но в тонких сквознячках, которыми с ее руин все-таки потягивало, сохраняла неслабеющую интенсивность. Для Рерихов так власти никогда и не нашли четкого статуса: художества и патриотизм благосклонно приветствовались, но последователей сажали. Через Андрея Белого можно было пролезть к каким-то перво- или хотя бы второисточникам. Гурджиев и Успенский бродили то в виде ветхих брошюрок со слепым шрифтом, то в английских изданиях на твердой бумаге. «Книгу мертвых» можно было запросто увидеть на книжной полке у родной тетушки рядом с энциклопедией Гранат. О Блаватской старшие говорили как на все еще актуальную тему.
Арий вышел из ученичества рано, годам к двадцати пяти. Что-то он понял, что стояло за набором упражнений и подручной магией, что-то не отдельное от его складывавшейся в советских условиях, в коммунальной квартире, Военно-механическом институте, поденном труде и так далее, жизни. Что-то о тайном знании, получаемом конт-рабандно, о карте, на которой обозначены пределы запретной зоны, и о цене, которую платишь, выходя за них. В горы он отправлялся из того простого и ясного убеждения, что дух, которого он ищет, естественно найти в идеальной удаленности от человеческого дыхания, в максимальной приближенности к небу, начинающемуся с первого шага вверх по склону, и наконец в атмосфере, хранящей флюиды тех, кто отправлялся сюда за тем же самым. Он делал это ежегодно, и года три подряд Б.Б. к нему присоединялся. Возвращаясь, Арий, когда упоминал о нем, неловко вертел головой и беспомощно усмехался, беспомощно в том смысле, что не может выразить, что было не так. «Странный… Все вроде делает как надо. Ничего не боится, не жалуется, рюкзаки таскает, мерзнет, не жрет, когда нечего, кровь носом и из ушей идет… Но как-то он на себя непроизвольно силу оттягивает, туго у меня при нем получается. И, главное, не пойму, зачем ему все это». А Б.Б. говорил: «Замечательно мы в этом году с Арием съездили». Попросишь рассказать — э, ме, ну вообще, горы, снег, краски
непередаваемые… и обычное навеки умолкание.
Однако ведь ехать вот так,
вдвоем в горы, можно только с
очень близким человеком, а не с таким, про которого потом растерянно себе объясняешь: «Какой-то он прилипчивый». В таком случае что же это было?
Он путешествовал по Северному морскому пути, а обратно по КВЖД, и впоследствии, ради тайги и тундры, по БАМу, ведущему в никуда.
И по Великому шелковому пути, насколько это было возможно в пределах СССР. (О Кавказе я уже не говорю.) Сеня Шляпентох в те дни начинал свою карьеру бесстрашного геолога-альпиниста, поселился на Камчатке и по очереди приглашал в гости всех своих ленинградских друзей-приятелей, которые все необъяснимым образом оказывались поэтами-писателями. «Все у меня побывали, — удовлетворенно начинал он и перечислял по имени и фамилии: — Женька Рейн, Глеб Горбовский, Андрюха Битов, вот только тебя не было. И Бродского». До Бродского дело дошло, когда его уже в первый раз дернули в КГБ: по делу Уманского и Шахматова. Выпустили, но три дня все-таки продержали, поэтому когда он подал паспорт на визу в пограничную зону, то, само собой, получил отказ. Через год — то же самое, и тогда Шляпентох с ним и с Б.Б. договорился, что приглашение пришлет на имя Б.Б., а уж там у себя на Камчатке, где пограничники все его кореша, встретит у трапа, и никаких проблем. Не знаю, надо ли сочинять какую-нибудь специальную риторическую конструкцию, чтобы наиболее эффектно подать то, как стоит Сеня, ждет на аэродроме самолета, немного все-таки нервничает, вот самолет приземляется, подают трап, и на него первым выходит — Б.Б. И никакого, разумеется, Бродского.
Если в начале лета он ехал в Среднюю Азию, то в конце — в Крым, и наоборот. Кажется, Крым ему действительно нравился, то есть он позволял себе ориентироваться на собственное чувство без оглядки на других. Правда, и в Крыму он собирал камни, по полкило, по килограмму весом, которые придавали его поездке отличие от просто привлекательного курортного предприятия. Он прочел нужные книги по минералогии, он видел коллекции камней, более или менее случайно собранных, у одного философа, двух математиков, одного поэта и двух писателей, которые все импонировали ему и выбранному им кругу независимостью образа жизни и мысли, а точнее, незаинтересованностью в том, что кто бы то ни было думает об их жизни и мысли. Тем самым он, делая то же, становился как бы седьмым в этом эксклюзивном списке.
И он делал это опять-таки и по той очевидной причине, что прибавлял к пляжу, прогулкам, фруктам, получаемым всеми, еще и камни, то есть получал больше. И бабочек. И цветы. Но гербарии и коробки с бабочками весили немного, а от камней обрывались руки и кишки, поэтому до Симферополя ими занимался таксист, таскавший, хотя и матерясь, неподъемные чемоданы и рюкзаки оттуда и туда, откуда и куда указывал Б.Б., а в Ленинграде его встречал в аэропорту Рудик, шофер отца. Рудик знал, что он старого барина слуга, а молодого — раб, и ненавидел его, но слабее, чем желал сохранить место слуги.
Отправляясь в Крым, Б.Б. заранее отправлял письма трем-пяти старушкам, жившим в городах на пути его следования, главным образом вдовам, или бывшим подругам, или наследницам — опоязовцев, обэриутов, испанистов, любомудров первой трети прошлого века, евразийцев нынешнего. И все они приходили на вокзал точно к прибытию поезда и приносили то, что он просил: рукописи, фотографии, книжки, рисунки, картинки, ветхие личные вещи.
Не спрашивайте, в каком году это было, потому что это было и в том самом году, и через десять лет. И в тот, например, год, когда Бродского сослали в деревню Норинскую Архангельской области, тоже было так. Б.Б. проложил туда путь одним из первых, и на сей раз это была ни увеселительная, ни полезная прогулка. Бродского туда сослали не для того, чтобы его там навещали, что-то привозили и отвозили и поддерживали его связь с миром: ссылка была задумана, в первую очередь, ради разрыва этой связи. Приезжавших к нему ставили на дурной учет, дополнительный к тому дурному счету, на котором каждый из них, правда, уже был. И ничего хорошего, совершенно ничего, впереди не светило, а наоборот, светили ссыльному пять первых, и неизвестно сколько всего, лет — и такая же закоченевшая, застуживающая насмерть деревня любому из навещающих. Пожалуй, единственное, что можно было найти сомнительного в этом поступке, это что его совершали, не спрашивая
несчастного, доставит ли ему счастье визит. Пушкин, на звон бубенцов сбегающий в мороз в короткой ночной рубашке с крыльца, — верх восторга и трогательности, но хорошо, что прикатил милый Пущин, поскольку деваться-то хозяину все равно было некуда.
Найман в первый раз поехал в Норинскую осенью, во второй получилось в феврале. Б.Б. вызвался сопровождать. Набралось два тяжелейших рюкзака с продуктами и еще три большие сумки книг и разных разностей, одному было не увезти, он согласился. В Коношу они приехали ранним утром. Мела метель, он оставил Б.Б. в пустом зальчике ожидания с вещами и пошел в темноту рыскать в поисках попутки. Жизни не было нигде никакой, метавшийся на столбе фонарь и безумевший в этом свете снег делали, по его словам, неподвижность, огромность и неприступность бесконечных сараев и складов самодовлеющей, не подлежащей нарушению. Почти ослепший, он вернулся на вокзал. На скамейке возле кучи их багажа сидела кутаная-перекутанная в платки и ватники баба и в голос плакала. Он спросил, где Б.Б., она показала на дверь начальника станции и объяснила, что ее он оставил стеречь вещи и она боится. Вещи, ее, стеречь, оставил, боится… Найман постучал и открыл дверь. Начальник озверело крутил ручку телефона и потом орал в трубку, чтобы почтовая машина, прежде чем ехать по деревням, завернула на станцию. Б.Б. сидел, размотав шарф, в казенного вида кресле сбоку от стола и пил из стакана с подстаканником горячий чай. С кончика носа свисала сопля. Он сделал начальнику знак, тот метнулся в угол и налил из кипевшего на электроплитке чайника второй стакан, для Наймана. Тот стал благодарить, он — извиняться. В это время ему позвонили, и он стал отвечать кому-то властно, хамски, обрывисто — как подобает начальнику большого железнодорожного узла. Через полчаса подъехал грузовик с почтой. Все вещи погрузили в кузов, Найману показалось, что и начальник, и почтарь хотели бы посадить в кабину их обоих, а чтобы почтарь каким-то образом правил снаружи, не мешая им. Найман сказал, что предпочитает залезть наверх — на нем были валенки, три свитера, стеганое пальто и непробиваемый тулуп. Б.Б. изобразил руками и лицом неубедительное театральное несогласие, но сразу влез в кабину, и начальник захлопнул за ним дверь. Баба жалась на крыльце, как аллегория человеческого не-достоинства.
Ехать было долго, тридцать километров, может быть, часа три. Бродский выбежал, или не выбежал, неважно, но, во всяком случае, не в рубашке. Когда вещи были втащены в дом, он выхватил из пачки писем одно, залпом прочитал, повернулся к Б.Б. и быстро сказал: «Прекрасно, я сейчас напишу ответ, а вы его отвезете. Машина будет возвращаться в три. Как раз к поезду». Б.Б. упал на колени. Они забормотали — Найман: «Это шутка, шутка. Нет, нет, нельзя, нельзя», — а Бродский: «Кажется, и правда, так нельзя, хотя это отнюдь не шутка». «Вы будете спать на полу, — сказал он Б.Б. через минуту, — кроватей только две: для нас с А.Г., как вы догадываетесь». — «Я взял с собой альпийский спальник итальянского пограничника», — ответил тот. «Без пограничника?» — сказали они — в общем, хором.
По ночам спальный мешок примерзал к полу, если днем в этом месте случайно была пролита вода.
Один раз примерзли даже волосы Б. Б. Все десять или сколько там было дней он в разговоре не участвовал, только отвечал на вопросы, когда они его спрашивали. Однажды, когда ночная вьюга за окном выла особенно оперно, Бродский и Найман стали друг другу изображать, как Б.Б. будет защищать диссертацию, а они к этому времени совсем сойдут с круга, превратятся в бомжей и отчасти выживут из ума, и на морозе, на Университетской набережной будут ждать, когда их позовут внутрь схавать последиссертационный бутерброд, и они, узнавая в лицо какого-нибудь профессора Эткинда или доцента Игоря Смирнова, которых знали раньше, по жизни молодой, будут друг друга толкать незаметно и приговаривать вполголоса: «Ты! Кем быть! Я его знал».
Можно было бы даже сказать, что они прожили эти две февральских недели дружно, — если бы в мире бывала на таких основаниях
дружба. Зачем он на жизнь в таких условиях согласился, до сих пор ума не приложу.
* * *
Ника вышла замуж, за того самого, который на дне рождения Б.Б. «змеился мефистофельской улыбкой». Он был постарше нас, преподавал историю живописи в Академии художеств. Его звали Фридрих, он много знал и обладал железным умом. У него не было друзей, если не считать двух «злых мальчиков» — молодых людей, в то время безусловно преданных ему, представлявших собой среднеарифметическое между учениками, единомышленниками и последователями (чего — могли сформулировать только они, но тогда они всё больше молчали). Они были возраста Б.Б., один сочинял стихи, второй тоже, но пошел в структуралисты; сейчас оба пишут статьи на универсальные темы.
Полированная сталь Фридрихова ума была того сорта, который идет на пластины пресса, пластины самой сложной конфигурации и лекальной кривизны, но не годится для рапир и сабель. Его замечания были предельно точны, логика безукоризненна, умозаключения неоспоримы. Они покрывали собой весь мир, включая всю деятельность, материальную, интеллектуальную и психическую, человека, и всё, что они покрывали, мгновенно, в самый момент произнесения, затвердевало узором, иногда изумительно тонким и прекрасным — и совершенно и навсегда безжизненным и от этого сразу же тебе не нужным. Больше того — угнетающим до отчаяния. Требовалось физическое действие: гимнастический поворот головы, специальный вдох, — чтобы стряхнуть томящее душу оцепенение и дать выход инстинктивно распирающему ее протесту, выход, как правило, дурацкий и крайне неубедительный, вроде того, что я вот сейчас крякну да тебя брякну да обмякну, тогда будешь знать. И тотчас делалось весело, и веселее, чем до разговора, потому что весь-то весь он мир покрывал, однако по краям и в трещинках какие-то примятые стеблишки пробивались, и они-то, оказывается, одни только и были нужны и нескучны. К чести Фридриха следует сказать, что он и сам не против был крякнуть и обмякнуть, а именно: норовил после рюмки пятой-шестой вступить в ноуменальный контакт с сидящими рядом дамочками, то есть лез им под юбку. Рюмок же было сколько угодно, потому что он гнал первоклассный самогон двойной очистки, причем предан был этому делу истово и медитативно: мог часами стоять и глядеть, как падают с конца холодильной трубки капли в коническую колбу. Он презирал Никиного отца, любил Нику. Она была в него постоянно влюблена. Через год у них родился сын.
У отца — профессора, тайного сиониста, орденоносца и т. д. и пр. — началась адская жизнь. У матери тоже, но по-другому. Оба хотели, чтобы дочка, зять и внук, главное, внук, — помните: дедушка спускается с лестницы, внуки снизу плещут руками — как можно больше времени проводили с ними в Рощине, на даче. Ника была не против, и Фридрих был не против, но Фридрих — на своих, Фридриховых условиях. На условиях абсолютной автономии — то есть хочет он с родителями разговаривать, будем разговаривать, не хочет — «здрасьте» и давайте помолчим. Хуже того: объявил о своем праве выходить к семейному обеду в любое время и вообще не выходить, а выходя, мог разговаривать исключительно с Никой или с Никой и тещей и не отвечать на обращенные прямо к нему вопросы тестя. Мог опять же, разговаривая с ним, вдруг сказать: «А вы что, профессор карамзинских наук, на этот счет думаете?» — причем как при своих только, так и в присутствии гостей.
Еще при знакомстве, в первую их встречу, он объявил родителям, что он христианин, протестант, не практикующий, но готовый защищать позиции своей веры всем арсеналом имеющихся в его распоряжении средств и исключительно до победного конца. Отец расценил это тогда как браваду человека, сознающего свое низшее по отношению к семейству и кругу, в которые он входит, положение и потому комплексующего и пытающегося таким приемом преодолеть комплекс. Когда же впоследствии зять стал свой арсенал понемногу разворачивать, а именно: согласился на уговоры Фени, слезные и секретные, разрешить ей младенца крестить в православной церкви, и не секретно, а напротив, пригласил на крестины и профессора с профессоршей, оказалось, что тестю противопоставить ему просто нечего. В спорах исторических, о христианской церкви как вдохновительнице погромов и вообще антисемитизма, младший легко побеждал, приводя, с одной стороны, факты юдофобии еще в Египте и Вавилоне, с другой — почитания христианством иудаизма как родителя, с третьей — защиты церковью евреев от погромщиков, с четвертой — еврейской агрессивности к христианству, начавшейся непосредственно с Христа, и так далее. Беда старшего отягощалась еще тем, что еврей он был, как мы знаем, сокровенный, еврейство как бы прятал от эсэсовцев в подвале, откуда мог только скрестись да пошептывать, а никак не метать громы и молнии во весь голос и сверк.
Матери, умной, миролюбивой и по натуре скорее нежной, разве что немного испорченной супружеством, принявшей позицию и принципы мужа как данность и, пожалуй, даже раболепно, было все равно, кто прав. Она жила мужем и готова была броситься на каждого, кто на его правоту посягал, но жила также и дочерью, а теперь, стало быть, и ее мужем, и равным образом бросилась бы на любого их противника — в итоге она металась между тем и другим, стараясь не допустить открытых скандалов, которые все-таки случались, после чего Фридрих и Ника брали младенца и на такси, которое она же вызывала, уезжали в город, в собственную, причем во Фридрихову, квартиру. Младенца она тоже уже обожала. Не так, как самого, больше всех обожаемого, втайне боготворимого ею Б.Б., и даже не близко к тому, но достаточно пылко.
Между прочим, однажды Фридрих обсуждал то, во что и как надо верить, со мной. Он стоял на вере как равновесии между тем, насколько Бог может дать Себя человеку, и тем, насколько человек хочет уступить себя Богу. (Фейербах, беспомощно начал я…) Бог — Его существо и сила — хотя и абсолютен, но в каждом случае и каждый миг зависит от веры в Него человека. Конечно, акт творения и все такое — по плечу только Богу, это не обсуждается, однако, сотворив, Бог поставил Себя в положение, равное с положением человека, они друг без друга уже не существуют. (Да Фома Аквинат, пытался вставить я, тоскуя…) Разумеется, Бог может человека уничтожить, а человек Бога — нет, но представить себе такого Бога-без-человека мы и не согласны, и не в состоянии, а если как-то и представляем, то как все равно что: пустое небо, эфир, материю. Значит, если Бог и человек — такие и отношения между Богом и человеком такие, то верить можно, что ходя в церковь — и тем самым, например, одаряя веру доброй и преданной Фени разрешением крестить ребенка, — что не ходя. Не ходя — лучше, потому что трезвей… Я на это все-таки сказал, что и ходя не очень-то веришь, а уж если дома сидеть… Но он повторил: трезвей и мужественней. (В процессе производства всех этих выкладок звучали, само собой, имена — не безумно убедительные, а какие-то вроде Тиллиха, Тиллих было главным, и почему-то Тейара де Шардена, и разных других представителей европейского племени.)
Они пригласили — не совсем уже понятно, какие
они’. старшие или Фридрих с Никой — в гости Наймана. Сошлись на нем, видимо, как на оптимально удовлетворяющем — а точнее, не неудовлетворяющем — требованиям обеих семейных партий. Пригласили как друга младших, но торжественно, на рождественский обед. Пригласили еще математика, друга старших, материного сотрудника, тоже, естественно, профессора, он очень интересовался литературой. Найман, стало быть, должен был эту литературу олицетворять: Ахматова, Леопарди, то-се. Да к тому же он тогда начал переводить для Мейлаха трубадуров — старопровансальских, но можно было с ним обсудить и галисийских, на которых уже накладывал руку Б.Б. Словом, если не касаться стихов, ни его собственных, ни всех прочих
непечатающихся, то вполне он годился.
Началось все чинно, вилка, как любил говорить Найман, в левой руке, нож в правой. Фридрих, правда, как вышел к столу с ухмылочкой своей тоненькой, так с ней и сидел. Увы, стихов коснулись очень быстро. Математик жарко заговорил про «Новый мир», какой все-таки смелый журнал, какие они там все рисковые, как им трудно. Отец сказал, что очень интересный отдел литературоведческий, что они его попросили дать что-нибудь и он хочет послать им свою много лет вынашиваемую статью «Ошибки Достоевского» и что задержка сейчас за Б.Б. — тут он на Б.Б. лукаво посмотрел, — потому что Б.Б. очень интересные нашел материалы, письма eщe не опубликованные и вообще много нового, и они вдвоем решили написать совместную статью, собственно, может получиться и книга, но для начала статья хотя напечатают ли? Статья и концептуально, и стилистически не укладывающаяся в официальные рамки, а «Новый мир» — это ведь цензура на цензуре. Тут Фридрих ухмыльнулся исключительно подло. Б. Б. мял большим и указательным пальцем хлеб и в разговор не вмешивался. Мать сказала, что они на работе зачитывают каждый номер «Нового мира» буквально до дыр.
«А вы, — обратился математик к Найману, — ничего туда не даете?
Я имею в виду…» — и улыбнулся расположенно, призывая его самого сказать, что он, математик, имел в виду, что Найман мог бы туда дать. «Да вроде нечего», — сказал Найман весело и посмотрел на Нику, Фридриха и Б.Б. за подтверждением: мол, не припомните ли чего, что я упускаю из виду. «Стихи не хотите?» — спросил старый добродушный математик доброжелательно. Ответил оживший неожиданно Б.Б.: «Там стихов не печатают». — «То есть как?» — И все трое старших беспокойно сказали несколько раз друг другу: «То есть как? Как это не печатают!» — «А так, что то, что там печатают, — объяснила Ника в их семейной безразлично-пренебрежительной манере, — все какое-то зажеванное. Что талантливое, что бездарное — все зажеванное. Бумага, что ли, такая». «И вы так думаете?» — спросил математик растерянно у Наймана. «Шрифт, — сказал Найман убежденно. — Я думаю, шрифт». — «Но это же честные стихи, — сказал, обретая уверенность, математик с ударением. — Честные поэты! Вот в девятом номере Луконин, Наровчатов в одиннадцатом…» И Фридрих наконец пальнул лениво: «А в двенадцатом номере горничная пришла, а там удавленник и пепельницу украли».
«А, — закричал отец, — вы видите, вы видите! Вот их позиция! Тотальный нигилизм, ничего святого! — Он повернулся к Найману: — Я теперь понимаю, откуда это у моего сына! Это вы так на него влияете, что он “Новый мир” не читает!» Найман быстро сказал: «Вообще-то я на него влияю, чтоб он “Знамя” не читал». «Да не разговаривай ты с ними, — сказал Фридрих. — Мы же, видишь, с ними не разговариваем». — «Это уж, Фридрих, слишком, — мягко заметила мать, — честное слово». И, переводя разговор на другую тему, опять вспомнила того их соседа, известного критика, у которого когда-то болели суставы и Б.Б. тогда сказал, что это может быть смертельно; на сей раз у него случился инфаркт, и смысл ее замечания заключался, по-видимому, в том, что нехорошо доводить заслуженных пожилых людей до инфаркта. «От чего инфаркт?» — спросил математик траурно. И Б.Б. ответил подчеркнуто доверительно: «От невежества». — «Сынок!» — воскликнула мать. «Не, — сказал Фридрих, уже самому себе, — мы с ними не разговариваем». Б. Б. растянул губы, глазами и бровями изобразил одновременно изумление и одобрение и произнес с удовольствием: «Отцы и дети, как говорил Достоевский». Он как-то совершенствовался, Б.Б.
* * *
В нем стала появляться уверенность. Уверенность была в нем и раньше, и можно даже сказать, что превосходящая любую мыслимую, но она была особого сорта. Он был уверен, потому что не знал, как можно быть неуверенным, не понимал, что это такое. Теперь он что-то усвоил, лучше сказать — освоил механизм уверенности у других, это высвободило силы, прежде скованные сосредоточенным процессом освоения, а по ходу процесса — постоянной регулировкой того, что он принимал за уверенность, и это освободило часть душевного пространства, превратив ее в естественную для души полость привычного и привычки. Или, если хотите, он почувствовал под ногами почву менее зыбкую. Новая уверенность, та, что была неотличима от других, проявлялась в довольно привлекательных формах, хотя и воспринятых тоже у кого-то, но совершенно так, как это вообще бывает — когда подражают тому, что нравится. Точнее всего она выражалась часто повторяемым
да ла-анно, нараспев, расслабленно, с демонстративной ноншалантностью: да ладно, чего там, плевать.
И в это же время он, похоже, влюбился: в девушку, с желанием жениться, но и с флиртом, с ухаживанием, со всем, что полагается. «Похоже» — потому что все-таки не так, как люди влюбляются: ища встречи, поступаясь привычками, отказываясь от желаний. Б.Б., скорее, включил влюбленность в число прочих существенных составляющих жизни: аспирантуры, библиотеки, филармонии, визитов, путешествий. Тем не менее, вот, влюбился. Еще раньше что-то подобное пришло ему в голову, или где там был центр его чувств, по поводу жены Рейна, Гали, но исключительно, небывало платоническое, поскольку совсем уже математическое. Ей тогда было лет двадцать пять, ему шестнадцать-семнадцатый, и интерес он для нее представлял весьма отдаленный и чисто человеческий. Он перед нею и перед Рейном и перед их браком благоговел, так все складывалось — лучше не бывает. Он преподносил ей цветы, приглашал, естественно, на вернисажи и балет — и безмолвно, скажем, взирал, что, впрочем, он делал бы и без специальной установки на влюбленность и обожание. Так продолжалось несколько лет и никем всерьез не воспринималось, включая его самого, который знал, что ему еще предстоит понять и обучиться, что значит воспринимать всерьез. Однако он встретился с Рейном один на один и подробно расспросил его, при каких обстоятельствах он с Галей познакомился, где конкретно, из какой она семьи, что у нее был за круг друзей и круг чтения, нет ли младшей сестры или подруги, и так далее, с тем, чтобы, пояснил он, все такое же отыскав или воспроизведя, такую же встретить, но еще не замужем за Рейном.
Влюбился он — вдруг. Помните девушку-азербайджанку на семинаре по ивриту, которую он попросил учить его турецкому? Год они занимались ивритом, занимались турецким, и хоть бы что, а потом — как это вообще-то бывает, особенно в студенческое время: трешься бок о бок, привык, как к мебели в аудитории, и вдруг как будто фокусируются глаза — неожиданно взыграло в нем что-то.
Алла. Имя, данное хитро: русское для русских и от «Аллаха» для своих. Но это — изгибистость родителей, каких-то там бакинских тоже докторов наук по физике-химии, а сама она была тот самый платиново-иридиевый стержень из Французской палаты мер и весов, который не удлиняется, и не укорачивается, и не складывается, и вообще ни на что не годится, кроме как быть метром. Внешне она больше походила на хлыст, на хлыстик, тоненькая, прямая, чуть покачивающаяся при ходьбе, быстро-медленная. Быстрая — когда внутренняя пружина в ней распрямлялась или даже только готова была распрямиться, и медленная — когда пружина взводилась, кем-то или ею самой, сидящей подобрав ноги в кресле, рассеянно ищущей сигарету, или долго, в несколько приемов: шляпка, шарф, плащ, сапожки, перчатки, все это отдельно — собирающейся уходить.
Роман продолжался лет пять. Я их иногда встречал на улице, она недалеко от меня снимала квартиру. Позже я с ней подружился, несколько раз она по-соседски «забегала» ко мне, тогда Б.Б. уже был ей невыносим, и она говорила о нем с ровной сильной неприязнью. Я, например, извинялся за беспорядок в комнате, она говорила: главное, не быть как Б.Б., он ставит чашку с молоком на подоконник, молоко проливается, и он не вытирает, потому что, объясняет он, зачем, само высохнет, то и то белое; и вдобавок что-нибудь про Малевича, то есть к мерзости высыхания молока еще и мерзость пошлости. Я возражал, что все-таки забавно, нет? Она отвечала: это если он не делает вам два раза в день предложение. И передергивала плечами — как от брезгливости или от холода. Феня, рубашку, — говорит он, входя в квартиру, проходя по коридору в свою комнату и на ходу расстегивая и сбрасывая на пол рубашку, которая на нем; Феня, пуговицу, — это если оторвалась пуговица, и тоже сбрасывая на стул и не останавливаясь, потому что он каждую минуту спешит в какое-то другое место. А вернее, в какую-то другую минуту — она усмехается и опять передергивает плечами. Она говорила о нем охотно и всегда вот так.
Б.Б. давал понять, особенно Гале, к тому времени уже не Рейн, что роман был настоящий, со всеми степенями близости, включая последнюю. По тому, с какой несоответственной яростью в разговорах с той же Галей или со мной Алла давала понять, что, слава богу, хоть
до этого у них не дошло, склоняюсь к тому, что правда на его стороне. Он ездил в Баку знакомиться с родителями, в статусе жениха. Провел там месяц, из которого три недели — в путешествии по Каспийскому морю. Главным образом, «в песках под Красноводском», как он потом много раз повторял, в поисках следов Велемира Хлебникова. В песках нельзя найти следов, согласитесь — говорила мне Алла спокойно, но опять с брезгливой и одновременно больной улыбкой. Особенно через пятьдесят лет, согласитесь. Пока он путешествовал, она оставалась дома, родители недоумевали, что все это значит: визит по виду торжественный — и всего три дня в начале, три дня в конце вместе. За эти шесть дней он еще свел знакомство со старушками, знавшими Вячеслава Иванова, и старичком, знавшим, но не помнившим его. Старушки, как уже повелось, отдали Б.Б. записки, дневниковые и с конспектами лекций Иванова, и письма, не его самого (какие были его самого, они, по его знаку, в тридцать-каком-то году со специальной оказией переправили ему в Рим), а их собственные друг к другу о нем. Набралось с целую картонную коробку из-под румынского зеленого горошка, которую он и привез с собой в Ленинград. Бесценный документ эпохи, — похлопывая по коробке, приговаривал он в своей новой уверенной иронической манере.
Велемира он не привез ничего, хотя утверждал, что встречал «в песках под Красноводском»
аксакалов, которые пели ему про не то одного, не то двух древних странников, появившихся из России и удалившихся в сторону Персии. (Б.Б. говорил, безо всякого нажима, что он и сам заходил на территорию Ирана и мог бы доехать хоть до Тегерана, а хоть и до Багдада, с его-то английским, но не был готов и все-таки поостерегся, лучше в следующий раз, — я ему верю.) Однако приходили ли странники, когда певцы были детьми, или во времена Афанасия Никитина, толком они сказать не могли. Б.Б. их песни записал, по-тюркски, как он, не распространяясь о том, что это был за тюркский, говорил, но с русским переводом, сделанным на месте. Записи лежали в папках поверх камней и песка, на которые могла ступать нога Хлебникова и которыми были набиты два ящика, предназначенных для перевозки фруктов. Фруктов было еще два ящика, и трехлитровая фляга черной икры — дары родителей Аллы. Но на обратном пути он остановился на два дня в Минеральных Водах — туда молодым человеком несколько раз наведывался Гурджиев, и у Б.Б. был адрес одной его ученицы, — так что икра протухла, а фрукты порядочно подгнили. Ученица начала было с ним разговаривать и вдруг забеспокоилась, замолчала, вскрикнула и упала без чувств. Ему пришлось вызывать «скорую» и сопровождать ее в больницу, где выяснилось, что у нее отнялась речь. В Ленинграде Рудик, свирепо кряхтя, доволок до дома камни, протекшие фрукты, короб с Вячеславом Великолепным — и от крыльца ученицы Гурджиева деревянную ступеньку, про которую уже нельзя было выяснить, ступал ли на нее учитель.
Когда Алла наконец порвала с ним и он понял, что это в самом деле разрыв, и окончательный, и больше никак не удастся перевести это в план
да ла-анно, как он делал на протяжении почти всего романа и она ничего не могла противопоставить, так что он стал уверен, что ничего и нельзя противопоставить, это нанесло ему сокрушительный удар. Не настолько сокрушительный, чтобы изменить его образ жизни, занятий, повадок, не говоря уже мыслей, но такой, чтобы непосредственно после «и чтобы ноги вашей здесь не было, и никаких никогда нигде со мной разговоров, и ни шуток, ни цветов, ни подарков, которые я буду выбрасывать в мусоропровод не глядя, только здрасьте и до свиданья», произнесенного на пороге, когда он, позвонив по телефону и эти же слова услышав, приехал и позвонил в дверь ее квартиры, а за спиной у нее все это время стоял мужчина, и она захлопнула дверь ему в лицо, — почувствовать боль и заплакать. Мужчина был ни больше ни меньше как я. Когда она ему все это сказала по телефону, а он на это опять ответил как-то забавно, все в том же стиле
да ла-анно и сказал, что сейчас приедет, она позвонила мне и попросила как можно скорее прийти. Я пришел и только тогда узнал зачем, и так как было видно, в каком она состоянии, не мог отказаться.
Ему было больно, потому что это был удар в солнечное сплетение, пли где там у него находился центр чувств, и удар по самолюбию, потому что как это так — он не получил, не завоевал, не добился того, чего добивался, и удар по системе, которая обеспечивала его новую, как он считал, уверенность. Это случилось весной, а в начале осени, вернувшись с очередных гор и морей, он сделал предложение датчанке, проходившей в университетской аспирантуре стажировку. Обдумав, она его приняла и переехала жить в их роскошную квартиру на Фонтанке в двух домах от Невского. Недели через две он сказал, что у них начинается ремонт, и предложил вернуться в общежитие. Следующие несколько дней они не виделись, а потом он встретил ее в коридоре университета, отвел к окну и объяснил, что за те две недели понял, что они слишком разные люди, чтобы стать мужем и женой, и что в Дании, где, она предполагала, они будут жить, у него нет никаких интересов, ни общекультурных, ни бытовых, ни академических. Датчанка приехала к Алле и три дня пролежала у нее на диване, потом улетела в Париж.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Алла потом сказала: вы знаете, Германцев, а ведь Б.Б. на этой несчастной ибсеновской Норе женился сразу после крещения, он в Эчмиадзине крестился, специально в Ереван ездил. (Она всегда звала меня только Германцев, несколько раз попробовала Александр, но это звучало совсем уже выспренне и искусственно: все-таки был в ней, при всей ее душевной цельности, маленький эстетский излом, этакий петербургско-декадентский, — следствие, я думаю, разрыва с грубым бакинским прошлым и его отторжения.) Б.Б. предпочел бы креститься прямо в Гефсимании, на худой конец на Афоне, но за недоступностью смирился и спустился до Эчмиадзина. Допустил армян до себя, не погнушался, что монофизиты. Вы обратили внимание, Германцев? — сейчас все крестятся, вы понимаете, он оказался не первый, а один из, так он
через Эчмиад-зин и теперь опять единственный.
А вы обратили внимание, Германцев, что на этот раз — я имею в виду его женитьбу — он впервые не опередил процесс, а опоздал? Все эти годы, что он меня обхаживал и за мной ухаживал и, как ему казалось, крутил роман, у русских с иностранцами был самый брачный период. Ему из-за меня пришлось его пропустить, а когда хватился, эта струна уже стала провисать, буквально за месяц-два до последнего между нами объяснения, на котором вы так любезно согласились присутствовать. Он выглядел просто немодно, правда?
Она заметила перемену очень точно. Брак с иностранцами из авантюры и частной антрепризы вдруг и незаметно превратился в ремесло. Образовалось два-три центра, первоначально вполне кустарных, у кого-то на дому, собиравших вокруг себя русских и иностранных невест и женихов со взаимными интересами. Через несколько лет они приняли вид не рекламирующих себя фирм по поставке нашим гражданам брачующихся кандидатов, к тому времени, увы, по большей части из стран третьего мира. То же, между прочим, случилось и с фарцовкой: романтика первых десятилетий ушла, сменилась деловитостью и организацией и наконец превратилась в обычное торговое монопольное ведомство наподобие Промкооперации, но с более частой поножовщиной. Б.Б. в самом деле этот момент пропустил, но зато опередил тенденцию, которая пришла вместе с новым этапом женитьб-замужеств, а именно: более частых отказов, а то и вульгарных обманов типа «поматросил и бросил». Замечу, что и в те годы, в годы, когда женитьба на иностранке была единственным способом попасть за границу и событием очень редким, такие отказы случались немногим реже, чем сам брак. Но и самые отъявленные, так сказать, совратители не укладывались в полмесяца, и тут, Алла это упустила из виду, Б.Б. опять был из первых.
К тому же она намеренно не учитывала в этих разговорах, а я, естественно, ее не поправлял, что Б. Б. сделал это еще и напоказ, в первую очередь, чтобы ей отомстить. Плюс — это уже только моя версия — из-за сближения с отцом Павлом. Отец Павел был нашего, то есть моего, возраста, был с ранней молодости наш товарищ и всю жизнь звался Пашей. Мы все его любили, и по крайней мере в двух вещах он был безусловно лучше нас — в выпивке и шутках. Он пил часто и легко, а шутил всегда, главным образом каламбурил, и каждая десятая шутка была смешная, но и от всех несмешных становилось весело. Это у него был мгновенный телефонный разговор с Венедиктом Ерофеевым. автором «Москва — Петушки», когда тот пьяный позвонил Б.Б., а трубку взял Паша, а Ерофеев думал, что Б.Б., и без вступления проговорил: «Мне сказали, у вас есть все стихи обэриутов, я хочу их издать», — на что Паша ответил: «Сперва и-сдай и-бутылки». Он был из артистической семьи, мать — балерина, отец — конферансье, который не без гордости упоминал, что состоял в дружеской переписке с Гаркави и Смирновым-Сокольским, звездами эстрады, и Паша, окончив университет, стал зарабатывать на жизнь сочинением цирковых и эстрадных реприз.
С годами выяснилось, что он обладает замечательной практической сметкой: знает, где какие за бесценок купить книги, старинную мебель и у кого ее задешево отреставрировать, кооперативную квартиру, чтобы и дом был кирпичный, и недалеко от центра, и по цене умеренной, и когда деньги лучше снять со сберкнижки и вложить, например, в сервиз кузнецовского фарфора, и многое другое. При этом с молодости жило в нем религиозное чувство, а с годами стала проявляться и набожность. Соединение таких, на первый взгляд, несовместимых сторон натуры Достоевский наблюдал в «мертвом доме» у еврея Исая Фомича. Словом, он крестился, как многие тогда. Когда ты крестишься взрослым, то есть проделываешь путь от ноль или даже минус-веры до веры, требующей от тебя такого решительного, такого единственного поступка, то крещение, само собой разумеется, не конец пути, а трамплин, принимающий накопленную движением к вере инерцию и выстреливающий тобою дальше, дальше. Не редкостью было, что крестившиеся шли потом в священники, — а по тем временам в практическом плане это значило добровольно войти в пространство постоянного и неослабного давления, преследований, неприятностей. Пашино чутье предостерегло его от такого шага, хотя намерение было.
Его рукоположили через несколько лет, когда другие уже определились — кто как сельский батюшка, кто как городской «интеллигентный», если не
интеллигентский. Оказалось, что власть жать жмет, но жить можно. Он стал священником, однако с опозданием: уже и приходы сколько-то привлекательные — а его привлекала жизнь в деревне, но чтобы и недалеко от города — были все распределены, и прихожане попривыкли к этим новокрещеным послеуниверситетским: поп как поп, чего-то, видать, не получилось в нормальной-то жизни, раз в попы пошел, да и пьет, небось. Ему достался храм, до которого поездом, автобусом и на телеге добираться от Ленинграда было восемь часов; через три года дали поближе, часах в четырех, но оба полуразрушенные, верующих хорошо если десятка три на Пасху. Он все сносил с достоинством, без жалоб, с прежним юмором.
В это именно время они с Б.Б. сошлись. Б.Б. в высшей степени оценил то, какой он дока в практической жизни; отец же Павел его
обращал. Пик их близости пришелся на решение Б.Б. креститься в Эчмиадзине и жениться на датчанке. И то и другое повергло отца Павла в сильнейшую растерянность: крещение — да, брак — да, но почему в
монофизитскую ересь и почему через
прелюбодеяние? Влияние отца Павла Б.Б. воспринял, но претворив в своем духе. Они как бы обменялись: Б.Б. уступил ему часть себя под религию и компенсировал уступку, переняв его практичность, ибо иностранка и выезд с ней за границу и возможность двойного гражданства — практично, правда? Автоматически, как часть практичности отца Павла, он усвоил и осмотрительность, которая в жизни сплошь и рядом означает запаздывание — в тот самый раз распространившееся и на Б.Б.
Тут уместно рассказать про охоту за тулупом. В это время появились дубленки — в малом количестве их привозили из-за границы, в большем покупали в валютном магазине «Березка» и с рук у фарцовщиков. Они стали знаком принадлежности к особой публике, выделенности из толпы, но они были также удобны — теплые и легкие. Они стоили довольно дорого, и по совокупности причин отец Павел решил достать тулуп. Тулупы тоже появлялись на улице, поначалу, однако, считаные, они были этакими хиппи по отношению к буржуазкам-дубленкам. Овчинные тулупы, тяжелые, жаркие и пахнущие чистым хлевом, выдавались как профессиональная форма одежды гаишникам и пожарникам. На эту тропу и вышел с самодельным капканом отец Павел.
В райцентре, через который он проезжал по пути на приход и иногда останавливался на ночь в Доме крестьянина, он свел знакомство с пожилой прихожанкой храма — уже райцентровского — и стал останавливаться у нее. Ее сын служил в милиции, но именно что в милиции, а не в ГАИ, и права на тулуп не имел. Был у него, однако, дружок из ГАИ, и тот пообещал за двадцать пять рублей достать списанный тулуп. «Это так говорится, что списанный, а он как новый», — объяснял нам отец Павел. Между тем тулупы становились все более популярны, чтобы не сказать модны, их партиями завозили в магазины рабочей одежды, где их можно было купить по пятьдесят, или у перекупщиков по шестьдесят, рублей. По-видимому, пронюхали про это и милиционер с гаишником, потому что дело решительно застопорилось, наступила весна, прошло лето, осень, милиционерова мать утешала довольно нагло: «Обещанного три года ждут».
Отец Павел жил в двухэтажном флигеле во дворе дома на Моховой, в пяти минутах ходьбы от родителей, в комнате, доставшейся ему после смерти бабушки. Однажды ночью флигель загорелся — от самогонной установки одного из соседей. Отец Павел спросонья схватил самое драгоценное, что у него было, — икону, Библию и молитвослов — потому что все остальное держал от греха подальше у отца с матерью, — а также шкатулку с письмами Гаркави и Смирнова-Сокольского, которые по неведомой причине держал, наоборот, у себя, накинул на рубашку пальтишко и выбежал в черную морозную ночь. Он разбудил родителей, с шутками и в лицах рассказал про пожар, выпил чашку чаю и вернулся досматривать. Домишко успел весь выгореть и стоял теперь в ледяных сталактитах вылитой на него воды, пожарники сворачивали шланг, а жильцы толпились над кучками вынесенных из дома вещей, и все, включая детей и включая самогонщика, были в роскошных белых тулупах. По инструкции, если пожар случался зимой, погорельцы бесплатно снабжались тулупами. Отец Павел бросился к бранд-майору, стал объяснять, как он выскочил из горящего дома, упоминал Смирнова-Сокольского и живущих рядом папу с мамой, но тот грубо его прервал, сказав, что уже встречал таких жучков, желающих разжиться на дармовщинку, и отказался дальше разговаривать.
И с повестью у отца Павла вышло то же. В долгие дни и вечера, проведенные в церковном домишке, он написал повесть. О крестьянине, которого жизнь топтала и топтала, а тот только встряхивался и продолжал жить, и никогда не жаловался, и даже отшучивался. Автор давал прочесть ее близким, беря с них слово, что они никому о ней не заикнутся. Он отверг предложение напечатать ее за границей не только тогда, когда это было действительно опасно, но и в начале перестройки, когда уже дома стали печатать всякое такое, еще некоторое время приглядывался. Наконец решился, но к этому времени издательства уже были забиты разоблачительной литературой, и только благодаря той же энергии, с какой добывал тулуп, он пристроил ее в провинциальный журнал, где она немедленно потонула, и никогда никто, ни он сам, больше о ней не слышал.
И так далее, и тому подобное в том же духе. Уже все кому не лень пнули сергианство и забыли о нем, и тогда он стал его обличать. Уже, кто хотел, доказали, что Лермонтов — христианский поэт, а кто не хотел — что антихристов, а другие — что поэту вообще не обязательно быть христианским и слава богу, что Лермонтов такой, какой есть, и тут отец Павел навалился на него, как говорится, на новенького за «Демона» и непозволительный тон «Юнкерской молитвы» и что он картежник, обманщик, развратник, бузотер и чуть ли не лошадиный барышник — и поспел этот разнос в аккурат к лермонтовскому юбилею. Б.Б. довольно быстро это его качество раскусил, примерил, отверг — и вернулся к ритму, куда органичнее — чтобы не сказать, единственно — отвечавшему его натуре: опережающему.
Пришло время сказать, что по натуре Б.Б. был человек авантюрный. Чем дальше, тем сильнее это в нем проявлялось, пока не стало господствующей чертой характера. На первый взгляд, такая определенность расходится с портретом человека из свойств, проявляются которые сперва неуверенно, расплывчато, а сразу затем затвердевают, то бишь омертвевают и опять-таки не являются реальными. Но авантюрность — это тоже изобретательность и деятельность на пробу, без осознания того, чем ты на самом деле распоряжаешься. Авантюра, по самому своему понятию, беспочвенна, она пролетает
над почвой,
над действительностью, опускаясь на нее вынужденно и потому с нежеланием и всегда по касательной, правда, уж используя эти свои пируэты с максимальной для себя прибылью, выбирая для приземления самые выгодные точки.
Оговорюсь, что такое государство, как
советское социалистическое, в сфере реального публичного существования своих граждан только и оставляло им что авантюрные возможности. Общественная жизнь походила больше всего на автомобиль, который везут на платформе по железной дороге. Можешь, если нравится, его завести, опустить боковое стекло, долить масло, при дожде включить дворники, можешь даже перебрать узел-другой в моторе — но приедешь в любом случае со скоростью товарняка с Москвы-Сортировочной в Леиинград-Депо. Частная жизнь, если она была действительно частной: чтение книг на диване, прогулки с кем-то вдвоем, переезд семьей на дачу, сезонный бронхит — скорее могла стать общественной, чем членство в партии, заседание в комиссии, городской субботник. Неучастие в общих мероприятиях обращало на себя внимание общества даже больше, чем участие. Притом неучастие было привлекательно и как идея, и как практика, более подлинно, более честно, более сосредоточено на личном, на душе, на
главном. О, сколько из-за этого
главного было пропущено столь же необходимого душе и психике и всему организму
неглавного! И все внутренние силы, не примененные в каких-нибудь пусть дурацких, но не вредных Английских клубах, обществах «Зеленая лампа», митингах на площади и выборах в Верховный Совет, бросались на область жизни естественно публичную, на проезд в трамвае, на службу в чертежном бюро, на стояние в очереди. В какую авантюру превращалась трамвайная поездка: переполненный подойдет вагон, или достаточно свободный, или даже с незанятым сиденьем? Если с незанятым, то первый ли ты войдешь внутрь, а если переполненный, то втиснешься ли в двери? Рискнуть вообще не платить, или хотя бы пробить уже использованный билет, или все-таки заплатить? А на службе — наврать, что завтра с утра поедешь в «головное предприятие», назавтра же в полдень позвонить в «головное» и наврать, что приезжал, но «мне сказали, что все на совещании», и тем временем принести домой из универсама три рюкзака по двадцать банок болгарской кукурузы. А очередь занять одновременно в бакалею, в рыбный и в кассу и следить, как в вестерне, как на сафари, какая с какой скоростью движется, успех или провал — то есть рисковать, рисковать, рисковать!
Зато такое государство, как
советское социалистическое, сплетшее сеть столь противоестественных законов и исходившее в этом плетении из столь противоестественных критериев, предоставляло гражданину баснословно привлекательное поприще для всевозможного рода деятельности, которую в любой
нормальной правовой системе называют злоупотреблениями. И по мелочам граждане, самые обыкновенные, на этом руки грели. Но использовать настоящие шансы решались лишь одиночки; большинство же, а интеллигенция — так почти целиком, категорически не желало и от поприща держалось подальше, потому что боялось, ибо знало, что судит это государство человека не по закону, пусть и самому противоестественному, а, как предлагает у Островского Градобоев,
по совести.
Начать с того, что рубль стоил — в газете «Известия», а только там он раз в месяц этого и стоил — полтора доллара, а на черном рынке двадцать центов. Нет, начать все-таки с того, что рубля было девятнадцать разновидностей, от обычного, составлявшего одну сотую средней зарплаты и обменивавшегося на фунт дрянной колбасы, до мифического «золотого», который якобы и тянул на эти полтора доллара. А вместе с тем хлебниковско-крученыхо-бурлюковский «Садок судей», первое издание, стоил в букинистическом магазине — если каждый день заходить и наконец нарваться — сто рублей, а в Нью-Йорке какая-нибудь богатая библиотека или коллекционер за него давали шесть тысяч долларов. Малевичско-розановская «Взорваль» — сто рублей, а в Лондоне — три тысячи фунтов. «Фантастический кабачок» Софьи Мельниковой, тифлисское издание, — сто рублей, а в Иерусалим ушло два экземляра, и каждый за пять тысяч долларов. И так далее. «И так далее» значит, что мандельштамовский «Камень» и кузминскую «Форель» все еще можно было ухватить в Ленинграде за двадцатку, а попадая за границу, они шли по триста четыреста долларов. Если, конечно, в хорошем состоянии книжечки. И никого не надо убивать, ничего воровать, трать сто и получай на них, по курсу черного рынка, по действительному, иначе говоря, курсу, двадцать пять тысяч рублей. Единственно, что участие в черном рынке было противозаконным, но не в большей степени, чем когда ты совал продавцу лишнюю десятку за зимнюю шапку — по той простой причине, что торговали ими исключительно из-под прилавка. И риск был не больший.
Конечно, появлялись сопутствующие расходы. Экземпляр-другой еще можно было отправить с оказией, с каким-нибудь стажером-аспирантом, со случайным туристом, который привез тебе привет и свитер от знакомых из Парижа. Но контрагенту за границей, которого, между прочим, чтобы найти, еще тоже приходилось решать головоломку, ты автоматически платил комиссионные, и такие, какие он назначал, так что практичнее было завести кого-то постоянного или постоянных, кого-то из посольства, из школы при посольстве, из культурной миссии, кто регулярно ездил туда и обратно. Эти тоже брали свой процент, зато могли поторговаться с покупщиком и сбить его процент. И наконец, чтобы отлавливать не экземпляр-другой, а все попадающие в букинистическую лавку, а также имеющиеся у них на примете по частным библиотекам, надо было платить букинисту, хотя и много меньше, чем тем. Так или иначе, прибыль была несусветная, в сто, в двести раз больше затрат.
Еще выше доход приносили почтовые марки, Б.Б. сунулся и туда, но там действовала и всем распоряжалась давно налаженная, внутри официального общества филателистов сложившаяся сеть продавцов-покупателсй-перекупщиков, которая хотя функционировала до тех пор, главным образом, внутри страны, однако и за границей имела ждавших своего часа и предоставлявших верные каналы клиентов. К тому же все марки всего мира были сведены в каталоги и имели фиксированную цену, так что вся авантюра сводилась к заурядной контрабанде. Очень выгодным делом была торговля иконами, и десятка два Б.Б. удалось переправить, но икона — штука громоздкая, обращающая на себя внимание, а к тому же поставляли их профессиональные мародеры, которые грабили не только брошенные, а и действующие церкви, а заодно и старушек по деревням, и контакты с ними не только претили вкусу Б.Б., но представляли и прямую угрозу. Да и посещение церкви, какое ни редкое и пусть даже достаточно формальное, бывало на мгновения испорчено возникавшей в воображении картиной налета на этот именно храм поставщиков возглавляемого им, Б.Б., предприятия. Куда удобнее и приятнее были музыкальные инструменты.
Скрипки итальянской школы XVIII века, которые дома можно было купить за две-три тысячи рублей, за границей стоили двадцать тысяч долларов. Инструменты не уникальные, не музейные амати и гварнери, а следующие за ними, например, руджиери, купленные в Москве-Ленинграде за пять тысяч, продавались на Западе за сорок тысяч долларов, купленные за десять шли от пятидесяти и выше. Западная цена восьмисотрублевого смычка была около пяти тысяч долларов. Привар на каждую скрипку составлял десятки тысяч долларов, сотни тысяч рублей. И вывезти их из страны вовлеченный в дело иностранец мог элементарно: ввезти из-за границы, купив в магазине ширпотреба, самый дешевый инструмент, какую-нибудь колоду, объяснить на таможне, что всю жизнь музицируешь, объявить как руджиери или еще как-нибудь, потому что для таможенников тогда это было внове и они верили на слово, и через месяц уехать с тем, который получишь от Б.Б.
Зарубежные гастроли театров давали уникальные возможности вывоза-ввоза. С реквизитом можно было отправить что угодно: икону, которая должна висеть в красном углу пьесы «Гроза», все выпуски «Гиперборея» — стоять на полке в «Днях Турбиных», скрипку — для брата Андрея в «Трех сестрах», ружье, которое должно выстрелить в последнем акте у Чехова; и просто: контрабасы, флейты, геликоны, барабаны — с оркестром, жемчужные ожерелья, деревянную резьбу, портсигары с финифтью — среди муляжей. Б.Б. свел знакомство с актерами, постановщиками, художниками, часто ходил на спектакли, заодно сделался театралом.
Он ушел в дело с головой, вел таинственную жизнь, исчезал на неделю, поселял у себя в комнате неизвестно кого, сваливал в угол коробки с книжонками и брошюрками, которые выглядели макулатурой, мешки с тяжелыми досками, потрепанные футляры для скрипок, один раз принес старинное ружье, несколько раз сабли и кинжалы, один раз виолончель. Чем активнее он этим занимался, тем более усиленные меры принимал, чтобы слух о его деятельности не дошел до нас, до меня, до
нас, я бы сказал, до всех, кого он когда-то приглашал на дни рождения и с кем взбирался на Памир или уходил в Кызыл-Кум. Он не мог бы нам этих своих занятий объяснить, потому что хотя риск и решение частных задач возбуждали его и доставляли радостное вдохновение, но все вместе все-таки служило одной цели большему и большему накоплению денег. В этом тоже был азарт, но не достаточный, чтобы этого перед нами не стесняться. Слухи, разумеется, доходили, особенно усердно их поставляла Алле ее общая с Б.Б. подруга, которую он тогда сделал своей конфиденткой. Она называла его деятельность «тамань».
Что именно деньги были главным его интересом, подтверждалось тем, что он не брезговал и продажей приходивших с Запада запрещенных книг. Незабвенные десятилетия! Книги поставлялись через эмигрантские организации, и все, что про них говорила официальная пропаганда: контрреволюционные, антисоветские, филиалы разведывательных управлений, — всё было чистая правда. Некоторые возникли сразу после Гражданской войны, другие после Второй мировой, и, что у либерально-евразийских, что у национально-черносотенных, на знаменах было написано «Свобода России!». Свобода подготавливалась, вдохновлялась и, как хотелось думать членам организаций, осуществлялась радиопередачами и книгами. Насчет радио есть сомнения, а книги этой цели добивались триумфально и празднично. Не рас-пропагандированием и контрпропагандой, на что у тех, кто посылал, был расчет, а прямыми поставками непосредственно свободы — как фактом пересылки, так и содержанием: свободы читать то, что хочешь. Шестов, Федотов, Бердяев; Набоков, Ходасевич; Поплавский, Гайто Газданов; Мандельштам, Пастернак, Цветаева; «Воздушные пути», «Новый журнал», «Грани», «Вестник РСХД». А потом и Солженицын, и Бродский наш Иосиф, и твои собственные тут сти-шата, там эссей. Всякого бездарно-ядовитого, хоть про большевиков, хоть про внутренние эмигрантские склоки, приходило достаточно, но и Орвелл безупречный, и сам Джеймс Иваныч Джойс. А собрания Гумилева и Мандельштама в светло-сером и зеленом, как полвека назад, мягком картоне, Ахматовой и Хлебникова в небеленой и песочной рогожке, каждое в двух-трех-четырех томах! Чем не библиотека! Да тот же Вячеслав Иванов, да те же Гиппиус с Мережковским чем плохо? Оба Жоржа — Адамович и Иванов. Да все истории философии и философии истории. И все это за так, за то, что ты соглашаешься эти дары принять.
Потому что, конечно, при упомянутой умопомрачительной свободе, когда за окном лютует КГБ, на книжные полки обрушивается Георгий Марков и по телевизору бушуют семнадцать серий Иванова «Вечный зов», а ты лежишь на диване, в изголовье лампа под зеленым стеклянным абажуром, читаешь и откладываешь книжку в сторону и смотришь в потолок, и — нет, не годится тебе Сергей Булгаков, и берешь с полки Бахтина о Достоевском или самого Достоевского, изданных в Москве, хотя в ней КГБ и Марков и «Вечный зов», а потом, нет, достану-ка Ремизова, нет, Павла Флоренского, изданных там, где экзистенциализм в цвету и благоухает «Хиросима, любовь моя» и журчат «Гран Бульвар» — при этаком баловстве присутствовало и некоторое количество, скажем так, несвободы. Изрядное, если честно, количество. Несвобода принимала уродливые формы: книжки надо было припрятывать даже в собственной квартире — от водопроводчика, от врача, просто от гостей, чтобы не сболтнули, «Гулаг» надо было засовывать внутрь двойной балконной двери, скрепляющейся болтами; на допросе, если тебя спрашивали, где ты читал Авторханова, о котором распространялся под хмельком в одной компании, надо было говорить, что всего-то прочел две страницы, заглядывая через плечо человеку, читавшему «Технологию власти» в троллейбусе. Потому что и на допросы вызывали, и с обыском приходили. И сажали по статье, которую когда называли 70-й: «антисоветская деятельность», а когда — 190-й: «хранение и распространение заведомо ложных, порочащих советский строй…», а в просторечии «антисоветская литература». Заболоцкий, например, не так даже полно, как в Москве, издан был в Мюнхене, — но в Мюнхене, понимаете?
И торговать этими книгами — при том что, с одной стороны, три года исправительно-трудовых лагерей за Заболоцкого, а с другой — привозят их тебе на дом перепуганные или, наоборот, рвущиеся на баррикады бельгийский славист и шведская русистка, каковых книгонош при захвате с поличным вышлют из страны со скандалом и никогда больше не впустят, и прощай их научная карьера — торговать, хоть и с немалым риском для себя, продавать зубным врачам, директорам магазинов и сумасшедшим библиоманам, которые первые, случись что, тебя продадут, а если бедным и честным учихам, так еще и хуже, и всего-то получать по тридцать, по пятьдесят рублей за книжку — в дополнение к десяткам тысяч за основной бизнес — как-то не укладывалось в негласный кодекс чести, который нам, и стало быть, ему как части этих «нас», нельзя было представить, чтобы пришло в голову нарушить.
* * *
Научная карьера делалась своим чередом, без видимых усилий. Ненадолго сблизился с его отцом зощенковед — друг и единомышленник булгаковеда, который
восстанавливал текст сожженного промежуточного варианта «Мастера и Маргариты» по корешкам страниц, прилипшим к корешку тетради. (Легко представляем себе место, какое Булгаков нашел бы в своем романе восстановителю.) Отца Б.Б. тот выбрал в оппоненты на защиту докторской диссертации. Второго оппонента взял из либеральных, а этот призван был символизировать приверженность передовой советской филологической науке: все-таки — Зощенко, пусть и реабилитированный, но от пятна окончательно не отмытый. При таком раскладе Б, Б. показалось естественным попросить зощснковеда быть оппонентом на защите его, Б.Б., кандидатской. Как приверженца «передовой советской», однако с либеральным уклоном.
Диссертация была на тему обэриутов — что, кстати сказать, еще раз продемонстрировало, что человечество — пушечное мясо для сообразительной своей части. Хоть землетрясение лиссабонское, хоть всероссийский террор, хоть
гулагом плати «за безумные строчки стихов», в лагерную пыль истлевай, — а мне чтобы чай пить и поглядывать на кандидатский диплом в рамке на стене. Зощенковед отзыв сочинил какой надо, однако не без строптивости — отдал поздним вечером накануне дня защиты и написанный от руки на клочках оберточной бумаги. Но на Б.Б. в то время работали две машинистки, все было готово к сроку. После защиты спрошен был оппонентом с диссертанта экземпляр отзыва, и угораздило Б.Б. ответить, что отпечатал только четыре экземпляра и все они разошлись. «Вы, надеюсь, понимаете, — с расстановкой сказал зощенковед, — что мы делаем не карьеру, а историю. Не хотите же вы сказать, что не оставили копии моего отзыва для своего архива». Апломб и усталость, свойственные человеку, знающему больше, чем ты, а если без ложной скромности, то больше, чем все, придавали его голосу напевность. (Он потом, в пору уже «перестроечную», едва ельцинская харизма сглотнула горбачевскую, опубликовал статью, в которой сравнивал — натурально, с позиций семиотики и структурализма — речь Ельцина перед американским Конгрессом с геттисбергским обращением Авраама Линкольна. Кто там у Ельцина отвечал за культуру, на время сделал его и еще несколько таких же писателями: дескать, раньше были плохие, некультурные, сервильные,
ангажированные режимом, а сейчас хорошие, честные. Их пригласили на подмосковную виллу президента, и это признание так подействовало на неподготовленную немолодую психику зощенковеда, что он напечатал еще одну статью, на сей раз с сюжетом попроще.
«Машины с мигалками и сиренами доставили нас от Центра до правительственной дачи за двадцать пять минут, тогда как обычным образом эта дорога занимает около часа…» — и так далее. Он в одной компании, за границей, увидел Довлатова и ну, как заместитель Зощенко на земле — пристал к нему, этак развязно, анфан-терриблисто, как ему казалось,
богемно: «Довлатов, я читал, что вы остроумный, — пошутите как-нибудь». Тот угрюмо:
«Как-нибудь вам всякий пошутит; я стараюсь шутить качественно, поэтому только для своих».)
Защита прошла прекрасно, слово «любезно» порхало с одних уст на другие: «уважаемый соискатель любезно изъявил любезное согласие предоставить в наше любезное распоряжение…», кто-то из комиссии даже сказал, что диссертация тянет на докторскую. Присутствовали отец, критик, который еще раз оправился от болезни, сослуживец матери — математик, писатель Герман, физик Понтекорво и жена композитора Глиера. Б.Б. выкатился с факультета на набережную с огромным букетом цветов, и многочисленная компания отправилась в ресторан «Астория» — почти точно разыграв сценку, которую Найман и Бродский для собственного развлечения выдумывали в избе, заносимой ночной февральской вьюгой.
Между тридцатью и тридцатью пятью годами Б.Б. интеллектуально-душевной своей форме подыскал адекватную физико-телесную. И та и другая на протяжении предыдущей его жизни никак не развивались, а установились вдруг, и сразу окончательно. Он выглядел всегда одним и тем же мальчиком — и в какой-то момент в такого же мальчика затвердел. Тело было сведено к минимуму: череп, костяк, несколько мышц там и сям, кожа — все в самом необходимом количестве. Телесность обеспечивалась гимнастикой и диетой.
Гимнастика сперва была сборная и только из восточных упражнений. Ну, йога прежде всего. На взгляд непосвященного, ноги, торчащие из подмышек, и руки из ягодиц выглядели этаким специальным, цирковым, средневековым уродством: ногами вместо рук, руками вместо ног или, если угодно, подмышками и ягодицами, поменявшимися на теле местами. Так же противоестественно укорачивалось, складываясь, тело — на локоть, на голень, вдвое, вчетверо. Попривыкнув, непосвященный начинал различать связь уродства внешнего с внутренностями, которые хотя сами по себе отнюдь не уродливы, но, представленные вовне, лишенные природного покрова, предназначенного их скрывать, шокируют так же, как уродство, — наподобие глубоководного чудища, извлеченного на берег.
Привыкание, однако, само по себе есть посвящение, гак что различал связь исковерканности тела с внутренними органами уже первично посвященный, посвященный в ту меру, в какую успел привыкнуть. Иначе говоря, тот, кто регулярно наблюдал за гимнастикой Б. Б., на ощупь проходил те первые ступени, на которые Б.Б., судя по серьезности, окутывавшей его лицо во время упражнений, и по тому, что никогда и ни с кем они им не обсуждались, становился сознательно. Итак, наблюдавший постепенно догадывался, что вывернутые мышцы, суставы и кости каким-то образом массируют, сжимают и растягивают тот или иной орган внутри, вроде того как физические нагрузки и массаж воздействуют на мускулы тех, кто занимается спортом по-западному. Со временем деформированное тело начинало выглядеть всего только функцией внутренностей, снарядом для их тренировки, самодельным и потому неуклюжим, всего только мешком, дико скроенным вокруг заднего прохода, прямой кишки, мочевого пузыря, печени, желудка, горла. Более того, задний проход, прямая кишка, мочевой пузырь, печень, желудок, горло и прочее выходили чем дальше, тем отчетливей на передний план, не фигурально, а вполне материально, и привыкавший уже больше видел их, а не едва не разрывающиеся над ними от натяжения, но все еще прикрывающие их ягодицы и подмышки. Так представлялось, повторяю, не посвященному в существо дела сознательно, не прошедшему, так сказать, инициации. Прошел ли ее Б.Б., не могу ни подтвердить, ни отрицать.
Кроме йоги привлечены были все японские методики дзюдо и джиу-джитсу, про которые, правда, есть слух, что это одно и то же и только малограмотные западные транскрипции сделали из них пару, а также китайское ушу, корейские сюндё и ссани и семь па непальского брачного танца, подсмотренных европейцами. Долгое неподвижное сидение на полу, скашивание глаз, постоянное, маленькими глотками, поливание воды и, наоборот, регулярные, по возможности, засасываемые из лохани усилием сфинктора без посторонней помощи, клизмы — это само собой разумеется. Дышание — ноздрёй, другой, обеими. Длительное, насколько можно, недышание. Потение — в сауне, в парилке, но это от случая к случаю и с сомнениями, поскольку соседство не понимающих даже экзистенциальности, не говоря уже об эссенци-альности, происходящего мужиков с вениками сводило пользу от потения к минимуму. Хождение босиком по снегу, валяние в снегу нагишом, а потом потение в жарко натопленной, с закрытыми форточками, комнате — душной, то есть способствующей недышанию. Висение — на одной руке, на двух, но вывернутых в плечевых суставах; на ноге или на обеих, охваченных у щиколоток веревкой, привязанной к ламповому. крюку нод потолком, — с равномерным раскачиванием и медленным вращением вокруг оси.
Возможно, последнее и стало поворотным пунктом в переходе к окончательной доктрине телесности и соответствующей ей новой, раз навсегда принятой системе воспитания и ухода за телом. То ли из размышлений, постижений и просто самочувствия, то ли во избежание сопутствующих неприятных явлений, например, ангин после охлаждения в снегу, или цистита после лохани, или растянутых сухожилий, а однажды и вывиха, Б.Б. пришел к убеждению, что главное, а то и единственно необходимое для организма упражнение — это продолжительное содержание (прямее было бы сказать: держание — но нет такого слова) организма в перевернутом, вверх ногами, вниз головой, положении. Органы освобождаются от неизбывного и никак иначе не снимаемого давления друг на друга, провисают в новых комбинациях, перетряхиваются, сердце качает кровь в ином техническом дизайне, мозги работают как пятки, сосуды — кто их знает — но так или иначе отдыхают, и пр., и проч. И все это достигается простым стоянием на голове: опусканием на четвереньки, на лоб, собиранием тела в комок, в позу эмбриона, медленным закидыванием таза и выпрямлением ног. Сперва у стенки, а после достаточной тренировки — где угодно. По окончании же, через, положим, полчаса, — медленное, очень медленное опускание ног, стояние эмбрионом на четвереньках и на лбу, сидение на корточках — и возвращение в состояние homo erectus, по недоразумению или недодуманности выбранное природой как основное.
Параллельно еда превратилась в питание, питание в диету. Помимо естественных для жителей России соображений о недостатке солнца и тепла появились — и вскоре стали доминировать — рассуждения об активности-пассивности микрофлоры и о
хемусе. Микрофлора могла быть активной — где-нибудь в Гаграх, в Сухуми в разгар лета, никогда не достаточно сухого; и пассивной — в болоте, даже дурманном, в парке Лесотехнической академии и в Рощине, даже дождливой осенью. Микрофлора могла водиться в горах, в пустыне, но эта была целительной, поскольку в горных и пустынных микродозах высасывала, абсорбировала и приводила к своему уровню вредную микрофлору организма. Имелся в виду организм Б.Б. Время от времени научные обоснования менялись: в случае неожиданно предложенной отцу и переданной им сыну «горящей» путевки в Пицунду, в Дом творчества писателей, в аккурат в августе, в пик активности слизи, тины, миазмов, которые экстренно объявлялись similia similibus curantur; в случае поноса, открывшегося после сбора грибов в «пассивных» подлесках, или подхваченной в каракумских песках ангины, абсолютно необъяснимой.
При ангине, как и при поносе, как и при простуде, мигрени, люмбаго, фурункулах, увеличении щитовидки и так далее, которые, несмотря на безупречную систему охраны здоровья, тоже, чего скрывать, случались, в ход шло лечение по доктору Залманову, сводившееся к оборачиванию в горячие простыни и прямому погружению в горячую, ужасно горячую, едва терпимую ванну. Мама и Феня оборачивали и погружали, а Б.Б. терпел — возможно, что и больше, чем терпел бы, покорно, как все, болея. В ванну полагалось сыпать сухую траву: череду, ромашку, лаванду, чистотел — для создания все той же
микрофлоры. Однако делалось это и говорилось об этом не столько из веры и установки, сколько из представлений о том, как подать предмет, чтобы он выглядел не пошло, а прилично, — не о галошах и зонтах заботиться при дожде, а о наблюдении за фронтом циклона. Галошами же и зонтами была
макрофлора.
О фауне, в общем, разговор и не заходил. Мясо, как губка, было напитано разнообразными кровавыми ядами, да и рыба немногим лучше. Фауне разрешалось существовать только ради молока — в котором, как говорила одна старуха-латышка, давшая своей корове имя Мона Лиза, есть «фсякий траф, мор-коф, сметан и масл». Траф и моркоф, собственно, и сделались содержанием жизни Б.Б. На автомобиле «Жигули», купленном для скорейшего сообщения между квартирой на Фонтанке и дачей в Рощине, он выезжал на Кузнечный рынок, где закупал свежие овощи, пучки травы и фрукты в количествах, избыточных даже для Моны Лизы. Все это паковалось в картонные ящики из-под натуральных соков, бутылками которых были заставлены и городская, и загородная прихожие. Соки протухали, начинали бродить, но не так быстро, как гнили и сохли плоды и растения. На рынок приходилось ездить ежедневно, но это будоражило Б.Б. до какого-то чуть ли не восторга. Посещение рынка превратилось в заветное действие, в подобие священного ритуала, и, наскоро проделав с утра необходимые академические труды, а вечер оставив для деятельности приключенческо-коммерческой, он в середине дня отправлялся на торг, возбуждался от накатывавшего, похожего на банный шума, метался между рядами, нюхал, брал на язык, тер в пальцах, никогда не торговался, мед, давай мед, масло подсолнечное, только чтобы домашней выжимки, две бутылки, салат, курага, чеснок, облепиха, гранаты, базилик… В декабре, в январе, в феврале — горстями, охапками, ящиками.
И в благоухающих, как сабинский огород Горация, «Жигулях» он выезжал, непроизвольно улыбаясь, на Невский проспект или на Приморское шоссе.
Однажды летом он навестил Наймана — в Латвии, в Апшуциемсе, Найман там из года в год снимал дачу, как раз у этой самой Моны-Лизиной хозяйки. Я у него там тоже бывал, даже несколько раз, но уж об этих Апшу, Плиени и Энгуре не мое, к счастью, а все-таки его дело отчитываться. Б.Б. приехал прямо на следующий день после того как купил «Жигули», а к ним заодно и водительские права. Ездить он совершенно не умел, учился по ходу путешествия, которое по всем показаниям должно было закончиться катастрофой. Но вот доехал и по пути еще остановился на знаменитом чистотой и изобилием рижском рынке и сделал большую закупку того, что посторонним трудно было отказать себе в удовольствии называть «силосом», — первую на собственной машине, а не на такси, как приходилось делать до этого. Героизм предпринятой поездки оправдывал то, что она была предпринята без предупреждения и заставила Наймана помотаться по деревне в поисках комнаты для уставшего от дороги гостя. Везде он получил отказ и на обратном пути уже соображал, как ему с семьей ужаться, чтобы подселить к себе Б.Б., но все разрешилось самым лучшим образом: за это время Б.Б. как-то так воздействовал на хозяйку, что она на неделю сдала ему крохотный домишко, оставшийся ей после сдачи главного помещения Найману, и переехала в хлев к Моне Лизе, где у нее была каморка при входе, ровно по размеру раскладушки.
Окно Наймана выходило прямо на крыльцо домишки, которое Б.Б. стал использовать как кухонный и одновременно обеденный стол. Примерно в час ночи он выносил на него свои припасы, лист фанеры и эмалированный таз и начинал резать овощи и фрукты, шинковать траву, вылущивать зерна гранатов и орехи, мешать деревянной ложкой, подливать подсолнечное масло, покряхтывать. В полвторого таз был полон, Б.Б. деликатно гасил свет, и до полтретьего Найман, лежа в постели, только слушал и воображал, что именно подцепляет звякающая ложка или вилка; царапает она дно таза, потому что уже близко к концу, или потому что масса поглощается сперва с одного краю, или потому что регулярно разбрасывается по всей емкости, обеспечивая гомогенность; и почему так страшно клацают и скрежещут зубы и так часто и громко, иногда с воем, вырывается дыхание. Наконец питание прекращалось, но Б.Б. еще с полчаса не уходил, слышно было, как медленно поворачивается таз, как палец ездит по его поверхности, собирая масло с остатками травы, как язык и губы облизывают палец. Потом раздавались звуки, подобные бурчанию в животе, но более звучные, ясные и завершенные: целые фразы, выговариваемые утробой, благодарно заискивающий скулеж и торжествующие увертюры кишечника. Потом Б.Б. уходил внутрь, а Найман еще некоторое время — не то перед самым погружением в сон, не то сразу после — видел его прямостоящим, ждущим отрыжки прожеванной пищи для вторичного проглачивания, и улыбку Джоконды, блуждающую по его лицу, когда это, по-видимому, происходило.
Причина, по которой ужин был таким поздним, имела, скорее всего, также биофизиологическую подоплеку. Возможно, однако, что вынудил его на это и Найман, потому что в первый раз Б.Б. сел со своим тазом за стол вместе с ними, по оказалось, что, по правилам, не все отжеванное следовало глотать, а, отсосав из неизбежно остающихся во рту сгустков грубой растительной ткани последний сок, выплевывать жом, или жмых, или жев, или как он там называется. Не на стол, разумеется, а изящно в руку и уже из руки на стол, за таз. Найман запротестовал в самых решительных выражениях, так что назавтра Б.Б. явился к столу с пачкой бумажных салфеток, которые стал подносить к губам подобно больному чахоткой и с тем же выражением лица и уже завернутое в них раскладывать вокруг таза мочало. После хамского: «Да пошли вы вон с вашей выгребной ямой!» — из-за которого с Найманом сутки не разговаривала жена, хотя он упирал на то, что не сказал
«вместе», не «пошли вы вон вместе с вашей выгребной ямой», а, дескать, «избавьте нас
только от вашей выгребной ямы», без нее же милости просим, — Б.Б. и съехал на крыльцо.
И демонстративно, а может, и в отместку, стал чавкать и отплевываться под Наймановым окном. А может, и не демонстративно, и не в отместку, а с честным намерением дать ему заснуть и только тогда уже самому предаться чревоугодию. А может, кто его знает, ни то, ни другое, ни третье, а просто это
у нас был час ночи, у Наймана, у меня, у каких-то неведомых миру латышей, а по иорданскому времени или по гангскому, по которым он, может, жил, это был час заката или рассвета, а по правилам пищу, может, и следует вкушать только на закате или на рассвете.
Со стоянием на голове вышло два забавных конфуза. Наймановский сын младенческого возраста, увидев Б.Б. стоящим вверх ногами, вниз лицом, стал вешать ему на нос, на плоскость ноздрей,
разные сумочки и веревочки, и тот с руками, сомкнутыми вокруг затылка, и не имея возможности быстро опуститься, пытался стряхнуть груз вытягиванием и искривлением губ и прочими гримасами, однако безуспешно. В другой раз на пляже к нему подбежали три бродячие собачонки и, убедившись в его неподвижности, по очереди на него пописали. Свидетелей не было, но он сам весело об этом рассказал.
Из Латвии он поехал в Эстонию, а именно в Тарту, пригласил Наймана, тот решил рискнуть. Машина была завалена куртками, штанами, тазами, кастрюлями, стоптанными башмаками и рукописями. Что лежало на переднем сиденье, перебросили назад, так что у заднего стекла оказался зимний шарф и шляпа с полями, а под ними второй экземпляр статьи «Обэриуты… (дальше не все прочитывалось, но чуть ли не — «в
борьбе за мир…») и театр абсурда» с посвящением Карлу Густаву XVIII (или VIII), королю шведскому. По пути остановились ненадолго в Меллужах, завезли банку малинового варенья Тополянским, которые снимали там дачу. Тополян-ский был матлингвист известный — известный и последовательный, следует сказать: его мир, как легко вычислить хотя бы из осуждения павшей до низин членства в КПСС кроткой Ренаты Ц., подчинялся строгой логике, а когда не подчинялся, то приводился к формуле, годной для подчинения. Например, экстравагантностью: каждому понятно, что носкам, если в них есть надобность, не обязательно быть одного цвета, но так как жена предлагала ему их аккуратными парами, то приходилось пары перетасовывать и, надевая один серый, один синий, простую истину наглядно доказывать. Б.Б. вышел из машины в испачканном глиной меховом ботинке с волочащимися шнурками и в сандалии без ремешка, оба на босу ногу, и, что сильнее всего сразило матлингвиста, не ради какого бы то ни было доказательства и, тем более, эпатажа, а потому что первые попались под руку. На прощание он шепнул Найману: «Вы меня знаете, я люблю внушать отвращение, но перед этим — преклоняюсь».
Еще раз остановились на рынке. Б.Б. купил килограмм творога и миску клубники плюс обычный «силос». Выехав из Риги, километров через тридцать, на склоне холма между редких сосен устроили пикник. У Наймана были с собой бутерброды и термос с горячим чаем, от творога он отказался, несколько клубничин съел и — перешел на другую полянку, подальше от, как он говорил, «эксцессов хищного травоядного инстинкта». Он продремал около часа, пока Б.Б. покончил со всем провиантом. День был солнечный, дорога легкая и живописная. Каждые пять-десять минут Б.Б. отпивал несколько глотков воды из бутыли, стоявшей под правой рукой, и, допивая до дна, просил менять бутыль на следующую из батареи сложенных за его сиденьем. В тридцати километрах от Тарту он сказал, что, возможно, пришло время перекусить, и остановил машину в перелеске. Было тихо, пели птицы. Б.Б. опустил спинку сиденья, расстегнул ремень и откинулся. Минуты через две раздались звуки, подобные тем, что доносились с крыльца, но менее уверенные, поглуше. «Нет, — сказал он, выпрямился, застегнул ремень и поднял спинку, — не готов
хемус». Включил мотор и тронул машину с места.
Найман, окончивший технологический институт, осторожно насчет хемуса осведомился. Как он и ожидал, хемусом оказалась, грубо говоря, переваренная пища. Звуки должны были сигнализировать, на какой стадии процесс переваривания
всего потребленного под соснами находится, не завершен ли, потому что если завершен, то можно приступать к следующему. Найман спросил, почему не ориентироваться, как до сих пор, на чувство голода. Потому что неточно: чувство голода сплошь и рядом появляется прежде полной готовности хемуса. По той же причине начинать пить жидкость можно только после первичной стадии, а именно: когда пищевая масса, далекая еще от состояния хемуса,
вся уже затронута процессом, то есть не может превратиться обратно в пищу. Найман сказал, что огромная часть человечества, и он в том числе, пьет после обеда кофе, или чай, или, бывает, компот. «И очень печально», — отозвался на это Б.Б.
До Тарту они заехали на хутор к эстонскому поэту, с которым Б.Б. был коротко знаком. Поэт показал им новый пруд, вырытый колхозным экскаватором зацвести рублей. У мостков росли лопухи, гигантские, японские. К мосткам степенно подплывали карпы — поэт их разводил — не для стола, однако, а как дзен-буддист. Сидеть на берегу и созерцать тусклое посверкивание их боков отрадно. Противный Найман поинтересовался, будут ли все-таки употреблены они в пищу, если припрет с продуктами. Тот сказал, что проводит в ихтио-, конкретно карпо-центричной медитации часы, дни, столетия. Найман наседал: а если с голоду в голове начнет мутиться? Поэт выказал едва заметную нервозность и, передернувшись, допустил, что ну, может быть, и да, пришлось бы расстаться с одной-другой рыбой, но не придавая этому значения. Они переночевали на хуторе и утром приехали в Тарту. В Тарту посередине города стоял «ТУ-104» и жил знаменитый ученый Мазинг. Найман пошел осматривать самолет, а Б.Б. — разговаривать с профессором.
* * *
Зачем он заставил меня думать о всем этом, вспоминать!
Он — и Найман, и Б.Б. Подлинный смысл имеет только то, что не имеет практического смысла. До этого мы договорились вчера с Коганом, когда в три часа ночи он позвонил мне из Нью-Йорка: Юрий Коган, который когда двадцать лет назад улетал в эмиграцию и показался на миг на последнее обозрение, уже после таможни и паспортного контроля, за стеклом на втором этаже шереметьевского аэропорта, седой, молодой, красивый — и все бабы из толпы провожавших — кого они там пришли провожать, а его увидели в первый раз — взвыли: «Кого отпускаем!» Позвонил и сперва стал клясться, что нашел телефонную компанию, а в ней еще специальную рождественскую программу, по которой звонки в Россию вообще ничего не стоят, три цента минута, а если говорить больше часа, то и тебе еще приплатят, так что давай говорить больше часа, не торопясь, не торопясь.
Смысл имеет только то, что не имеет практического смысла и уменьшается в значении ровно настолько, насколько практического смысла содержит. Например, созерцание цветочных грядок, которым наслаждался Гёте. А уже затея Гейзенберга, который его наблюдение о зависимости цвета от того, кто созерцает, и даже от его настроения, и потому на свете столько цветов, сколько созерцателей, применил для строительства атомной бомбы — которое, впрочем, тормозил как умел, — не имеет смысла ровно никакого. Или, например, стихи. Уже музыка — не то: ее
исполняют — привлекают артистов, продают билеты, выпускают записи. Про живопись и говорить нечего — маршаны, галереи, вестибюли банков. Это вам не то что сидеть на крыльце, глядеть на забор, на канаву, поле, лес. Сидеть и глядеть, а не наоборот — использовать глядение как упражнение, а его результаты как способ укрепить здоровье и проч. Или как вот я сейчас — как материал для воспоминания, предпринятого ради записи. С какой стати!
Юрий Коган, садовник у богатых людей в Вестчестере, штат Нью-Йорк, которые по очереди дают ему жить в пустующих привратницких и платят столько, чтобы хватило до следующей платы, позвонил мне, Александру Германцеву, контролеру московского метро. Он говорил полтора часа, и я полтора, и всего получилось полтора. Он говорил, например, что немцы на Эйнштейна со всеми его сногсшибательными открытиями не обратили и не обращали никакого внимания. Что один из них объяснял другому теорию относительности и сказал: вот ты едешь в вагоне, а я стою на платформе. Для меня
ты с поездом движешься, а для тебя я с перроном. Понял? Тот сказал: а билет? Но потом Планк, президент ихней академии, написал в газете, что если на земле существует храм науки, то по нему прохаживается лишь Эйнштейн, в полном одиночестве. А так как немчура благоговеет перед авторитетами, то они его, конечно, признали, и устроили специальное университетское место, чтобы он сидел там и думал, и сделали председателем всяких обществ и комиссий, например, аттестационной по защите диссертаций. И один его ученик, из самых милых и лучших, защищал диссертацию и когда сказал: «Я кончил», — то был уверен, что сейчас все начнут его одобрять, хвалить и, возможно, превозносить, начиная с тех, кто мало чего понял, и кончая великим учителем. Однако Эйнштейн начал первый и сказал: «Я страшно виноват перед вами. Я действительно так учил, но два месяца тому назад. Тогда это было правдой, а сейчас я понял, что все наоборот». — «Но как это может быть! — вскричал тот. — Это же наука, а не, скажем, перчатки, которые можно менять по погоде». — «Это законы природы, — ответил Эйнштейн печально. — Увы, я не могу идти против них».
Кто это говорил, Юрий Коган или я, убейте меня, если помню, потому что мы говорили вместе и время было четвертый час ночи. Эйнштейн мог себе такое позволить — как Рихтер, которого выбрали в жюри и он дал премию Клиберну. Гилельс или Ойстрах не дали бы, потому что знали, что нельзя, а этот дал — раз тот лучше всех играет. А вообще, Эйнштейна нет, а есть Лермонтов. Это сказал Коган, потому что сразу после этого он сказал, что всю жизнь хотел петь арию Дон Жуана, — и мне оставалось только молчать.
«Дай ру-ку мне кра-сот-ка мы в за-мак с табой пай-дьом». Он это пропел великолепно — и смешно, потому что показал голосом, какой должен быть дурак певец, чтобы так пропеть. Что они все, во всем мире, и кто замечательный, и кто совсем бездарный, — одинаковые: бритые, здоровые мужики — ну, как кагэбэшники или там лакеи на запятках карет. «Тоска-позор — вот жалкий жрэ-эбий… мой!» Жуть? А ты попробуй написать оперу прямо на стихи Пушкина «Евгений Онегин», попробуй! Он сказал, что сколько раз ни запевал Дон Жуана, — ужас. Пробовал по-итальянски, не понимая слов, — ужас.
Ла-а чэдарэм ла маано; ла-а мэ-э дирай д’иси. Но еще ужаснее была ария Демона из оперы Рубинштейна, который вообще не понимал, где Демон и где музыка. Что он сам, что его брат с этими черными дикими волосами перед лицом. «На воздушном океане без руля и без ветрил». Опять он пропел очень профессионально и очень смешно: на водушнэм-м-м, бэз руля-и-бэз-ветрил. Один Шаляпин умел это петь, потому что знал, каково это — на воздушном океане, на тридцать втором уровне, и каково это — без руля, на минус тридцать втором. И вот три дня назад Коган готовит к весне оранжерею одного адвоката и напевает про себя «На воздушном», а получается «Дай руку мне, красотка».
То есть Рубинштейну ничего понимать и не следовало, его дело было соединить Лермонтова с Моцартом. И тогда оказывается, что «миг свиданья, час разлуки» и есть теория относительности. Затягивает прекрасным баритоном: «Им в грядущем нет желанья, им прошедшего не жаль». Такое бывает — но в редчайших, в считаных случаях. Как у Лвраама в состоянии «тардима», когда Бог заключил с ним завет. Это по-еврейски. По-английски это dream, а по-русски дремота. Вот как кошка — которой ничего не надо, сидит-мурлычет. Или как, прошу прощения за неприличное слово,
секс, только то, что сейчас. Это как у Наймана в стихотворении про Музу: нет тебя — нет и меня.
Весь этот кошмар неотвязный прошлого, войны, потопы, кровища просто не приходит на ум, будущее — не интересно вот ни на столько. Живут исключительно в настоящем, миг — живут, миг — живут. Только этот миг и живут, и потому что живут, потому и этот миг существует. А единый язык, про который знал великий Иллич-Свитич, царство ему небесное, ну прасемитский, довавилонский — это язык поэзии. Да, да, просто поэзии, любой. Ахматовой, Данте, Лермонтова, дю Белле. Почему Мандельштам и написал, оттолкнувшись от Эйнштейна с его светом с косыми подошвами и молью нулей: «И за Лермонтова Михаила я отдам тебе строгий отчет: так горбатого учит могила и воздушная яма влечет».
Но в Библии, конечно, это неизмеримо могущественнее то есть вообще неизмеримо. Потому что она тем для тебя могущественнее, чем ты с ней дольше. Как греческий мальчик, который выбирал ягненка в стаде и взваливал себе на плечи. И пока превращался в юношу, тот превращался в барана. И чем крепче делались мышцы, тем крепче мозг — на уровне центров инстинктивно-интуитивных, я имею в виду. Ну, в этих самых центрах телесности. Он не штангу, не железа груду тупую носит, а живую плоть. Переваливающуюся, дергающуюся, блеющую. И становится сильнее — и становится умнее. А если так с бараном, то ты понимаешь, насколько неизмеримо мощнее с Библией, — понимаешь?!
Вот что я хочу говорить, что вспоминать, про что думать, а не про Б.Б. ползучего, если уж вы хотите всю правду обо мне знать. Я стою на контроле в метро, вереница людей проталкивается мимо меня, каждый сует мне под нос бумажку, почему он имеет право так проходить. Я не только в бумажку ни разу не посмотрел, я в лицо редко когда заглядываю. Я смотрю на кишение. Лица взволнованные, рты оскаленные, а кишение мирное, перистальтика медленная-медленная. Я смотрю на шапки: один, войдя, снял, другой, наоборот, надел, за ним тоже напялил, опять нахлобучил, следующий сдернул, сдернул, стащил с черепа — и под мышку, снял, надел. Эпилепсия шапок, эпидемия шап-комаханья, шапкопорханья. Или шарфы. Размотал, замотал, затянул, как удавку, разодрал, будто душит. Потому что предыдущий что-то сделал. А выбор-то невелик: он так, и я так; он так, а я наоборот. Каждый хочет быть как другой или не как другой, а это одно и то же. Потому что главное — никто не хочет быть собой, не знает как, не хочет знать. Не хочет знать, кто он, именно он. Это в толпе, в человечестве. А дома — как часть человечества — с той же силой, с какой не хочет этого знать, он хочет быть как вон тот — чемпион мира, звезда экрана, нобелевский лауреат. Чем не Б. Б. — с той разницей, что бедняга Б.Б. и хотел бы быть собой, да не мог.
* * *
Шло время, и постепенно-постепенно становилось все яснее, что, не являясь собой, просто потому что
себя как такового не было, Б.Б. отнюдь не хуже, не злее — не говоря уже, не глупее — тех, кто собой были, и, напротив, за редкими исключениями, лучше тех, кто были
самими собой. Он был чемпион эгоизма, он свой эгоизм не скрывал, и не скрывал не так, как все, кто делает из демонстрации эгоизма более или менее чарующий спектакль: знаменитости, влиятельные и богатые люди, домашние авторитеты, чудаки, — а из опять-таки эгоистического соображения, что зачем спектакль, когда и без него не может не получиться. Эгоизм ни в чем, кроме себя, не нуждается, он нуждается в
ком-то, но эти кто-то — его сырье, и не занимается же огонь тем, чтобы произвести впечатление на дрова, когда их сжигает. Это была коренная ошибка в рассуждениях Б.Б., точнее, упущение в его представлении о мире. Он не обладал ничем, что люди, не называя, ощущают как право на эгоизм, стало быть, действовал против общепринятых правил и на свою беду был совсем, нисколько не обаятелен. В этом смысле он мог выглядеть в глазах людей чудовищем, бессознательно они даже были заинтересованы, чтобы он так выглядел и они на фоне его непривлекательности представлялись бы себе и друг другу милее, благороднее или хотя бы приемлемее, чем без него.
Я любил с ним разговаривать, я не любил только, чтобы даты, частота и продолжительность наших встреч диктовались им. Его мнения были независимы, его наблюдения над людьми — правда, как почти у всех, над их слабостями, пороками и дурацкими сторонами, — его суждения об их поступках и словах бывали пронзительно точны. Они вызывали непосредственный смех и желание видеть так же остро, как он. «Больше нет ни элиты, ни общества, — сказал он, придя с дня рождения филолога и лингвиста, известного тем, что о нем, когда он был еще молодым человеком, с похвалой и с удовольствием говорили все: Пастернак, Ахматова, Солженицын, Бродский — и которого все, включая и остальных
всех, называли
великим филологом и лингвистом. — Нет больше ни избранных, ни даже званых. Там была жена Евтушенко, которая час рассказывала о своем опоясывающем лишае и показывала живот и спину. И никто не мог ее перебить, и каждый старался тему поддержать. Там была жена шансонье Муслима Магомаева, которая одновременно с ней говорила о черной икре, о каспийской черной икре, о черной икре, и ни разу о красной. Там была жена нашего культурного атташе в Дели, которая после них говорила о том, как выгодно в Индии продавать бутылки из-под “Советского шампанского”, потому что из их стекла индусы изготавливают фальшивые изумруды. А в промежутке именинник говорил о Леви-Строссе, о Генрихе Бёлле, о Фестском диске, шумерском алфавите и запасниках Эрмитажа. Потом все спорили, какой путь от аэродрома Орли до Бурже короче, — все, кроме тех, кто безмолвно и смущенно весь вечер улыбался».
Тон Б.Б. был ровный, информативный, речь легкая. Он тонко реагировал на встречные реплики и вообще был живой и умный, но вдруг начинал звонить по телефону, звонок за звонком, и все об устройстве свиданий — на завтра, на через день, на через месяц. Не смущался, что прервал так грубо ваш с ним разговор, не стеснялся твоего присутствия, не замечал твоего недовольства и даже как будто не слышал твоих призывов положить трубку, чтобы дать желающим прозвониться. Телефон был и на всю жизнь остался его пунктиком, он ничего не мог со своей телефономанией поделать. Много лет спустя я торчал полторы недели в Манчестере на одном из тех невероятных симпозиумов под названием «Мир и история», или «История и искусство», или «Искусство и наука», на которых любой может выступать на любую тему. Б.Б., конечно, в нем участвовал. В один из дней за мной заехала моя бывшая жена, англичанка, и мы на машине отправились на север навестить ее родителей. В Манчестер мы вернулись в третьем часу ночи, город был совершенно пуст, неподвижен, освещен мертвыми фонарями — и вдруг фигура Б.Б. метнулась через улицу как раз перед машиной, так что мы вынуждены были тормозить. Он не обратил на нас никакого внимания, потому что был устремлен к телефонной будке, ворвался в нее, сбросил на пол сумку с плеча, дернул молнию, выхватил записную книжку, распахнул и стал быстро и сильно нажимать кнопки. «Звонит в Голландию, — предположила моя бывшая жена, — там через неделю в Дельфте симпозиум “Наука и мир”».
Еще один парадокс, который произвела натура Б.Б., заключался в том, что он был лишен интуиции, начисто. Все, что он делал и чего добивался, он делал и добивался обостренным интеллектом. Интеллект и вообще, если он находится в состоянии готовности, то всегда в готовности сорваться с места. Ноги уже укреплены в колодках, вес переброшен на плечи, а они передают его, насколько возможно, кистям, а те большому и указательному пальцу, таз приподнят — интеллект готов метнуться вперед при любом щелчке, он примет за выстрел стартера простой хлопок в ладоши и, рванувшись, не сразу останавливается, даже и слыша команду «фальстарт!», не сразу с ней соглашается, не желает прервать начатой стремительно и безоглядно дистанции. Интуиция же топчется где-то за его спиной, позади стартовой линии: чтобы выйти на дистанцию, ей нужен разбег, нужно время для прикидки, начинать ли ее вообще, не победить ли интеллект, просто дождавшись двух его фальстартов и снятия с забега. Она не спешит, потому что в любом случае, как бы быстр и могуч он ни был, на финише она будет первой.
Б.Б. не мог что-либо предчувствовать, потому что не умел чувствовать. В общепринятом смысле слова. Он чувствовал жар и холод, физическую боль, настроение собеседника, опасность, но, как уже было сказано, не чувствовал меры. Если у него болел зуб, он не знал, достаточно ли он болит, чтобы идти к врачу. Если собеседник был к нему не расположен, он не понимал, насколько, и ждал, чтобы тот сказал: я не расположен к вам до такой степени, что не хочу больше с вами разговаривать, — а если этого не слышал, то продолжал с ним разговаривать как ни в чем не бывало и тогда, когда любой другой на его месте смотал бы удочки. А так как произнести в глаза живому человеку это трудно, то сплошь и рядом он брал в оборот людей, которые не хотели иметь с ним дела, чем доводил их нерасположенность до почти исступления. И напротив, чье-то заявление принимал как истину и приговор и мог сказать: «Вы нажили себе врага, не поздравив с днем рождения такого-то; он говорит, что никогда вам этого не простит», — хотя мы с таким-то после этого уже три раза виделись и десять раз разговаривали по телефону ровно так, как прежде. (Такое отношение к проходным репликам было, впрочем, свойственно и другим его филологическим знакомым, может быть, потому, что у них любое из слов имело равный вес с остальными, а может, поколение такое выдалось. Например, Тименчик, читавший
всё, с заметным волнением сообщал Найману, что видел в издательстве ругательную внутреннюю рецензию на его перевод латышских дайн, а затем, через полгода, что в «Трудах Ленинградского университета» появилась критика его перевода старопровансальских трубадуров, каковые два факта сопоставив, он заключил не без торжественности: «Это уже похоже на крестовый поход против вас».)
Опасность Б.Б. чувствовал тоже прежде всего умом, но тем же умом нельзя сказать чтобы не чувствовал одновременно и безопасность. Поймав в Москве на улице «левую» машину, он из болтовни шофера узнал, что его брат работает шофером у директора издательства «Наука», и, наскоро расспросив, имеет ли брат на директора влияние, и услышав, разумеется, что имеет, и полюбопытствовав, не может ли он
внепланово устроить издание его, Б.Б., монографии о галисийских трубадурах, и услышав, что запросто, и осведомившись, сколько это будет стоить, и услышав, что пятьсот, тут же эти пятьсот вынул и передал для брата вместе с номером своего телефона, по которому просил брата звонить в любое время. Заметим, что все это происходило в конце 70-х, когда царила социалистическая законность и когда пятьсот рублей стоили побольше, чем сейчас, в конце 90-х, когда царит законность пера и обреза, пятьсот долларов. Болван, скажете вы. Да, но не по разуму (потому что шансик-то все-таки был, а деньги еще заработаем), а по чутью. Авантюрность, скажете вы. Да, авантюрность — но и полное отсутствие интуиции. Брат так и не нашел времени позвонить, а машина с его братом-болтуном, с которого Б. Б. мог бы взыскать долг, с тех пор ни разу не встретилась.
Года через три встретилась другая машина, с четырьмя одинаковыми крепышами внутри, так что для Б.Б. осталось только узкое место между двумя, располагавшимися справа и слева на заднем сиденье. Крепыши привезли его в лес за железной дорогой по другую сторону от станции Солнечное. Стащили с него рубаху, привязали к дереву, достали набор щипчиков. Потребовали денег, «налог» с торговых операций. Искололи грудь, плечи, несколько раз прижгли автомобильной зажигалкой. «Было страшно». — «А вы?» — «Я молчал». — «И они?» — «Если вкратце, то развязали и уехали, а я сел на электричку и вернулся в город». Правда, тогда еще не принято было убивать, как сейчас. Б.Б. отнесся к нападению скорее как к случайности: кто-то навел, те попробовали, не получилось — и ни в какую не соглашался принять, что это непременное условие выбранной им деятельности. Ничего подобного, у каждой вещи своя сфера, сферы входят в связь между собой, выходят из связи, и ни из чего не следует, что у каких-то сфер больше сродства друг к другу, большая продолжительность связи. «Вот кстати», — он остановил «Жигули», в которых мы ехали по заснеженной дороге, ведущей к их даче, и посветил фарами самосвалу, тащившемуся навстречу. Тот остановился, Б.Б. вышел, поговорил с водителем, вернулся. «Насчет мазута договаривался, для котла, — объяснил он. — Сейчас нет, но обещал после Нового года. Когда начнутся хищения в особо крупных масштабах».
Идиотская потеря пятисот рублей и нападение рэкетиров были первыми языками того потока заваренной им еще в юности, постоянно размешиваемой, интенсивно разогреваемой каши, который начинал уже бежать со всех конфорок, заливая и захватывая нужные в хозяйстве и иногда несравнимо более ценные, чем сама каша, вещи. Это происходило не от просчетов ума, а от просчетов, свойственных, если не необходимых, уму, который, рассчитывая на двух-, ну пусть трехходовую комбинацию, должен отбрасывать возникающие с каждым планируемым ходом осложнения, чтобы, не растрачивая на них лишних сил, целиком сосредоточиться на атаке. Рассчитывать же дальше трех ходов — полагал справедливо Б. Б. — не следует: игра примитивная и без твердых правил. Но даже если он отдал пятьсот рублей, трезво взвесив за и против в соотношении один за и девять, а хотя бы и девяносто девять, против, и даже если пять сотен, при двойном делении на коэффициент покупной цены скрипки по отношению к продажной и коэффициент валютного курса реального по отношению к официальному, не такие уж великие были для него деньги, то все равно: случившееся свидетельствовало о неблагополучии много большем, чем разовая материальная потеря, большем, чем нулевая интуиция или оголтелая тяга к афере. Это был сигнал неблагополучия, органически включенного в благополучие.
Проще говоря, это был сигнал жизни — которую чем больше под себя гнешь, тем сильней взбрыкивает, которую, в общем, не обыграешь.
С галисийскими трубадурами дело не шло не из-за на пять лет вперед составленных издательских планов, или интриг, или нехватки бумаги и типографских мощностей это бы все можно было решить несколькими телефонными звонками какому-нибудь могущественному папиному знакомому, — а из-за самих трубадуров. Нечего, в общем, было о них писать, нечем в их поэзии, всецело зависимой от старопровансальской, заниматься, и самих их как бы и не было. Не будь провансальцев, еще сошло бы. Но на фоне той реальной могучей культуры и в сравнении с двумя десятками, а на чей вкус и больше, первоклассных поэтов среди писавших на языке «ок», все эти Жил Санчес, Альфонсо Санчес и Мартин Соарес больше походили на испанских футболистов из второразрядной команды, чем на трубадуров Статью об Альфонсе X Мудром, короле Кастилии и Леона, моментально пришиб Мейлах, ибо Альфонс хотя трубадуром был далеко не первого разбора, но шел по спискам мейлаховской, старопровансальской, епархии, и с какой стати так просто его уступать? По бедности пришлось взять дон Дениса, Альфонсова внука, но он был королем Португалии, и тут на Б.Б. взъелись уже португаловеды. Невзрачность темы намекала на невзрачность фигуры, ею занимающейся, а неуспех в одной филологической брани бросал тень на успехи в других, обэриутской и достоевской.
Да и расчет на то, что можно «в случае чего» «за содействием» позвонить издательским генералам, приятелям отца, тоже имел существенный изъян: позвонить-то можно было, но в определенном смысле уже контрабандно, мошеннически. Отношения Б.Б. с отцом к тому времени были в руинах и, ограничиваясь формальным «добрый день», не снисходили до «спокойной ночи» и даже «до свиданья». Началось с того, что Ника и Фридрих эмигрировали в Америку: объявили об этом, только когда понадобилось отцово официальное «не возражаю», заверенное у нотариуса. Тут же выяснилось, что мать об их намерении знала с самого начала, то есть еще одно вероломство. Отец как раз
возражал. О’кей, напиши «возражаю», ОВИРу все равно. Он написал, в нотариальной конторе заверили. С карьерой можно было распрощаться навсегда: «возражаю», «не возражаю» — воспитал детей, предавших Родину. За день до отъезда заехали, с шестилетним сыном — единственным из когда-то воображаемой им массы внуков. «Поцелуй дедушку на прощание», и, не оставшись ночевать, уехали; в Америку; как будто их никогда и не было; навеки.
Осталась жена, преданная, как прежде, и, как прежде, разрывавшаяся между ним и детьми: безоговорочно поддерживала, если он подписывал письмо против
сионизма, и втайне от него переписывалась с ними.
И остался Б.Б., но который вел себя скорее как если бы это он туда уехал и жил по тамошним правилам. Отец с ним несколько раз пытался поговорить, сперва, как обычно, безапелляционно, потом вразум-ляюще, наконец ультимативно. Б.Б., если разговор происходил за обедом, доев, вставал и, ни слова не говоря, уходил в свою комнату, а если в его комнате, то одевался — и на улицу. Отец написал ему два письма: одиннадцать страниц и шестнадцать — подложил их под дверь. Листки первого оказались через некоторое время под сковородкой, с которой Б.Б. ел яичницу; второе он нашел на полу нераспечатанным, когда в отсутствие Б.Б. вошел в его комнату. Так что позвонить-то, повторяю, Б.Б. отцовым корешам мог, но даже в случае, если те оказались бы из числа не отвернувшихся от
отца предательницы-сионистки, это были звонки у него за спиной, по секрету от него. То есть опять-таки: преимущество содержало в себе свое отрицание: Б.Б. — сын влиятельного отца, да; однако сын, отцом более или менее ненавидимый.
Тем не менее он им звонил и даже приходил в гости. Чаще других к секретарю Союза художников, влиятельнейшему товарищу. Семьи дружили преимущественно по дамской линии — жены были знакомы, — но и мужья чувствовали друг в друге племенное родство. У секретаря хватка была, конечно, на порядок-два сильнее, чем у отца Б.Б., его имя и для любого университета и издательства значило больше. Секретарь с женой приглашали Б.Б., которого знали с младенчества, на семейный обед. Против напрашивающихся представлений о вовлеченности фигур такого социального разбора в отношения многолюдные, о толпе окружающих их льстецов, прихлебателей и просителей, секретарь с женой жили замкнуто, никому не доверяли, друзей, в общем, не имели. У них была дочь возраста Б.Б., на которой хотели жениться те, кто внушал им подозрения, а не те, кого они намечали в зятья. В конце концов сошлись на парне из Керчи, из морской семьи: отец — боцман на танкере. Дескать, и корни не испорченные, и место свое будет знать. Спортсмен, крепкий, кровь с молоком, окончил мореходное училище, без интеллектуальных запросов, всегда чреватых неожиданными неприятностями. Вышло как по писаному: секретарь помог, направил, малый вскоре защитил диссертацию по философии, «Марксистско-ленинский подход к…», отец приезжал навещать не чаще раза в год.
Он, кстати, присутствовал за обедом, на который пригласили Б.Б. Темы застольного разговора были спокойные. Делает ли Б. Б. по утрам гимнастику? Это дочь спросила. Надо, надо, вон какой физически, как бы сказать поточнее, неубедительный. Наука наукой, но и физическое развитие должно соответствовать — это секретарь. Вообще, очень много времени, очень, уходит на поддержание формы — это жена. Она состоит в нескольких комиссиях на общественных началах: на любом заседании необходимо быть в состоянии наилучшей боевой готовности. Вместе с регулярным массажем, бассейном и специальной гимнастикой это не меньше трех-четырех часов в день. Устаешь много, много больше, чем какая-нибудь, скажем, ткачиха, которая в середине дня сделала десятиминутную зарядку, и ей довольно… Тут домработница отозвала ее к телефону.
Жена вернулась со скорбным выражением лица, сказала, что звонил такой-то, однокашник секретаря, сказал, что у его жены рак. «Да, — проговорил печально секретарь, — у каждого человека своя беда…» Поправился: «…своя неприятность». Через пол, примерно, минуты какое-то волнение отразилось в глазах зятя. Он даже положил на стол ложку. «Как это “у каждого”?
Почему “у каждого”? Не у каждого. У одного рак, у другого совсем не обязательно». — «Точно, сынок, — вступился за него отец. — Один имеет неприятности, другой ни одной. А то “у каждого”. Я, например, никогда неприятностей не имел и иметь не собираюсь». Всем было видно, что он обижен подозрением тестя, будто беда и неприятность могут распространиться и на него; что он едва удерживается, чтобы не сказать: «Одну минуточку. Я когда на вашей дочери женился, мы так не договаривались. Диссертация — да, квартира там, машина, но о неприятностях слова не было сказано». «В нашей моряцкой черноморской крови, — сказал отец веско, — рака нет». Дескать, может, у кого-то есть, и если есть, то чем скорее карты на стол, тем лучше. Честнее…
На прощание секретарь пообещал Б.Б. «выяснить ситуацию» и по поводу трубадуров, и обэриутов. Жена шепнула, что если он так говорит, Б. Б. может быть спокоен: все сделает. «А как там у вас с отцом продвигается дело с Достоевским? — спросил секретарь. — “Ошибки Достоевского” готова книжка? Общественность такую книгу ждет, тема актуальная». Б.Б. ответил, что почти готова, по без его участия, он в конце концов предпочел, чтобы отец один писал. «А что ж так?» Б.Б. на миг, особенно после шепота хозяйки, показалось, что между ними всеми возникло общее понимание вещей и та редкая доверительность, которая нуждается в немедленной поддержке откровенностью, честностью, юмором, и он сказал: «Да ведь явишься на тот свет, как вот жена этого вашего однокашника, а Федор Михалыч приступит и начнет трясти: “Ну-ка, какие такие ошибки я допустил, скажи в глаза?” И выцедит по капле из отца кровь в загробную мацу». Тотчас поняв, что сморозил несусветное, стал объяснять, что все это исключительно в фигуральном и юмористическом смысле, выражающем метаописание самого Достоевского, но хозяева, невооруженным глазом было видно, перепугались как-то даже мистически. И не «выяснил ситуацию» секретарь ни с трубадурами, ни с обэриутами никогда.
* * *
И черт с ним. Потому что жизнь Б.Б. принимала нешуточный оборот и, как у всех перед крутой переменой, походила на вылетающий с трассы автомобиль, который, не снижая скорости, скачет по целине, а тот, кто за рулем, реактивно крутит руль и отжимает педали, инстинктом допуская, что как занесло, так и вынесет. Прощения прошу за каламбур — пришла в КГБ очередь Б.Б. Выщелачивая за год по десятку-другому содержащихся на учете, добрались до года 1983-го и перенесли его имя из плана перспективного в принятый к исполнению. И то сказать, назрело. Человека, дважды встретившегося с иностранцем,
вызывали, а пятижды — могли и
взять, тогда как Б. Б. звонил по домашнему телефону (!) в американское консульство (!) и на итонском английском говорил: «Приглашаю всех вновь прибывших в Ленинград стажеров и вас, господин консул, на домашний ужин, посвященный началу занятий в университете». Его антиподы, хотя бы тот же Азадовский, когда иностранцы звонили им с улицы, прерывали их на полуслове, выпаливали: «В семь вечера у Медного всадника!» — и бросали трубку. И как миленького взяли уже и Азадовского, и других подобных конспираторов, а этот, нарушая протокол, не говоря уже об этикете, вел себя, как будто не отдали жизнь за революцию тысячи, за Днепрогэс сотни тысяч и за победу над фашизмом миллионы безымянных бойцов.
Так что
активизировались в Большом доме,
повели Б.Б., стали непосредственно
разрабатывать. И он активизировался. Что-то перепрятал, перевез от старушек к тертым молодым людям, а от них другое что-то к тем же старушкам. Издал за границей разом три статьи: «Имя назывательное в тюркских языках» (прощание с Аллой), «К постановке проблемы поэтической логики и алогичности в стихах Александра Введенского и Осипа Мандельштама» (оммаж Надежде Яковлевне) и «Соотношение европеизмов и провинциализмов в языке галисийских трубадуров» (все-таки!). Еще раз наведался в брачную контору: там были уже только нигерийки и никарагуанки, и твердая такса установлена, и инструкция «Советы вступающим в брак с иностранцами» вручалась.
Главное же, он разогнал маховик покупки-отправки-продажи-выручки до максимальных оборотов. Он носился на уже вторых по счету «Жигулях» по Ленинграду и между Ленинградом и Москвой, и черные «Волги» носились за ним круглые сутки. Он стал говорить тихим голосом: экономил силы. Найман делал вид, что не слышит, спрашивал меня при нем: «Он еще говорит или уже замолчал?» — а самого Б.Б. пилил сварливо: «Почему это вы бережете свой голос больше, чем мой слух?» Он выпивал галлоны соков, съедал бушели фруктов, баррели овощей, спал — с повязкой на глазах и затычками в ушах — по пять-шесть часов в сутки, в восемь утра и восемь вечера, где бы ни находился, на полчаса становился на голову, и звонил, звонил, звонил по телефонам. Телефоны в ответ звонили ему. Половина людей не дозванивалась, не могла пробиться, да и вообще коэффициент полезного действия не поднимался выше пятидесяти процентов, но само дело было раскручено на двести, и в целом выходило так на так. Однажды я услышал, как он зовет меня с улицы, и выглянул в окно: он наполовину высовывался из машины, извинился, что торопится, и попросил меня позвонить по такому-то номеру, просто сказать, что он едет — опаздывает, но едет. Он даже не выключил мотора. Но вдруг прибавил: «Минуточку», — перегнулся назад, порылся и вылез наружу с плоской, рисованной на картоне куклой. Поднял, чтобы мне было лучше видно, потянул за веревочку, кукла подергала ручками и ножками. Он ухмыльнулся с сомнением и крикнул мне без уверенности: «За Малевича не сойдет, а? Как вы думаете? — Еще раз вгляделся. — Харджиев говорит, Малевич несколько таких сделал».
Возрастала интенсивность — возрастали и потери. Как цирковой клоун, он набирал кучу мячиков, прижимал к груди, брал еще один, но сразу падал один из охапки, он наклонялся его поднять — падали два новых. Он оставлял записные книжки в телефонных будках. У него было четыре записных книжки, каждая объемом с том десятитомника Пушкина. В них были сотни телефонов и адресов, записанных от руки, и сотни вклеенных визитных карточек иностранцев. Он вынужден был часто звонить из будок — и потому, что так часто находился в дороге, и из соображений хоть какой-то безопасности: оба телефона, городской и дачный, прослушивались почти открыто. На нем висело по четыре сумки с множеством отделений и кармашков, он расстегивал молнии, застегивал, что-то вытаскивал, втискивал внутрь. Естественно, что что-то и забывал: записную книжку, через месяц еще одну, но первую тем временем восстановил, через полтора месяца еще одну. Он выехал из двора на Фонтанку, вернулся закрыть ворота, а сумку, которую держал на плече, потому что в ней были ключи от ворот, поставил на капот, на одну минуту, — и ее успели украсть.
В сумке был паспорт, водительские права. Он заявил о пропаже в милицию, в ГАИ, официально, но также и заплатил кому надо неофициально и через десять дней получил новенькие
корочки. И тут же его обокрали на рынке: разрезали сумку, вытащили деньги и права — хоть догадался больше с собой не таскать паспорт. На этот раз он обратился непосредственно и только к уже знакомому ему
коррумпированному инспектору, тот нахмурился, но до порицания и проповеди не опустился, а просто взял вдвое против первого раза и выдал новые документы. Еще через месяц позвонили из милиции и сказали, что им принесли подброшенные первым вором паспорт и права. Б.Б. их забрал и стал жить с двумя комплектами: «Очень удобно, не нервничаешь, да и свободнее себя ведешь», — объяснял он.
Наконец его арестовали, под Москвой, в конце весны. Он поехал на дачу к дочери зощенковеда. Она — как отец (а также и как мать, сделавшая карьеру на средневековом тамильском синтаксисе) — уже, в свою очередь, была кандидат филологических наук, защитившись по Вуку Караджичу. Тему выбирали всей семьей: Югославия представляла собой оптимальный вариант заграницы — не безнадежно тоскливый социалистический, но и не безнадежно недоступный капиталистический. (Тогда все
умные люди — всё равно, порядочные или непорядочные — сооружали свое будущее из расчета на несокрушимость и вечность советской власти.) Дочь, действительно, успела съездить не только на славянский симпозиум в Болгарию, что было проверкой низшего разряда, но и в Югославию, что было проверкой генеральной, по которой делалось заключение, может ли человек — в дальнейшем, когда-нибудь, в принципе — попасть за границу
настоящую. Никаких нареканий за поведение «там» она не получила и в данный момент
оформлялась ни больше ни меньше как в Италию. Одновременно она испытывала чувство, близкое к любви, к Б.Б. и была не прочь выйти за него замуж.
Найман, также знакомый с их семьей, говорил, что это для них Ленин придумал лозунг «Учиться, учиться и учиться!». Их бог был Академия Наук, их образ жизни был членство в институте Академии Наук, их досуг и даже разврат были книги, выпускаемые издательством Академии Наук. Отец, мать и дочь думали об этом настолько одинаково, что, рассуждая на эту тему с гостями или просто в семейном кругу, могли заменять друг друга с середины любой фразы, и сумма мнений всех троих тютелька в тютельку равнялась мнению каждого. Родители отца и матери тоже были профессора-доценты, но, кажется, в областях более практических, вроде медицины или химии. Это давало право говорить об академическом миропорядке как извечном, изначально определенном, как — «и сотворил Бог Академию Наук: Академию и Наук сотворил их». А это, согласитесь, давало уже и некоторые привилегии перед другими. Например, академическую поликлинику, академический продуктовый распределитель и право на дополнительную жилплощадь. Чтобы освободить время от житейских забот для интеллектуально-духовной деятельности — которая, если без экивоков, выражается на практике именно в академической.
Найман спорил: дескать, не спорю, но хотелось бы того же и для моей тещи, которую я очень люблю… — «А… простите, в какой, так сказать, области ваша теща…?» — «А в области домашнего хозяйства… так что хотелось бы того же для нее, а также для старушек, сидящих на лавке у подъезда…» Зощенковед, улыбаясь улыбкой просвещенного барина, примирял при помощи юмора: «Ну, единственную хоть привилегию нам оставьте: гардероб для докторов наук в Ленинской библиотеке — не выстаивать же в очереди по часу». — «Гардероб беспременно, — подхватил Найман немедленно. — Я библиотек стараюсь избегать. Знаете: чтение — дело интимное. Да и библиотекари тебя ненавидят за то, что ты разрушаешь устроенный ими порядок. Но в аккурат вчера вынужден был, пошел в Ленинку. Очередь в гардероб — ваша правда — на час. А который для докторов наук — всего стоит пять человек. Ну, я дал вашему гардеробщику трешку, он меня без очереди повесил».
Б.Б. поехал к ним с благородной целью: дочь Наймана, еврейка, не-комсомолка, верующая и без репетиторов, решила поступать на филфак в университет, а дочь зощенковеда была в приемной комиссии, и Б.Б. хотел узнать, как она может в этом случае помочь. Потому что как говорил Найман — его дочь могут принять только из того немыслимого расчета, что если в Москву приедет, например, американский президент Рейган и спросит: «А могли бы вы принять в университет еврейку, не-комсомолку, верующую и без репетиторов?» — и в ответ университет торжествующе бы ее продемонстировал. Отдельно Б.Б. хотел еще узнать, не возьмет ли дочь зощенковеда, когда поедет в Италию, небольшой пакет для его друга-хлебниковеда, несколько маленьких книжонок, собственно, даже брошюрок, нужных тому для диссертации, — но это во вторую очередь. Про
поступление в университет дочь зощенковеда сказала, что, по ее понятиям, дочь Наймана завернут на стадии подачи документов, но если пропустят, можно будет что-то попробовать сделать, как-то похимичить.
Когда Б.Б. вышел с дачи, оказалось, что его «Жигули» блокированы двумя «Волгами», и не успел он вникнуть в это обстоятельство, как сам оказался блокирован командой ладных парней, отличавшихся от тех, со щипчиками, прямым, хотя и неуловимым, взглядом открытого, честного, хотя и жестяного, лица. То, что было дальше, описано более или менее последовательно в романе Наймана «Поэзия и неправда». Я не понимаю, а могу и сказать: понимаю, но не оправдываю, — зачем Найману понадобилось объединить мой арест с арестом Б.Б. и еще несколькими арестами: Славинского, Суперфина, Мейлаха, Азадовского. Меня арестовали через четыре месяца после Б.Б. и вовсе не так романтически, и просидел я на четыре месяца меньше его, а он действительно, когда его вели в Шереметьеве к самолету, пытался сесть в такси, чтобы убежать. И вообще, с первых же минут, отнюдь не борясь с режимом или за права человека и уж никак не будучи диссидентом, а только по все тому же невладению инструментом человеческих — в данном случае: нечеловеческих — отношений, по атрофии душевных органов, адаптирующих душу к предлагаемым обстоятельствам, и, как следствие, по всецелому несоблюдению правил гэбэшной игры, Б.Б. задал им работу.
Начать с того, что, проведя обыски в квартире и на даче, а также по еще трем намеченным по результатам слежки адресам и наскоро тех, кто по этим адресам проживал, пугнув и испуганных допросив, КГБ получил материал не, как было запланировано, на месяцы, а на годы следствия, и не на пять-десять лет срока для обвиняемого, а на хорошую сотню. И это только на первый взгляд, да и то глупца, могло показаться удачей, подвигом и доказательством того, что в Большом доме недаром хлеб едят, а было именно что провалом и доказательством худших, пусть и
клеветнических, подозрений на «перерождение в раковую опухоль» некогда отборных чекистских тканей народного организма. Поимка такой большой рыбы вела ни в коем случае не к звездочкам на погонах и орденам, а к вопросу «где вы были, пока рыба росла и, выросши, жировала?», заключающему в себе, увы, катастрофический и ответ.
Трое обысканных и допрошенных были: учительница французского, у которой Б.Б. брал уроки еще в отроческом возрасте, а сейчас прятал книги «Посева» и ИМКА-Пресс, предназначенные на продажу; специалист по русскому авангарду, в частности, публикатор и обэриутов, но и насчет купить-продать книжку, лубок, балалайку не промах; и один из тех двух «злых мальчиков», учеников Фридриха, который не эмигрировал, а занялся сложным разменом квартир и, незадолго до того въехав в пятикомнатную на Петроградской, стал одну из комнат сдавать нуждающемуся в складе Б.Б. Учительнице было под восемьдесят, брат ее уже умер, и то ли после его смерти, то ли войдя в возраст, она перестала бояться — соседей, разоблачения, ареста, жизни, всего. На большую часть вопросов следователя она отвечала трассированным
мэрд и совершенно неожиданным
фак-ю, по-видимому усвоенным от брата.
Авангардист, лет пятидесяти, воспитанный в лучших диссидентских традициях, поначалу вел себя, как гологрудая женщина Делакруа на баррикадах, отвечал вызывающе или вызывающе молчал, готовый умереть. Но ему дали понять, что от его ареста — увы, вполне возможного из-за содействия арестованному Б. Б. — не так пострадает он лично, как отечественная наука, искусствоведение, публикации. Тогда он свою позицию в этом свете пересмотрел и рассказал про Б.Б., чего и тот уже не помнил, и сам он был уверен, что забыл.
Фридрихов ученик принадлежал к семье, и до революции известной — в ту пору дворянским свободомыслием, и при советской власти — особым служивым глубокомыслием: дед был поэтом акмеистом, потом прозаиком-соцреалистом, отец — профессором политэкономии, а из семи детей трое пошли в писатели, один — в инструктора райкома партии по культуре, одна — в депутаты райсовета, одна — в художественные чтицы, и один, а именно наш, на телевидение, журналистом «на острые темы». Передачи его в эфир не выходили, по причине, как он объяснял,
зажима', их, как он объяснял,
клали на полку. Если какую и не клали, то она неожиданно оказывалась такой верноподданнической, что нельзя было поверить глазам и ушам, и полегче становилось, только когда он объяснял, что он имел в виду, на что намекал, что под чем прятал и чем ради чего поступался. Но на допросе объяснял не он, а ему, в частности, что вот по линии квартирообмена не все в порядке: вот старушку он сдал в приют для умственно отсталых, а обследование показало, что она ни в коей степени не ку-ку; и еще одну нашли мертвой во дворе через неделю после подписания нужной ему бумаги — это не говоря о многочисленных зафиксированных случаях подкупа или попыток подкупа им должностных лиц. И его арест бросил бы тень и на славное имя деда, лауреата Сталинских и Ленинских премий, и на всю известную в нашей стране семью, а тут и так скандал с тоже очень уважаемой семьей, отпрыск которой, ваш близкий друг, годами приносил нашей стране вред.
И близкий друг
выявленного органами Б.Б. (и преданный ученик его зятя) немедленно вывалил не только то, что знал, но и что угадывал: тайные его мысли, зреющие замыслы и психологические мотивы преступлений.
КГБ — что та группа, которая непосредственно вела дело, что ее начальство, что начальство начальства, воспринимавшее подводные вихри лишь в виде поднимающихся наверх колебаний, однако весьма чутко, — в первый же день решил весь богатейший доставшийся ему улов утопить, оставив в своем садке единственную, уже безвкусную, зато привычную бельдюгу: антисоветская пропаганда и агитация, статья семидесятая. Договорились они об этом как-то мгновенно, и не словами, а звуками, почти утробными, и еще более гримасами, адекватно передающими эти звуки. Кухня развела огонь, под бельдюгу подвели сачок, стали перед тем как вытащить, им поигрывать, но ощущая при этом легкое возбуждение, легкую взволнованность. Б.Б. внушал им бессознательное уважение: разворотом бизнеса, энергичностью, с какой его вел, бесстрашием, чтобы не сказать: безоглядностью, наконец умом, образованностью, принадлежностью к недоступному им интеллектуальному слою жизни. Какая-никакая его и его отца заметность и как-никак скандал в столь благородном семействе пошли на обертку — достойную содержимого и безотносительно привлекательную.
Привезенный в тюрьму на Шпалерную и помещенный в камеру-одиночку, хотя и рассчитанную на двоих, Б.Б. испытывал, помимо облегчения, известного всем, долго находившимся под слежкой, под давлением, то есть в изматывающем нервы
процессе, — а теперь этот процесс, пусть таким образом, но все-таки разрешился, — еще и чувство передышки, причем неизмеримо более масштабной, чем следовало из конкретного сюжета. Сюжет так или иначе двигался, Б.Б. в голову не приходило сбрасывать скорость движения: напротив, теперь, лишившись возможности распыляться, тратиться на множество побочных линий, он сконцентрировал на нем все силы. Но главное-заключалось в том, что наконец-то он был свободен от необходимости оглядываться на других и приноравливать свои реакции к общепринятым. Здесь общепринятыми были реакции и свойства, столь же далекие от человеческих, что и его, — да нет, много дальше, чем его! Его, — как соки желудком, работающим независимо от организма и потребляемой пищи, производились и поглощались в нерегулируемых и неконтролируемых количествах его
собственным, то есть все-таки человеческим, эго, а их —
идеей, да еще и не усвоенной, а заученной наизусть. Да и идея-то была — уничтожения: иначе говоря, если называть вещи своими словами, —
антиидея.
Наконец он попал в силовое поле, законы которого в такой степени противоречили естественным, что самым — а лучше сказать: единственным — естественным предметом в нем оказался он. Например, справившись у следователя, как долго будет продолжаться следствие, и услышав: «От вас зависит», — он попросил доставить ему в камеру из ленинградской Публичной библиотеки, а по межбиблиотечному фонду из Ленинки и Библиотеки иностранной литературы, книги по списку, общим счетом под сто, пишущую машинку, две пачки финской бумаги, пачку копирки, халат, теплые домашние тапки и теплый легкий плед. Ему отказали во всем, но через своих человечков пустили об этом на волю слух, и самые разные люди, начиная с того великого филолога и лингвиста, на чьем дне рождения он почувствовал разочарование в элите и обществе, рассказывали друг другу, что Б.Б. в синем шелковом халате с кистями и персидских шлепанцах с загнутыми носами коротает время за чтением Пруста в вольтеровском кресле, которое вместе с электрическим камином перевез из его кабинета на Шпалерную папин шофер.
То были декадентские дни КГБ. Кровь уже не волновала ноздри, язык и слизистая рта потеряли вкус к мясному, конвейеры мясокомбинатов давно стояли, холодильники Гулага пустовали: три-четыре сотни политических, смешно.
Органы объелись
сроками, новеньких стали сбрасывать в бассейн к пираньям, вгрызавшимся в мозги и гениталии. Новеньких готовили к телевизионным и газетным раскаяниям, конечно, не бог весть как изысканно, но все же изощренней, чем сразу карцер, «столыпин», этап, барак. Карцер, «столыпин», этап, барак совались под нос как альтернатива телевизору: вот и думай. Вот и подумайте, уважаемый Б.Б., ступайте обратно в камеру и крепко подумайте. А тем временем через человечков запускался слух, что Б.Б. снимается в многосерийном фильме против диссидентов. А мы и не сомневались. А мы и всегда думали, что он —
их, и вот тот мне прямо говорил, и вон этот, и, говорят, от самого Бродского многие слышали. Да вы сами посудите: столько лет открыто принимать иностранцев, неизвестно на какие деньги покупать «Жигули», и прочее, и тому подобное — и чтобы не быть
их\ Так не стесняться в выражениях насчет режима, при людях — это, по-вашему, не провокация? Не смешите меня.
Между тем следователь предложил Б.Б. выбрать «чистосердечное и публичное раскаяние» раз, другой — Б.Б. осведомился, каковы условия и гарантии, сказал, что взвесит, потом — что взвешивает. В общей сложности прошло уже два месяца, ему в камеру подсадили паренька проверить настроения. Паренек зашептал, что он армянин, взят как валютчик, но материала для обвинения оказалось недостаточно, а скорее всего дали кому надо сколько надо, а еще скорее и то и другое, и завтра его выпускают. Так что, если хочет, Б. Б. может передать с ним на волю письмо. Б.Б. глядел на него, разминая между пальцами оставшийся с обеда хлебный мякиш, и прикидывал, насколько ему, Б.Б., может стать хуже от такого письма, когда оно попадет к следователю. Так — семь и пять, и эдак — семь и пять, больше не дадут, а ничтожненькая вероятность, что письмо дойдет до матери, все-таки была — как с шофером, братом шофера, который возил директора издательства, а всего-то потерей полста червонцев, — и он согласился. Мелко-мелко исписал десяток блокнотных страничек: какую фразу мама должна сказать тому, какую передать этому, как ответить по телефону, если позвонят из Англии, из Штатов. Мать была единственной, кто знал о его делах столько, сколько ему нужно было, чтобы она знала: она мертвела от страха, когда он вводил ее в курс разных своих предприятий, но обожала его безгранично, еще с детства, когда он был так слаб и болезнен, а теперь остался у нее один, — и принимала все безоговорочно. И вообще, мать была у Б.Б.
единственной — ни одного друга, ни одной возлюбленной. Время от времени он употреблял эти понятия, применял их к кому-то, но тоже только чтобы походить на других, тех, у кого друзья и возлюбленные были… Он отдал письмо
наседке, тот отнес его
куму.
С этого времени следствие покатилось рутинно, бесконечно, с наработанными и уже не работающими приемами, с ночными допросами и неделями без допросов, с карцерами и конфискацией передач из дому. Б.Б. воспринимал это как новые условия жизни, увы, крайне неприятные, однако отнюдь не его прежней жизнью вызванные, — или, если угодно, как условия новой игры, тупой и заведомо проигрышной, но требующей его участия. На допросах он отрицал вещи явные, но юридически недоказуемые, например, что присылаемых ему с Запада книг не читал, не давал и не продавал, а держал для растопки печей на даче. С тюремной пищей обращался очень лично, дифференцированно и деликатно: что нужно — приводил в состояние хемуса, что не нужно, не переваривая извергал, грубой — закалял сосочки пищеварительного тракта, нежной — обволакивал и смазывал его ткани. Восточной гимнастике отдавал теперь гораздо больше времени, гораздо дольше и чаще стоял на голове, и когда однажды в такой момент вошел дежурный по этажу офицер и рявкнул «встать», он ответил, не повышая голоса: «Я стою», — и потом объяснил объявившему карцер старшему офицеру, что в тюремном уставе не сказано, каким именно вставанием надо встречать посещающее камеру начальство.
Когда следователи пробовали пугнуть его разоблачением грандиозных, тянущих, пожалуй, что и на расстрел, спекуляций, он вину, естественно, отрицал, и можно было бы сказать: «как вся эта публика», — если бы он не отрицал так нагло. Быстро сообразив, что на суд они это не выволокут, говорил о предмете безбоязненно и вчистую отвергал юридическую правомерность относить к его деятельности само понятие вины. Да, торговля, не спекуляция, а торговля, потому что торговля это и есть купить шелк в Китае дешевле, чтобы продать в Италии дороже, и получаемая на этом прибыль более чем заслужена преодолением Великого шелкового пути, полного тягот и смертельной опасности. Но вы нарушали монополию Министерства внешней торго… Министерство имеет монополию на продажу
товара, а «Взорваль» и «Фантастический кабачок», вынутые мной из предназначенной на сожжение кучи в книжном складе в Тбилиси, являться таковым никак не могут.
То, что Б.Б. думал о человечестве как о собрании содействующих или противодействующих его намерениям предметов, таких, например, как альпеншток, на который удобно опираться, взбираясь в гору, но зато неудобно везти в поезде и автобусе до подножия горы, он распространил на людей из КГБ, наконец-то без оглядок и оговорок. За стенами Большого дома человек-альпеншток имел затруднительную для Б.Б. склонность не подходить по росту, по весу, по крепости, мог, скользнув на ровном месте, и в лоб влепить. Да мог и привлечь интерес — резьбой ручки, необычной конструкцией. Да и не альпеншток он только был, а и луг, скала, ущелье, вершина, древко флага, на нее водружаемого, и пейзаж, с нее и по мере восхождения открывающийся. Здесь же его окружал набор городошных бит, предназначенных вышибать с одного-двух ударов ваньку-в-окошке. Здесь мера человеческих свойств: энергичности, сочувствия, презрительности, настойчивости, всех — была не нужна: непримени-тельны были сами свойства. Он и обращался с этим народом, как с битами.
И проверенная десятилетиями — а расширительно понимаемая, так и веками, — кагэбэшная экзистенция, несокрушимо бесчеловечная, стала разбиваться об его несокрушимую бескачественность. Команда, работавшая с ним, очень скоро впала в разочарование и, как следствие, в обычную свою неприязнь и грубость. По-канцелярски тупо, без интереса сляпано было дело и передано в суд: для всего этого не требовался Б.Б. с его нестандартным и для них недосягаемо сложным миром, редкими знаниями и острым интеллектом — сошел бы и любой другой.
Но мало того, что он сделался образцом человеческого в пространстве бесчеловечного, его арест постепенно и ни из чего не следуя, — так что даже не хотелось верить тому, что сперва только стало казаться, а потом понемногу уже лезть в глаза, — переменил освещенность пространства, в котором продолжал находиться круг людей, оставшийся без него, — все мы, если сказать честнее. Как черное и белое на недодержанном стеклянном диапозитиве под определенным углом падения света вдруг меняется местами, весь прежний порядок и содержание отношений, равно как и наполнение отдельных фигур и позиций, перешли в негатив. Да добро бы в четкий, насыщенный, чернобелый, а то тоже в недодержанный, желтовато-серый. Уже вызывали по пять человек в день свидетелей, и по манере и направленности допроса невооруженным глазом было видно, куда дело клонится. Но что вызванные, что ожидающие вызова продолжали обсуждать халат, тапочки и пишущую машинку — обсуждать, естественно, с неодобрением, фыркая, продолжая намекать на сотрудничество с
органами и тем самым давая понять, как это неприемлемо для них, как непоколебимо твердо вели бы себя они.
По всему он был один из них — хорошо, опять поправлюсь: из нас, — по принадлежности к кругу академическому и кругу компанейскому, по образованности, знаниям, успеху, перспективам, по библиотеке и гардеробу, по благополучию, по квартире, даче, автомобилю, по степени самоутверждения. Если бы он был, как Гарик Суперфин, из бедной семьи, из коммуналки, с университетской, а то и школьной поры стоявший под углом к общему течению, выпадавший из либеральноинтеллектуального истеблишмента, — пожалуйста… нет, все-таки не пожалуйста, а: так и быть, иди в диссиденты. Но Б.Б. не имел никакого права так себя вести, чтобы быть арестованным, — вот что всем хотелось сказать. Это было не его личное дело, он был кирпичом в общей постройке, и теперь в ней зияла дыра, не только уродовавшая архитектуру, но и поселявшая сомнение насчет качества всех кирпичей. Тень ложилась на весь академический круг, на всю компанию, на все достижения, и библиотеки, и квартиры.
В самом конце лета под окнами наймановской латвийской дачи появился один из главных кяарик-цев (книжки «Семиотикэ» помните? эстонское-то shmeiwtikh, семинары-то те?). Он волок за руль велосипед, к багажнику была приторочена корзинка, закрытая на случай дождя полиэтиленом. Он был возбужден, Найман увел его на пляж: в доме хворали дети и шли предотъездные сборы. В корзинке находилось письмо от другого кяарикца, не менее главного, который месяц назад эмигрировал в Израиль. Час назад письмо побывало на просмотре у
самого главного, который отдыхал на курорте километрах в двадцати отсюда, — для членов ордена это был не крюк. Сняли полиэтилен, вынули наплечную кожаную сумку, из нее пластиковую, из нее полотенце, развернули, там лежал конверт. Уехавший писал, что килограмм апельсинов стоит столько-то лир и столько-то агарот, килограмм мяса — столько-то, квартира — столько-то… Автобус по городу, автобус в другой город… Кинза… Джинсовый костюм… Яблоки, персики, гранаты… Лук, картофель, перец, лук сладкий, чеснок, морковь, огурцы, редька… Лир, агарот, столько-то лир, столько-то агарот… Найман вспомнил, что у него в огороде за одну неделю перезрела редиска, стала деревянной. И салат — весь ушел в стебель. И вообще, ни разу в жизни не получилось у него хорошего огорода… «Зарплата в университете пока полторы тысячи лир, но обещают заведование кафедрой», — прочитал гость. «А агарот сколько? — спросил Найман серьезно. — То есть я хотел спросить, сколько в лире агарот».
Вот это вот и повредил, и попортил им, им-нам, Б.Б.: интересную насыщенную жизнь, сложившуюся и способную перемениться, с переездами, с новыми условиями, с зарплатой, валютой. О, бесспорно, жизнь была несовершенна, а время от времени и просто нехороша, тяжела, горька, но тяжестью посильной и даже укрепляющей мышцы, горечью миндаля в именинном торте. Недовольство обстоятельствами, уровнем, режимом лишний раз утверждало, что жить надо хорошо, лучше, еще лучше, делать небесчестную карьеру, эмигрировать, если здесь не идет, завоевывать место, имя — и… и, стало быть, умирать хорошо — а как?.. Ну, достойно, после юбилея, глядя на полки книг, среди которых корешки и твоих, при враче, считающем пульс. А получалось, что возможно и как Б.Б. — в лагере. Того хуже: по самой логике выходило, что в лагере-то и достойнее, что
умирать в лагере лучше. Опять Б.Б. лез в душу, опять заставлял собой заниматься, на этот раз отобрав само право выбора: заниматься или нет, — а: пришла зима, надевай, волк, шубу. Волк, понимаете? Это про нас-то: про меня, про творческую интеллигенцию, про любую светлую личность.
И еще сильнее его невзлюбили, уже с какой-то страстью, чуть ли не с яростью. А тут как раз следователь, допрашивавший по пятерке в день, умный, начитанный, с мужественной внешностью, с ухоженными руками, каждому задавал вопрос: как вы лично к нему относитесь? И пошло: с неприязнью; неприязненно; никогда не любил; всегда чуждался; едва терпел. Зощенковед, тот явился на допрос со своим отзывом на диссертацию Б.Б. и зачитал абзац о «недостатке определенности в этической позиции диссертанта относительно эстетической позиции обэриутов», попросил включить эти слова в протокол и, просматривая его перед тем как подписать, подчеркнул их волнистой чертой, а на полях вставил: «курсив наш». И, понятно, после таких признаний, искренних и объективных, в особенности же потому что людям уважаемым и с обостренным чувством собственного достоинства пришлось демонстрировать свою искренность и объективность перед пусть высокопрофессиональным и непредвзятым и явно
интеллигентным, но следователем
кагэбэ, они Б.Б., если говорить как на духу, в той или другой степени, в общем, возненавидели.
Под конец следствия ему всё это дали прочесть. Только четверо, сказал он мне через несколько лет, отозвались с симпатией: вы, Алла, Найман и еще один человек. Я, помнится, гнул линию князя Ливена, который, спрошенный царем о поведении арестованного Полежаева, отвечал — при том, что услышал его имя впервые: «Превосходнейшего». В характеристике, которую дала Алла, было слово «благородство». До суда его оставили в покое, и за этот месяц он написал несколько, если пользоваться его собственными словами, «этюдов в стихах и прозе». Когда он вернулся из лагеря, ему эти листочки вернули: стихи были
холодные, почти ледяные, однако про чувство, понимаемое им как любовь, и потому сладковатые, — все вместе наводило на мысль об эскимо. Над каждым стояло посвящение «А.». А вот того же градуса проза оказалась точной, легкой и острой, как только что выпавший, с ясно различаемыми снежинками снег.
И особенно трогал этюд, вполне академический, о куртуазном льстеце.
То есть, по сути, антикуртуазном, затрудняющем, а то и разрушающем любовь. Само слово «льстец» в романо-германском лексиконе располагалось между «хвалителем» и «лжецом». Так сказать, хвала — лгала. Одно из юридических значений «хвалы» было «плата за согласие сеньора на отчуждение ленного владения».
Владелец соглашался на потерю собственности, и за это его «хвалили». Следующей ступенью лицемерия была лесть — которая почти не скрывала, что она формальность. Лесть перетекала в ложь, ложь в прямую клевету. Ложь содержалась в лести, и обе — в хвале, каковая, тем самым, оказывалась клеветой. Льстец преследовал не правду, а ее видимость — сплетню. Его предназначение — низвести совершенную любовь на уровень чувственной, отравить высшую незаинтересованность возлюбленного ревностью, уничтожить любовную тайну доносом. Когда я и Дама поцеловались, пишет Арнаут Даниэль, она заслонила нас своим синим плащом, так что льстец не видел нас и не мог своим источающим желчь языком донести на нас. Клеветник держит влюбленных в напряжении, отдаляет куртуазную любовь от осуществления и, стало быть, работает на любовь. Как рыба не живет без воды, нет любви без клеветников — вдохновлял любовников Пейре Видаль. Хвала клевете
(hvala hlevete), возносите доносчика, lauzar lauzengier!.. Этюд также был посвящен А.
Арнаут Даниэль и Пейре Видаль продолжали находиться на территории Миши Мейлаха, он один там пахал и снимал урожай и отлавливал нарушителей, но теперь Б.Б. было на это наплевать. Не круг людей и не какая-то корпорация, но все человечество вытолкнуло его из себя, выжало, и, как он теперь понимал, не потому только, что так ему было свыше на роду написано, а потому что это оно, исходя из своих обычаев и законов, определило его как выродка. Что ж, поживем отдельно: вы — со своими провансальскими трубадурами, скажем, Мейлаховыми, я — с ними же, но своими. И вообще, прощайте — ухожу на ту сторону фотографической пластинки: там, где вы — позитив, я — негатив, но если я еще где-то позитив, то негатив — вы.
И вот его привели в зал суда и в первый день нагнали туда пэтэушников совместно с ветеранами, чтобы противостояли провокациям, буде таковые учинят его дружки, и вход был по пропускам, чтобы иностранные корреспонденты не проникли. Но
никто не пришел, то есть буквально ни один знакомый, ни один корреспондент, только мать, отец и Феня. Я, видите ли, слег с гриппом в постель, Найману подошел срок сдавать перевод «Семи мудрецов», у Аллы была в Баку конференция. Так что назавтра освободили уже и «публику», и дело слушалось в самой маленькой комнате, да и та выглядела пустой. Число свидетелей свели до минимума: авангардист, к этому времени прошедший весь путь от угрызений совести до крайней враждебности к Б.Б., из-за которого само текстологическое изучение обэриутов оказалось под угрозой запрета; Фридрихов ученик благородной фамилии, которому предложили место собкора ленинградского телевидения в Болгарии, и он днями должен был туда отправиться; и никому не известный коротко стриженный эстонец. Эстонец сообщил, что год назад в Таллине, на улице, около него остановился в машине Б.Б. и спросил, не может ли тот помочь ему с ночлегом, потому что в гостиницах мест нет, и тот устроил его у себя, а наутро Б.Б., уезжая, записал его телефон и оставил свой ленинградский с приглашением заезжать, каковым он не воспользовался, поскольку вскоре был арестован и приговорен к трем годам лагерей. Как гомосексуалист. Прокурор на это сказал: «У меня вопросов нет», — а когда адвокат спросил, какое отношение этот свидетель имеет к делу, эстонец ответил: «Никакого», — но с сарказмом, означавшим: «А вы как думаете?» Всех трех вызвало обвинение, свидетелей защиты попросту не нашлось.
А что, собственно, можно было сказать в защиту Б.Б.? Получал он запрещенные книги, прятал, продавал или хотя бы давал читать? Да, да и да.
И на слушание являться, пусть только ради «моральной» поддержки Б. Б., даже если бы и не было у меня температуры, а у Наймана дел в издательстве, — с какой, вообще говоря, стати? Наш приход в суд демонстрировал бы — и суду, и Б.Б. — близость между нами, которой не существовало. Не вовсе безразличный, разумеется, человек, но и никак не друг, не свой. Правду сказать, чужой.
Ему дали ожидавшиеся семь и пять: семь лет лагерей и пять последующей ссылки. И уплыл: Пермская область, Чусовской район. Что называется: исчез с горизонта. Ну что ж, бывает. И, руку на сердце положа, вот уж действительно сам виноват. Целиком сам, и все ему об этом говорили, так что никто себя и упрекнуть не может. А только все равно: как-то стало — и все, кто его знал и не любил, больше или меньше это ощущали, и чем дальше, тем больше — неуютно. Всем он всю жизнь не нравился, раздражал, возмущал, все, кто знал, живо не любили его… А чего, собственно, было так не любить, чем возмущаться-то? Ну, умер человек, и не освобождение же от его эгоизма, и непрошеных телефонных звонков, и назойливых просьб, и поедания травы с оливковым маслом мы получили, а все-таки утрату, утрату. Ну, не позвонит он больше, когда ты хочешь книжку читать или болтать с кем-то другим, не попросит тебя купить и захватить с собой из Москвы в Ленинград пять пачек «геркулеса», не зажует среди ночи под окном свой салат — и что, лучше тебе, спокойнее, интереснее, веселей? Лучше тебе, что отныне вокруг только те, у которых реакции, адекватные реальности, и свойства, соразмерные твоим? Он любить не умел, просто не знал, что такое любовь, но зато не знал, и что такое нелюбовь, а теперь оставайся-ка в пространстве «минус Б.Б.», подыши-ка любовью, которая, по сути-то, всего лишь не нелюбовь, не-нелюбовь, и больше ничего. А может, и все остальные свойства и качества, человеческие, хваленые, — не-немужество, не-нещедрость, не-бездарность.
К тому же он не умер, и сожаления по поводу утраты еще можно было ему выразить, а не выражая, только чувствовать себя еще неуютней. Я взял у матери адрес и стал ему писать, первого и пятнадцатого каждого месяца, и Найман стал писать, пятого и двадцатого, и с номер десять моего и номер двенадцать Наймана наши письма до него стали доходить. Он начал отвечать нам в письмах матери, она мне звонила, я заезжал и получал, что касалось нас, уже перепечатанным ею на машинке. Теперь она занималась только им: посылки раз в два месяца, которые возвращались, потому что по правилам было раз в полгода, но она все равно посылала; каждые пять дней письмо; адвокат, апелляция, поручения от него, которые ей удавалось вычитать между строк. А еще раз в десять дней она писала Нике, от которой тем временем ушел Фридрих и которая тоже кому-то писала насчет Б.Б., звонила, сбивала комитет в его защиту.
Однажды в феврале мать мне позвонила сказать, что попала в больницу, сердечная недостаточность, и что очередное письмо от Б.Б. я могу прочесть у отца. Я пришел на Фонтанку, и вдруг в первый раз квартира показалась мне словно бы ободранной. Не только потому, что потолки немного потемнели, и стекла пора было помыть, и картина с затонувшей лодкой вылезла сверху из рамы, да и пол хорошо бы подмести (и тут я узнал, что и Феня в больнице, воспаление легких), а потому, что пахло жареной рыбой, батареи едва грели, и когда я вслед за отцом вошел в гостиную, там сидела за столом перед пишущей машинкой женщина, ни молодая ни пожилая, ни хорошенькая ни уродливая, худая, с улыбочкой на тонких губах, и как ее волосы непроизвольно ассоциировались с шампунем, а белый свитер со стиральным порошком, так и вся она — с побелкой и ремонтом, которые довели бы ее до женской кондиции. Отец, так же, как она, улыбаясь, представил ее «моя секретарша и помощница». Она застучала на машинке — как оказалось, оканчивая для меня перепечатку нашей с Найманом порции письма Б.Б.
Потом мы выпили чаю с печеньем. Отец был в игривом настроении, любезничал с ней, вовлекал в болтовню меня. Вдвоем они вышли в прихожую проводить меня, и тут, когда мы уже попрощались и я произнес проходное: «Дайте мне знать, если будут какие-то новости», — он сказал: «Я могу вам дать знать уже сейчас. Мы с женой умрем, квартиру и дачу заберет государство, а он, если выйдет живым, отправится в возрасте пятидесяти двух-трех лет к сестре, которая сейчас живет с малолетним сыном на пособие по бедности». И вдруг добавил: «Вы думаете, я советский монстр, пес, у меня нет души и я проклинаю моего сына за крах собственной жизни. И вы совершенно правы: я тот самый монстр и пес, и я ему того, что он со мной сделал, не прощу.
И того, как он меня трактовал и со мной обращался, тоже. Того, что по всей квартире и по всей даче он оставлял на полу недопитые чашки с водой, которую он, видите ли, должен был постоянно хлебать для здоровья, и я на них наступал, опрокидывал, разбивал… По душа у меня, представьте себе, есть, и я готов поступиться всем, всеми оставшимися желаниями и амбициями, всем оставшимся во мне достоинством, только бы он сейчас хлюпал здесь водой и ставил чашки куда попало». Он круто развернулся и, семеня ногами, стремительно ушел в глубь квартиры.
Уже в том письме, в котором Б.Б. впервые подтверждал получение наших с Найманом писем, он передал нам привет «от племянника Б.Б.». Легкость, с которой мы разрешили путаницу первого плана, привела к невнимательности, которая породила путаницу второго. Б.Б., кроме его самого, была еще Берта Борисовна, мать моего и многих других друга Полякова, ленинградская светская львица 30-40-х годов, в наше время ежевечерне садившаяся на час-другой к роскошному трюмо, чтобы, как она каждый раз приговаривала, «привести себя в порядок» — перед игрой в карты, назначавшейся то у одних, то у других знаменитых стариков и старух. Она зарабатывала, и неплохо, изготовлением абажуров из вощеной бумаги, и несколько раз мы с Поляковым в полночь бежали по Невскому на Московский вокзал с ее метровым или полутораметровым в диаметре, похожим на гигантский не то тюрбан, не то корону, абажуром, чтобы успеть к «Красной стреле», где его ждал столичный заказчик. У Полякова был племянник лет шестнадцати, к нам, старшим, тянувшийся, и Поляков использовал его для разных мелких услуг — в частности, старался на него переложить доставку абажуров. Естественно, он нам с Найманом и запомнился как «племянник», мы решили, что и его
повязали — почему-то сошлись на том, что по валютной линии: была в нем этакая предприимчивость, — и передали привет обратно, сострадательный и нежный. Но племянник был Берты, Лев, — это выяснилось позже, когда по «Свободе» передавали имена политзаключенных. Тот самый, в доме которого впоследствии, под холодную водку и малосольного лосося, экономист желал отправить меня в платоновскую ссылку для поэтов.
В том, что перепечатала для меня «секретарша и помощница», Б.Б. писал, что просит прощения у Славинского, — чтобы я ему передал… Славинский эмигрировал в Англию и, когда уезжал, оставил свою переписку у первой жены, а Б.Б. наседал на него, чтобы он отдал ему, потому, дескать, что он, Б.Б., — историограф нашего поколения. Наседал, как всегда, без удержу, канюча и требуя даже тогда, когда из соображений тактики умнее было бы сделать перерыв. Наконец Славинский, к тому времени уже обогащенный опытом и характерной выразительностью
зоны, послал его на три, четыре и пять букв, отчего потом раскаивался. Теперь Б.Б. писал, что понял, что был не прав; что как хорошо, что Славинский на его «просьбу» не согласился; и что, вообще, оттуда, где он находится, невозможно придать значение, сколько-нибудь сопоставимое с тем, которое придается там, откуда он изъят, ни литературе, ни истории, ни, тем более, поколению. Что они разговаривали об этом с «племянником» и оба пришли к убеждению, что есть зона
воли и зона
зоны и зона
того света, и, как сказал Авраам богачу, «между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Более того, «племянник» уверен, что побывавший в зоне
зоны получает тайное знание о тех, кому предстоит там побывать, точно так же, как умерший знает, кому предстоит попасть в его зону
того света, И в таком случае Славинский поступил совершенно правильно, не отдав переписки ему, Б.Б., поскольку увидел на нем знак приближающейся посадки.
Я позвонил Найману в Москву, сказал, что мать Б.Б. в больнице и Феня; он сказал, что приедет. Мать лежала в академической, это на Выборгской, но ближе к окраине города. Пока туда ехали, Найман рассказал, как однажды Б.Б. попросил проводить его на аэродром. В очередном путешествии по Азии он подхватил желтуху, попал в больницу, и полгода после выписки ему запрещено было поднимать тяжести. Он летел домой через Москву и, несмотря на слабость, диету и полупостельный режим, не мог просто пересесть с ташкентского самолета на ленинградский, а сделал на несколько дней остановку, чтобы подтолкнуть уже запущенные издательские дела, устроить новые, повидать Харджиева и двух-трех старушек, а также, по-видимому, еще кого-то, о ком Найману не сообщал. Ко времени, к которому он условился по пути на аэродром заехать за Найманом, он опоздал, Найман глядел на него, как кобра, на Ленинградке они попали в пробку, и когда приехали в Шереметьево, самолет уже выруливал на взлет. Б.Б. показал справку из больницы и попросил задержать рейс, пока он не сядет. Он говорил тихим голосом и спокойным тоном человека, предлагающего дать ему место подальше от окна, чтобы не дуло. Очередным магическим образом это подействовало на контролершу, она связалась с пилотом, самолет остановился. К самолету поехал трап, к Б.Б. автобус. Контролерша велела открыть чемоданы — это было время первых угонов. Найман поволок чемоданы на стол, Б.Б. откинул крышку первого и, хмыкнув, проговорил — не то Найману, не то себе под нос: «Пикантно». Контролерша запустила руки под лежавшее сверху белье и рубашки и вытащила из-под них горсть камней. И пистолет. Б.Б. до такой степени не обратил на него внимания, его лицо так убедительно выражало, что ничего, на что следовало бы обратить внимание, не происходит, что контролерша, видимо, решила, что ей померещилось, и со словами «достаточно, закрывайте» опустила все обратно в чемодан. Б.Б. застегнул молнию, пробормотал Найману: «Не настоящий, стартовый; на всякий случай», — и тот потащил чемоданы в автобус. Б.Б. улетел. Найману пришло в голову, что Б. Б. со своим пистолетом заставит пилота посадить самолет в Рощине вблизи от дачи.
«И что? — кончил Найман рассказ. —
И кто теперь возит с собой пугач “на всякий случай”? Возят тезисы докладов в двух экземплярах. Кто ездит в Азию? Ездят на конференцию в Резекне Резекненского уезда. Тоска! И чем я таким замечательным был занят, чтобы так стервенеть на Б. Б. за то, что он меня отвлекает да еще заставляет таскать его тяжеленные камни? И сейчас — что я такое замечательное делаю вместо того, чтобы их таскать? Тоска, тоска. И ты видишь, его нет — и на него меньше человечество нами, нашими стишками и мыслишками интересуется. А “на него меньше” — это не на количество счет, а на существо. Так интересны, как ему, — так вещественно и житейски, обиходно, привычно — никому мы не интересны. И точно: нет его, и вся наша литература, история, поколение — не то чтобы их совсем нет, но ведь, согласись, подвяли, приуныли. И на кой мне переписка Славинского! Сентиментальный мусор. У Б.Б. не было собственных свойств, но потому не было и сентиментальности. Сентиментальность — камуфляж бесчеловечности. Он этим не занимался, и при нем мы все были милые, а он при нас — чудовище. А теперь мы — видел публикации этого самого диссидента-то, обэриутоведа, честнейшего малого-то, который все, что Б.Б. собрано и написано, просто перепечатал под своим именем, а о нем ни звука — потому что “оттуда к нам не переходят”, видел? вот это мы без него и есть. А если мысль до конца доводить, то мы без него, вообще-то, где? Те мы, которые при нем были такие симпатичные.
А? Без Б.Б., я имею в виду. Без бебе — бобо, без биби — бубу. Я имею в виду его машину — и этот автобус для перевозки божьих тварей, в котором мы сейчас трясемся. Без бебе мы — идыр, ипыр, ипроч, ипроч, ихыр, имыр, иму».
Больница отдавала египетской архитектурой. Не теми усеченными призмами и конусами, которые восторжествовали на Западе начиная с 70-х, у нас с 90-х, а глухотой доморощенных геометрических форм, недотягивающих до завершенности геометрических фигур, тяжестью стен, никак не переходящих в плоскость, углами, под которыми они пересекались между собой и с ними пересекались многоярусные крыши, гирляндами окошек, выглядевшими ненужным нарушением стиля этих недопирамид. Едва ли здесь можно было выздоравливать, но и умирать — едва ли. У матери Б.Б. была отдельная палата, она встретила нас, полулежа на постели, однако аккуратно причесанная, и сразу заговорила: «Когда меня сюда увозили, я сказала мужу про чашки. Ну и что, что чашки стояли на полу и везде. Что, тебе лучше сейчас, что они в буфете?.. А вы слышали, та датчанка, бывшая невеста, она мне пишет, она организовала комитет в его защиту, и ни одного к нему упрека… А помните, как вы оба приезжали к нам, когда Мироша Павлов ухаживал за Никой? — она улыбнулась, но буквально на миг. — Я вообще не понимаю, может быть, вы мне объясните, ну почему судьба обоих моих детей сложилась настолько против ожиданий. Скажите честно, вы могли когда-нибудь предположить, что Ника будет жить на пособие по бедности на другом конце земли, а он — в концентрационном лагере в Сибири? Разве
это было написано у них на роду? Мама Мироши Павлова — декан, борец за мир — и сам он физик-атомщик. Отец Паши — конферансье, мама — балетная, и сам он священнослужитель.
Да кого ни возьми. — Она запнулась. — Ну, вы, так сказать… поэты. Так ведь это же не противоестественно, что у инженера может быть сын поэт. Но откуда могут взяться в благополучнейшей профессорской семье дочь — бездомная нищая, а сын — арестант!»
Найман взял ее за руку. «Пожалуй что потому, — сказал он, — что они хотели быть не физиком-атомщиком и не батюшкой. Она хотела быть Никой, он… — Найман замялся, как она только что, но, справившись, произнес честно: — Б.Б. Особенно он, который был не в ладах с человеческими свойствами и потому не мог быть как другие, а только Б.Б. И в этом смысле — уж поверьте, я не жонглирую сейчас понятиями и уж никак не занимаюсь ободрением — оба они, как это для вас ни неприемлемо и ни больно, пожалуй что поэты. Не в нынешнем духе, а в духе Вийона, нищего и каторжника, хотя…» — «Ну, это через край, — перебила она, и на этот раз ее улыбка была искусственно-вежливой. — Звучит как чересчур поучительная мораль в конце слишком жестокой басни». — «И сентиментально, — прибавили, — чересчур, чересчур». — «…хотя, — Найман поцеловал ее в щеку и закончил прерванную фразу, — матери Вийона не легче от того, что сын поэт». (По мне, приторно — но, может быть, потому что я так не умею.)
От нее мы поехали в Куйбышевскую, к Фене. «Все-таки приторно», сказали. «А и иначе не умею, — отозвался он. — Ничего, ничего, вот посадят меня, будешь вспоминать: ах, как замечательно он тогда говорил, как замечательно сентиментально, как замечательно приторно!» Феня лежала в коридоре, у нее был жар. «Вроде помираю, — сказала она, — а может, еще и нет. Это уж как в книге у шишиги написано. Может, Паша-то, поп ваш, придет проведать, а? А чего про других ваших слыхать? Илья, половина зверья, значит, отошел, царство ему небесное. А Мироша, жених наш, к кому сейчас женихается? А Ося чего, все кричит? — Тут она понизила голос. — А чего Алка? Замужем или как была? Ой, как она его шпыняла, что молоко разливал. А мне подтереть было — полсекунды. И рубашку ему, Феня, не зашивайте. А чего мне еще-то делать? Вы мне скажите, какое у вас чувство, выпустят его живым или нет?» — «Должны», — сказал Найман. «И чего с ним тогда будет — без папаши-мамаши, без меня?» — «Это всё в книге у шишиги». Она помолчала, потом засмеялась беззубым ртом: «Вы пойдите-ка вон в конец коридора к окну, прочтите, что там написано».
Окно выходило на двор, заваленный всякой дрянью, жестяными кожухами, ржавыми ваннами. От следующего двора его отделял серый дощатый забор с черными потеками от моросящего дождя. Поперек забора синей краской буквами вкривь и вкось было написано: «Красотуля, с добрым утром!» Для кого-то, кто лежал в больнице и вышел или еще продолжает лежать.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Голос в телефоне сказал: «Германцев, ну, это я», — и я узнал Б.Б. Звонок телефона и трубка в моей руке
случились в первый раз за три года семь месяцев и двенадцать дней. Зима была — и прошла.
Три зимы, пусть так, — и я забыл о них. Первой вообще не было, пришлась на следствие, ни холода, ни пурги я не переносил, зато, правда, и самой зимы, зимы как таковой, в смысле «сколько зим, сколько лет!», метафизической, и в этом качестве столь же привлекательной, что и лето, тоже. Вторая была первой в зоне, в Перми, в Копальпе, все новое и на новенького, со всем надо знакомиться, узнавать и усваивать, а это — что зимой, что не зимой, то есть и она — как зима — не в счет. Холодно и темно, так ведь на то и зона.
Третья была настоящая: тяжелая, неизбывная, смертная. И за ней должна была быть как минимум еще одна, и еще одна, и еще шестая, и седьмая, и потом пять ссылочных, то есть без конца. Но третья оказалась последней, Горбачев выпустил, или, как ему удобнее было это назвать, помиловал, так что зима была — и прошла. Свелась к песне узника, которую я перевел чуть ли не в девятнадцать лет по тому случаю, что в руки попала антология испанской поэзии: темница, решетка, за ней голубое небо, и птичка прилетает на карниз и одну минуту поет. XVI век, анонимный автор, автор, стало быть, неизвестен.
Поэтому отвечать я не захотел. Даже звука не промычал. Он тоже помолчал, молчал долго, потом проговорил: «Почти всё позади. Я имею в виду, у меня. 14 почти всё — еще впереди. А у вас?» Я сказал: «Да, да. Звоните», — и повесил трубку. Через месяц или через три — время тогда шло не по календарю, а как хотело, — набрал его номер, он отозвался «алло» — с немыслимо искусственной интонацией то ли сумасшедшего на таблетках, то ли театральной, но и театра такого нет: «Ааалльоу», я спросил: «Как вы?» — и тут уже би не ответил, только жевал что-то, потом сказал «да», через минуту «нет»; потом «вероятно»; «кому как»; «однако». Раздались короткие гудки, я подумал, что «однако» — оговорка, что он хотел сказать «пока».
Я ему звонить не собирался, само вышло. Некому было звонить, ни по делам, которых ни одно меня на воле не ждало, ни тем более просто так, потому что
так — просто не бывает. Из зоны я Найману несколько раз писал чересчур возвышенно, до выспренности. Там можно так писать, да и, честно говоря, там иначе писать — труднее. Все обострено, все «в последний раз», все сосредоточено в том единственном, кому пишешь. А я по нему и скучал, по всему, что мы друг другу за жизнь наговорили, и в сто раз сильнее, почти болезненно, по всему, чего недоговорили. Ну и, конечно, благодарность, за то, что от него письма приходили. Я и с вокзала прямо к нему, как был, в бушлате притащился. Через несколько дней на том же подъеме привез ему свои старые дневнички — и вдогонку еще одно письмо накатал, совсем уже шиллеровское.
А потом вдруг, в одно какое-то мгновение, увидел ясно, каково это
здесь. Здесь, в другом, в совершенно другом ряду вещей. Там главное — так или не так? Если так, то это уже не соображение, а идея, то есть идея чистая, и чистая идеально, и тогда абсолютно все равно — возвышенная она, выспренняя, чересчур, не чересчур. В общем, там бушлат — всё, а здесь — хорошо если собаке подстилка. Или: там в бушлате — это ты, а здесь захочешь надеть —
претенциозно. Потому что что там —
так, здесь —
просто так, а ведь
так — просто не бывает. И в эту же минуту опротивел я себе, что не почувствовал, не сообразил этого там, и на Наймана озлился, что из-за него и перед ним, считая по-здешнему, этак расхристался. Звонить ему перестал, не мог, а никого больше и не было, да и никто был не нужен. Б.Б. же — меньше всех. И до — он, и после, и даже лагеря без него не вспомнишь: я в 36-м, а он уже тут как тут — в 35-м, в нашем же в Чусовском раздолье. Забыл бы его навеки и перекрестился — слава тебе господи! Но с утра садился я перед окном и уставлялся в него, снег во дворе грязный, лед черный. Однажды усмехнулся: в ушах раздалось, как хрустит тамошний кристальный. А ведь и Б.Б. по нему, пермскому, топал — как будто в глазах мелькнуло. Сидел же я: щекой на кулаке правой руки, локоть на подоконнике, а другая, оказывается, на телефоне лежала — и набрал его номер.
Немножко Б.Б., конечно, прикидывался, когда произносил слова невпопад и как будто наугад не то в трансе, не то в параличе, но, как позднее выяснилось, только немножко. У него в те дни умирал отец, и эта явственно и неодолимо надвигавшаяся смерть, не пробуждая особых, не знакомых ему прежде эмоций, вызвала в нем сокрушительный взрыв, неудержимый обвал мыслей, сметающих всю конструкцию установившихся за предыдущую жизнь представлений о мире, о целях, о деятельности, хотя зацепивших конкретно каждое из представлений лишь по касательной. Отец лежал в той же пирамидоподобной академической больнице на Выборгской стороне, где прежде мать, но все — и он в первую очередь — знали, что дело идет не о лечении, какие бы чародеи фараоновы за него ни брались, и даже не о госпитальной тишине и покое, а о привыкании к палате — отдельной, просторной, угрюмой — как к гробнице и сени смертной. Знание это никаким боком не касалось трагедии и прозрения толстовского Ивана Ильича, а принималось безотчетно, как прогноз погоды по радио.
Предынфарктное состояние началось, по-видимому, еще в Москве, но он настоял, чтобы перевезли в Ленинград, самолетом, и с аэродрома, не заезжая уже домой, отправился, как почему-то захотелось ему сказать, в «санитарной карете», сюда, на Мориса Тореза, а может, Пальмиро Тольятти, к стеклянным трубочкам, шприцам и резиновым шлангам. Здесь кардиограмма то показывала инфаркт, то не показывала, но и так все было ясно. Прибыл он в больницу по-прежнему как лицо важное, почти высшего академического ранга, и жена, ежедневно к полудню приезжавшая и в восемь вечера оставлявшая его на сиделку, которой специально платила, даже добилась того, чтобы от «почти» избавиться, но вскоре он уже не хорохорился. Не шутил, как в первый день с урологом: «На всякого мудреца довольно простаты», и с медсестрой, что хотел бы с той же легкостью попадать в столицу Австрии, как ее игла в его вену.
Б.Б. приезжал два-три раза в неделю, открывал пошире или, наоборот, прикрывал окно, спрашивал, что нужно — подать, помочь, и если что-то было нужно, звонил и являвшейся на вызов дежурной передавал просьбу отца как приказание. На третий, на пятый раз отец стал отвечать, что все в порядке, не нужно ничего, тогда Б.Б. садился на стул, доставал из сумки книгу и начинал читать, а чаще большой блокнот и писал кому-то письмо. Когда он уходил, в коридоре его каждый раз поджидал больной, старик из соседней палаты. Как выяснилось — трубач из ресторана Дома ученых, почему и попал в «академическую». Он выздоравливал после инсульта — от бесконечного дутья в духовой инструмент лопнул сосуд; приволакивал ногу, но речь была ясная. В первый день подошел к Б.Б., когда тот в вестибюле снимал больничные шлепанцы. Сказал, что знает, кто он такой, знает отца. Что самого его готовят к выписке, но он когда-то перевел квартиру на сына, а тот теперь его прогнал, и, следовательно, путь ему только в дом престарелых. И он очень просит, он умоляет Б.Б. не сдавать его туда.
Б.Б. сказал «да, да, непременно». В следующий раз тот жарким шепотом стал убеждать, чтобы Б.Б. не боялся: что он богат, ибо точно знает местонахождение подлинной моцартовской флейты и добудет ее «в три хода». Б.Б. скользил по нему невнимательным взглядом, а тот впивался в Б.Б. глазами, полными нежности и доверия. Он уверял, что флейта бесценна, что кузина императора, которая без памяти любила Моцарта, тайно заказала ее в Амстердаме, якобы серебряную в позолоте; но в конце войны он, трубач, попал в Лейпциг, в три хода вышел на одного ресторанного тапера, и тот поклялся ему, что флейта пропилена у раструба насквозь и нигде нет серебра, сплошное золото. Раз от разу в его глазах появлялось все больше нежности, все больше лжи и все больше боли.
Однажды отец улыбнулся жалкой улыбкой волка, попавшего вместо овчарни на псарню, и сказал, что хочет, чтобы Б.Б. знал, почему он заболел. Что когда Б.Б. вернулся из лагеря, он, отец, тотчас почувствовал себя свободным ото всех в жизни обязательств, не только отцовских, а и супружеских, которые давно свелись к чисто внешней, без усилий дававшейся ему доброжелательности и привычной уважительности к матери Б.Б.; и профессиональных, требующих минимального труда; и бытовых, под которыми он имеет в виду пользование спальней, уборной и услугами домработницы Фени. Как это получилось, он, как последовательно объяснить, не знал, но Б.Б. выпустили — против несокрушимой уверенности, что этого не может быть, против всех расчетов и практических мер по сохранению имущества, и это перевернуло не только логику этой уверенности, эти расчеты и меры, но и вообще логику как таковую. Он поехал в Москву и на имя той своей помощницы и секретарши, которая во время длительной болезни и длительного выздоровления матери занималась его делами и хозяйством, а заодно и перепиской с Б.Б., купил маленькую кооперативную квартиру.
На новоселье она пригласила нескольких подруг, чтобы ему покрасоваться и понежиться «под сенью девушек в цвету», как он называл свой невинный флирт, состоявший из все того же остроумия, проникновенно подчеркиваемого спонтанным возлаганием руки на плечо или кисть собеседницы. Цветущим яблоням было сорок и за, но одна вызвала в нем живейший интерес. Хозяйка предупредила, что она дочь героя Гражданской войны, не то Щорса, не то Буденного. У нее были свободные манеры и миловидность, близкая к красоте, свойственная целой породе, произошедшей от брака казачьих командиров и волооких евреек из местечек, через которые в войну на рысях и шагом шла революционная кавалерия. На прямой вопрос отца Б.Б., чья же она все-таки дочь, девушка сказала, что сама не знает, но надеется, что не Щорса, ибо Щорс — это аббревиатура «щастье организованных рабочих и сельчан», и черт с ним. Стало быть, Буденная, убежденно сказал отец. Она ответила, что скорее
«может быть», чем
«стало».
Странное возбуждение испытывал он. Огромные карикатурные усы полководца, закрепленные советским изобразительным каноном, едкий дух пота, лошадиного, а еще сильнее собственного, солдатского, которым шибало даже от его казенного портрета, вывешиваемого на праздник, были преображены в нежный овал лица, чистую кожу, припухлый рот — элементарным грамматическим переводом прилагательного из мужского рода в женский, обольстительно капитулирующим окончанием «-ая» заместо тупого насильнического «-ый». Буденная — пробужденная вешним утром, ветерок играет прозрачной занавеской; и Буденный — придаток конский, весь встрепанный, сам не спит и никому не дает, хрен буденый. Но в то же время она, эта хрупкая птица и ангел, была не только его невытаптываемым, жестокожильным, репьёвым семенем, а и самой «конной Буденной», легендарной, тысячеголовой и безликой. Даже только смотреть на нее как на женщину, только прикасаться к ее плечу якобы в порыве запростецко-сти, якобы ради убедительности речи, электризовало нервы уколами, исходившими от смертельного и похотливого заряда той человекообразной кентавроподобной лавы.
Буденная, или Щорс, или Котовская, или Ворошилова, пусть хоть их троюродное племя, он пригласил ее в ресторан. Уже новоселье, сказал Б.Б. отец, было ошибкой. В его возрасте бывает только одно новоселье. Сама мысль о чем-то новом в конце жизни позорна. Он опять улыбнулся, той же невыносимой улыбкой — на что ни одна мышца в лице Б.Б. не двинулась, ни рот, ни глазное веко, ни глазное яблоко. В ресторане дочь полка выпила семьсот грамм коньяку: бутылку и еще двухсотграммовый графин. Разговор между тем бежал живой и управляемый, и отец отгонял от себя естественно набегавшую настороженность и тревогу. Но когда вышли на улицу, а улица была Горького, потому что ресторан был ВТО, она неожиданно сорвала с его головы фетровую шляпу и с силой пустила по ветру, по проезжей части вниз, в сторону телеграфа. Он побежал вслед, но какой-то подросток выскочил с тротуара и пнул шляпу к середине, где отец потерял ее из виду между или под колесами машин. Ночь была холодная, дождливая, даму он, вернувшись, не нашел. За пять минут, пока ловил такси, успел простудиться, но главное, он почувствовал, как в те несколько мгновений, когда махал руками, пытаясь помешать ей швырнуть шляпу, и делал первые семенящие шажки, чтобы догнать, сердце в груди вздулось и опало, и еще раз, и он сразу понял, что это такое.
Его смерть позорна, сказал он, позорна, позорна. И греховна — потому что хотя у евреев был (кривая ухмылка: «…и наверное сохранился») институт блудниц, но царь Давид, состарившись, спал, греясь от юной девушки, просто грелся, засыпая, ее теплом, а не приглашал блудницу, хотя бы и ритуальную. А он умирает постыдной смертью, потому что кто-то в Талмуде объясняет, что постыдная смерть — это подавиться куском мяса, не обязательно даже свинины, ну так вот он в ресторане ВТО не подавился только для того, чтобы захлебнуться куском собственного сердца, когда он сам заставил бесстыжую женщину выставить его шутом и выставить его срам — обнаженную плешь.
С молодости он прекрасно знал, что у него репутация злого, а иногда и подлого человека. И репутация, он пожевал губами, не дутая. И ему на нее плевать. Он знал, что делает злые, а пожалуй, и подлые вещи, но это не был грех, это была жизнь, а не грех. Жизнь полна злых и подлых вещей в той же мере, как добрых и высоких, и ему ни разу не встречались люди, жившие выше его, он имеет в виду свою идею, которую он довел до религиозной чистоты. Но теперь, через призму своей постыдной, полномерно греховной и нелепой смерти, он и жизнь свою видит исключительно такой: порочной, нелепой и позорной. Его идея — работы ради тайного приумножения славы святого парода, не отчуждаемого ни от одного из своих членов, — оказалась никак не религиозной и вообще не идеей, если он с такой легкостью и желанием мог ее одним разом изгадить. Да и, как он с этой койки в это темнеющее окно видит, нет такой на свете идеи, самой потрясающей, которой можно было бы компенсировать такую потрясающую, такую сокрушительную вещь, как зло и подлость. Во всяком случае, произведенные им.
«И последнее. На нас — на меня и на тебя — не действуют ни слова, ни обстоятельства. Есть только твое — или мое — желание и нежелание, так? Они у нас с тобой расходятся. Но есть нечто из области, в практическом употреблении не существующей и абсолютно бессильной. Как ни смешно — отцовское благословение.
Аб абсурдо именно к нему прибегаю. Квартира и дача сейчас идеальный объект для аферы, и даже контур ее без труда просматривается. Не благословляю». После более чем минутного молчания сказал: «Спроси почему». Б.Б. не пошевелился. «По соображениям моральным и сентиментальным. Теперь иди».
Через неделю он во сне умер. Трубача выписали, Б.Б. разрешил ему поселиться в городской квартире, в комнате Ники.
Б.Б. ездил улаживал похоронные дела, в загс, на кладбище, в морг, и все время думал, что смерть, если честно, смешная вещь. Похороны откладывались, советское консульство в Нью-Йорке тянуло с визой Нике, он звонил туда, говорил намеренно на своем викторианском английском: дочь усопшего, достопочтенный профессор, моя единокровная сестра — и никак не мог с этого думанья про шутовство смерти слезть. С отвлеченной точки зрения — положим, марсианина, который не имеет ни в чем земном личного интереса, — умирание и окончательная смерть исключительно смешны, особенно у человека. Не в вийоновском, с прищуром поучительности, мрачновато-глумливом рассматривании желчи, пены и пота у агонизирующих или плясок и загара у висельников, а по возможности непосредственное, непредвзятое, объективное, как в театре, наблюдение. Нис того ни с сего человек решительно меняет внешность, и всегда невыгодно для себя: теряет отделывавшуюся десятилетиями форму, приобретавшийся рост, краски. Никакому клоуну не придумать под таким неожиданным углом скривиться, так паяснически согнуться, так потешно облысеть, выплюнуть все зубы, так искусно пожелтеть, побелеть. Начать гримасничать, разевать рот, дико махать руками, рвать на груди рубаху, дергаться, хрипеть, пускать пузыри.
У могилы Б.Б. глядел на загримированную мертвую голову, чувствуя по ее поводу то же, что по поводу валика глины, с трех сторон окружавшего яму. Он испытывал волнение, близкое к боли, из-за того что плакала мать и такой горестный вид был у державшей ее и его под руки сестры, и тоска и печаль, хотя и не дававшиеся ему, изображались, как он видел, на лицах у всех остальных. И еще из-за того, что отца, который всегда был, больше не было. Давно уже он не имел для него никакого реального значения, но все-таки в пустое место не превращался. А теперь пустота, следовательно, потеря. Потеря и… надо будет потом додумать, что
и.
Но то, что тело до такой степени скрупулезно сохраняло видимость отца, было — он ничего не мог с навязчивой убедительностью этой мысли поделать — прости господи, забавно. Уже — всё, уже — куль принципиально иной органической культуры, иного химического состава, шестьдесят кило слякотной земли вперемешку со слизью — и нет: ушки, ноздри, подбородочек. Компост, перегной, а вылеплен, как настоящий, носик, как настоящий, пальчик. И даже когда вырастет из него тургеневский лопух, все равно это будет не компост, а лопух, не химия, а лопух, такой же, как был при живом, был частью сопутствовавшей ему природы, частью его созерцания и ощущения, то есть не вовсе не-он, и будет этот лопух как минимум двулетним, со щетинистым цветоложем, с обоеполыми цветками, и каждый с трубчатым пурпуровым или беловатым венчиком. Что и означает: нет, весь я не умру. Какой невероятный набор ни в малейшей мере не необходимых условностей должна выполнять смерть! То есть смешнее не придумаешь.
Переживания Ники были отнюдь не только скорбными, и, если не лицемерить, радостные были сильнее. Мать дожила до их встречи, брат из кошмарной переделки вышел невредимый, она опять просыпалась в родительской, в
своей квартире, сидела на веранде
своей дачи. Еще одну группу чувств возбуждало обсуждение наследства. Вступления в права надо ждать полгода, но план действий необходимо было приготовить сейчас. Б.Б. его загодя детально разработал. Отец говорил правду: квартира и дача напрашивались на элементарную финансовую операцию. Точнее, дача — квартира считалась собственностью государственной. Дачу можно было по максимальной цене продать подставному доверенному лицу, деньги перевести за границу по официальному курсу и тотчас дачу выкупить, уже по цене минимальной. Оценку стоимости, вознаграждение лицу, взятки разрешающим инстанциям и вообще все хлопоты Б.Б. брал на себя, но заграничная часть, незначительная в сравнении со здешней, ложилась на Нику. Ей это претило.
Матери тоже, но что могла она сказать Б.Б., вновь обретенному, и образом необъяснимым, то есть чудесным, и раз за разом наглядно доказывавшему правильность всех своих предприятий! Она только любовалась обоими, им, если правду сказать, по обыкновению больше, умилялась, наблюдая, как убедительно оба, сидя друг против друга в соломенных креслах на открытой террасе, по очереди говорят, и наслаждалась тем, что можно наконец не вникать глубоко в содержание слов, пусть, как всегда, и относившихся к ним ко всем, и, главное, не торопиться написать той письмо и этому два. И Ника, изо всех сил сопротивляясь, ради нее старалась звучать почти ласково и улыбалась ей. А Б.Б. в темных очках и с закрытыми глазами глядел на солнце и тихими монотонными пассажами ломал сестру.
С квартирой сложнее, говорил он, хотя и про дачу она только что в пятнадцатый раз сказала «нет». Пока что ее можно только сдавать. Иностранной фирме, это перспективно. Полностью переселиться на дачу. Мебель, серебро, люстры, вазы, картину (он оскалил зубы) со все глубже тонущей лодкой, естественно, включить в оценку дачного добра. И надо как следует обдумать, может, даже
обмозговать (еще оскал), идею раздела имущества. Ты же вправе претендовать на шестую часть,
систер. И мы на этом,
систер, сыграем.
Вечером, когда мать входила в его комнату проститься перед сном, он говорил про Нику: «Приехала со своим носом». Нос у нее был небольшой, формы правильной, мать шепотом восклицала: «Ну как ты можешь так говорить!» — а он, подставляя под поцелуй щеку и улыбаясь, подтверждал: «Систер с носом». Ника в Америке сделалась церковной, в выражении лица у нее появилась постоянная снисходительная мягкость, такое же мягкое всепонимание в едва заметно, но тоже постоянно улыбающихся глазах, это, возможно, привело к соответствующей коррекции нос, возможно, он напрягся чуть-чуть, капельку заострился — и, вероятно, что-то такое мог иметь в виду Б.Б.
Церковность, снисходительность и умиленность Ники были еще свежими, как недавняя побелка стены, еще не наведенными на резкость, не окончательно освоенными, то вдруг отдавали запанибратством с силами небесными, не говоря уж со смиренными служителями Божиими, а то елейностью, и поэтому полного доверия не вызывали. Но это то, что она на себе привезла, и выглядело оно так без того, что осталось дома. Продукты, которые она покупала в супермаркете и волокла каким-то трясущимся старухам, а они говорили, что мало, поздно и не то; мотание по врачам с приехавшим из Новокузнецка лечиться калекой; заполнение аппликаций кому-то на пособие по бедности, кому-то на медицинскую страховку по старости, и вообще постоянное пребывание среди этих постоянно поступающих из России хромых, слепых, чающих движения воды и незнающих по-английски, и все это на машине с тугим рулем, потому что с легким на собственное пособие по безработице не купишь, и все это в квартирке в «проджекте», через стенку от филиппинских любителей галлюцинаций и ножевых выпадов без предупреждения и подготовки, и лишь вечером несколько страниц Симеона Нового Богослова и в воскресенье служба в похожем на сборный финский домик храме за двадцать миль от дома — этого ни Б.Б., ни Мироша Павлов, хранивший память о той Нике, в которую был влюблен, ни Найман, к этому времени уже почти автоматически бравший порывы духа на пробу кислотно-щелочной настороженности, видеть не могли.
Они тогда пригласили в гости Наймана (меня — нет: болезненное напоминание о том, что лучше забыть), и за клубникой со сливками Ника сказала, что у верующего в принципе не может быть проблем. Ни боязни чего бы то ни было, если в нем уже есть перекрывающий все тревоги страх Божий; ни болезни как катастрофы, ни, как мы видим, тюрьмы — если он предан Богу всей своей сущностью без остатка. Рассказывая об этом мне, Найман заметил, что случаются такие мгновения, когда нельзя не разинуть рот, чтобы немедленно что угодно, любую чушь произнести. Лишь бы не дать сказанному перед тем ни секунды жизни и, таким образом, не успеть умереть от стыда. Ты, Ника, хочешь сказать, мгновенно заговорил он поэтому, не поднимая глаз от блюдечка, что проблемы — это то, чем Бог наилучшим образом устраивает человеческую судьбу? Ну именно! Но верующий, он что же, не может никогда этого самого?
поползнуться? заморочиться? пискнуть «помоги моему неверию, вылечи, боженька, поскорей моего сыночка-доченьку»? Да и просто обмереть вдруг, набредя на мысль: а не отец ли дьявол сочинил всю эту историю про да-будет-свет и Адама и самого Иисуса распятого? Хоть на минуту, а то и на день, а то и на целую неделю — не может? А на то, улыбнулась Ника торжествующе и взглянула на Б.Б. лукаво, есть псалом… «Сто восемнадцатый», — перехватил у нее Б.Б. «Сто восемнадцатый», — подтвердила она. «Длинный, — сказал Б.Б., — но если дочитаешь до конца, вера тут как тут, и рак — рай, и ларёк, я имею в виду лагерный, — раёк».
* * *
Ника улетела, Б.Б. стал готовить
рокировку — как они условились называть дачную операцию. «Если только до этого дойдет», — каждый раз, когда он об этом заговаривал, не уставала она прибавлять. «Если, конечно если», — соглашался он с миролюбием тюремного исполнителя, только что проверившего перед завтрашним включением контакты электрического стула. Политическая обстановка быстро менялась, от недели к неделе, в новой для него, свежей после духоты барака атмосфере он это чувствовал, как животное перемену погоды, надо было запускать дело немедленно, едва их официально объявят наследниками. День за днем уходили на новые и новые совещания с юристами, постепенное включение в предстоящий процесс необходимых чиновников, подбор на роль покупателя доверенного лица из достаточно безответных, но и достаточно сообразительных дальних родственников.
Я думаю, в этой ровной насыщенной деятельности и была причина последовавшего срыва и ступора. Буквально с первых суток на воле он не дал себе времени, чтобы расслабиться, отрешиться, переключиться. По пути следования поезда, из Перми, из Казани, из Горького, он успевал кому-то звонить по междугородней. За несколько дней все, что было оборвано арестом, он проверил, восстановил, прежние связи заработали, новые подсоединились. Как биржевой маклер, снявший на ночь с телефонных аппаратов трубки, он, проснувшись, положил их одну за другой в гнезда, и через минуту они зазвонили. Он включился в издание Гайто Газданова, послал заявку на антологию средневековых поэтов Испании, и на десятитомник полного собрания обэриутов, и на перевод английских эссе Бродского, подал в суд на журнал, который без упоминания его имени опубликовал подготовленные им для печати стихи Кандинского, отнес в Союз писателей заявление с просьбой принять в члены, отправил в аттестационную комиссию протест против лишения его кандидатской степени — и еще сто, двести писем, пятьдесят поздравительных открыток, двадцать пять бандеролей с выпущенным за это время Международной Амнистией буклетиком его стихов.
Накат и натиск новой активности сравнялись с энергией, которая три года одиннадцать месяцев и два дня тому назад разбилась об упавший перед ним железный шлюз, и быстро стали превосходить ее — как будто этого времени не было вовсе. Просчет — или, если угодно, нерасчетливость — заключался в том, что обрыв жизни, ну хотя бы в виде мгновенно осевшей почвы, оврага, в который жизнь вместе с жильем и житьем вдруг съехала, — был. Тысяча четыреста с чем-то дней — были. А вот
как будто, потому что это как будто — нет. Телефоны звонили, загоняя друг друга, но тот, кто поднимал трубки, уже участвовал в биржевой горячке лишь номинально — просто потому, что аппараты остались стоять на столе со старых времен. Величина активности, как раньше, была очень высокой, только вектор переменил направление на ровно противоположное. Б.Б. отжил то время, прежнюю жизнь, да и из той ее части, которая пробилась во время новое или которую оно согласилось в себя допустить и в которой, следовательно, он и восстанавливался и восстановился, удалили нерв, чтобы, так сказать, спасти самый клык, а без нерва, как оказалось, и клык зашатался и выпал.
Как раз тысяча четыреста с чем-то дней, стань они опытом жизни, могли бы вступить с переменившейся за это время обстановкой в реакцию — и тем самым возбудить в Б.Б. сродство к ней. Но они, безусловно и существенно обогатив его опытность, не были как опыт усвоены. Все свелось к сумме дополнительных навыков. Бродский, подписывавший все петиции и протесты в его защиту и подбивавший на то же разных влиятельных западных людей, в первом же радиоинтервью после его освобождения на вопрос, говорил ли он уже с Б.Б. по телефону и собираются ли они встретиться, ответил, что с какой стати, что он сделал бы это для любого заключенного, тем более как сам побывавший в такой шкуре и тем более для хорошо ему знакомого человека, но что личной приязни он к нему не испытывает и никогда не испытывал потому-то, потому-то и потому-то. Это было абсолютно лишнее и сказано, в общем, несправедливо, но что к чему, понятно любому постороннему. Б.Б. позвонил Арию Древину, который к тому времени был уже разнорабочим в городе Сент-Луис, штат Миссури, и попросил передать Бродскому, что поскольку каждое «потому-то» трактует Б.Б. как человека низкого и уголовного, то он, в согласии с этим, не замедлит таковым себя по отношению к Бродскому проявить. И пусть Древин от имени Б.Б. и с его интонацией, осклабясь, прибавит: «Это у меня, знаете ли, лагерное». Древин, Бродского знавший еще со школы, слово в слово передал, на что тот послал обоих на хэ, а лично Арию, из душевного к нему расположения, прибавил, что нет, это у Б.Б. вполне долагерное и хорошо бы это довести до его мозгов.
Разлад между заведенным стилем жизни, точно регулируемым желаниями, все более близкими к инстинкту, и легкостью ее хода, разгоном, внушавшим подозрения, а иногда и не оставлявшим сомнений, что ход — холостой, воспринимался как больший или меньший, но во всяком случае терпимый зуд где-то в труднодоступном месте позвоночника. Смерть отца, как случайное почесывание, наткнулась на коросту, сковырнула ее и вскрыла свищ, и он потек, сколько ни промокай, и неизвестно куда внутрь вел. В каком-то смысле это было для Б.Б., как встреча с первым в жизни мертвым человеком для Сидхарты Гуатамы, открывшая в нем Будду, или для царевича Иоасафа — завернувшая его к Христу, или для Гамлета — к общеизвестной драме. Отец лежал в гробу, вынуждая Б.Б. к поведению, приличному обстоятельствам, но не вызывая особых эмоций, ибо как мертвец был абсолютно равен любому из тех, которых Б.Б. к этому времени успел повидать, в том числе и по двое — по трое в морге лагерной больнички, когда попал туда с обморожением, а потом на месяц завис санитаром. Но отец был первый, как бы это лучше сказать,
он, первый мертвый
Б.Б., не потому, что семя и все такое, а потому, что, умерев, дернул туда же Б.Б., буквально наклонил к гробу. Мало того, что теперь между Б.Б. и смертью не осталось защитной преграды, которой до этой минуты было тело отца, и, стало быть, наглядно пришла его очередь, но столь же наглядным исполнением своей миссии отец продемонстрировал ему, что ничего реального, кроме этой миссии, нет, и тем, что это продемонстрировал, передал эту миссию Б.Б. Отец оказался просто и только древесиной ствола, что значило, что и Б.Б. был просто и только древесиной ствола, того же самого и, главное, той же самой.
Можно было бы, конечно, оспаривать это, доказывать отличие в строении и составе клеток, в отклонении ствола под другим углом и даже в совершенно новом разветвлении, произращенном из дерева исключительно собою и для себя, но то, что все это: клетки, отклонение, разветвление — просто и только древесина, было неопровержимо. Никакое яблочко не падало ни далеко, ни близко от яблони, а: пока Б.Б., так же как отец, мать, Ника и какие-то там предки-потомки производят древесину, дерево косно растет, а кончат останется древесина, покрепче, потрухлявей. А то, что, переводя взгляд с мертвой головы отца на головы тех, кто скорбно стоял вокруг, Б.Б. безмолвно говорил каждому: «И ты, критик косопузый, древесина и мертвец. И вы, Марья Аркадьевна.
И ты, хитрая помощница-секретарша, и ты, подружка секретарши, зачатая в спальне правительственного дома, как в тачанке. И ты, увы, мамуся милая.
И ты, любезная систер Ника», — служило лишь пресной приправой к неожиданно для него самого и для всех, так что на него обернулись, пробормотанному вслух: «И ты, Б.Б., ты, ты, ты!» Ясность этого была такой светлой, без намека на тень, и свет ее таким ровным и сильным, без малейшего изъяна, что абсолютно нелогично, но непроизвольно пролетала мысль о счастье. А так как это была ясность безнадежности, то дуновение счастья мимолетно осеняло и безнадежность. Дуновение счастья и, для равновесия, сквознячок страха — всяким счастьем вызываемого.
Догадаться, дойти до этого умом можно было давным-давно. В школе между твоим одноклассником и его отцом лежит пропасть, хотя ведь уже в школе нетрудно вообразить одноклассника превратившимся ровно в своего отца — а не ждать прошествия тридцати лет, чтобы, столкнувшись с ним на углу, подумать патетически: а ведь я знал его, когда его отцу было столько! По жизнь такая короткая, что едва-едва успеваешь осознать меру и качество своей ограниченности только к самому концу, под пятьдесят, над гробом отца, когда из этого осознания уже ничего не выжмешь.
Отец, как ни лукавь, единственный был
он, Б.Б., единственный ему не уступивший, и за это Б.Б. не то чтобы уважал его, но выделял из всех. Отец был ему вровень, и обвал отцовой идеологии, зародившийся с досрочного выхода его на волю, разогнавшийся до подступа к эросу, ресторанной вульгарности и сцены со шляпой и успокоившийся монологом на больничной койке, подтолкнул к обвалу и его, Б.Б., идеологию. Это отцовское всемогущество, так же между прочим, как в детстве, проявленное, походя ткнуло его носом в то, что он всего лишь древесина. И ненароком брошенное «афера» постепенно, постепенно опустошило весь грандиозный финансовый дачно-квартирный замысел. В нем не оказалось приключения, ни единого атома, это было как выписать себе собственный чек и получить в банке пачку купюр по сто и по пятьдесят, но ради такой рутинной операции предстояло с великим трудом перемолоть еще пол- или полтора своих собственных годовых кольца на не принадлежащем тебе стволе в волокнистое целлюлозное месиво отношений с некими дядьками-тетками, тупыми как бревно. Это должен был сделать ты, ты, ты. Да. Нет. Вероятно. Кому как. Однако.
* * *
Когда нотариус, в присутствии другого и еще одного мужчины средних лет, которого он представил сотрудником Пушкинского Дома, стал читать им с матерью текст завещания, Б.Б. показалось, что призрак отца присел к нему на скамейку. Пока шло перечисление наследуемого добра, отец со скромным достоинством ютился на краешке. Вдруг прозвучало «завещательный отказ». Мать испуганно спросила Б.Б.: «Что это?» — он шелестнул: «Подожди», — и почувствовал, как призрак усаживается широко, вальяжно и уже его сталкивает на краешек. Все имущество, с особой оговоркой о библиотеке, передавалось матери, Нике и Б.Б. при условии,
однако, что в случае продажи или обмена треть его отходила отказополучателю, а именно Пушкинскому Дому, которому поручалось распорядиться этой частью так, чтобы открыть в Ленинградском университете долгосрочную стипендию имени наследодателя. Перечислялись условия награждения стипендией. Срок действия завещательного отказа — до дня смерти Б.Б.
Ошеломленные, они краем уха услышали еще, что библиотека делится между Б.Б. и помощницей по принципу поочередного выбора книг: два десятка первых выбирает Б.Б., двадцать следующих она, и так далее. Мысль Б.Б. работала, и не абсолютно безвыходным казалось положение, нет, нет. Можно… И тут он почувствовал,
как бы физически, что призрак приобнял его и похлопал по колену. «В завещание не входит, — сказал нотариус, протягивая ему конверт, — письмо, которое ваш отец при жизни уполномочил меня вам передать».
Письмо было на полстранички. «Итак, ты все-таки читаешь, что я тебе пишу, я добился. “Имением моим” не разрешаю торговать, потому что квартира с хрусталем и мрамором — чья-то, а я ее только революционно оприходовал, а дача, как раз наоборот, моя, я с фундамента строил, не хочу чужим отдавать. Тоже, конечно, на деньги, не землепашеством заработанные. Но не об угрызениях совести речь, я бы и вдесятеро больше проглотил, не поморщился. А просто давай я буду за свои гешефты отвечать, а ты за свои собственные. Чтобы и мне на одно “беззаконие” меньше туда волочить, и тебе. А то ты ведь и беззакония никакого тут не увидишь, и я, получится, тебя вдобавок под монастырь подведу. Если непонятно, считай, это мое
желание». Подписи не было.
Первый раз с, может быть, юности, если не детства, на Б.Б. сошло ощущение полного, ничем не тревожимого покоя. Беспокойство, которое он принял в себя, когда стал
действовать', успеть к учительнице английского, к репетитору по математике, записаться еще школьником во «взрослую» Публичную библиотеку, попасть на концерт Вилли Фереро в филармонию, на день рождения того-то, на лекцию сего-то, на Пасху, на праздник Торы в синагогу, написать, прочесть, ответить, заставить ответить себе, а позднее уже успеть
все, попасть
всюду, а потом
задумать, устроить все, что задумал, найти, купить, продать, отправить, проследить, — не тяготило его; но память о том, как этого беспокойства не было, всегда в нем жила. И, услышав текст завещания, он автоматически рванулся смести его с лица земли, переставить дурацкие отцовские буквы так, чтобы выходило, как ему, Б.Б., нужно. Но вместо этого он внезапно погрузился в облако покоя, блаженно погрузился. Надо было, он это понимал, хоть неделю после лагеря поваляться на диване, полистать пусть Диккенса, пусть Гюго, что-то читаное, приятное, грызя ногти, ковыряясь в волосах, задремывая, — но не получалось, не мог. А тут, на деревянной скамейке, в казенной комнате, было лучше, чем на диване, мягче, слаще.
И так, как будто он про это уже читал и было тогда приятно, и сейчас читает и еще приятнее.
Когда он вышел на волю со всей той остановленной в разгоне, но сохранившей инерцию и за тысячу четыреста с чем-то дней дополнительно накопленной энергией, с мощным зарядом деятельности, то столкнулся с не менее мощной мелкостью возможностей, намерений, желаний, страстей, которыми жила
воля. Его заряд расшибся об нее, Б.Б. слышал треск, допускал, что ломает кость-другую, но ему было не впервой. То был, однако, треск не костей, а электричества, оно разряжалось, уходило. Он видел вспыхнувшую вокруг жадность, активность, жажду ухватить что угодно, видел, что ровесники и старшие из общего круга вожделели, главным образом, заграницы, приглашения на семестр, контракта на несколько лет, гранта, стипендии, а кто помоложе — столкнуть «шестидесятников», занять их место и вообще
место. Те, правда, завоеваний отдавать отнюдь не собирались и, в свою очередь, занимали крепостцы, оставляемые большевистскими гарнизонами. Он не находил для себя интереса ни в том, ни в другом, не хотел, а и захотел бы, не мог, влиться в эти потоки. Он устоялся в своей неадекватности людям, ему оставалась единственная, если не подражать, позиция — «а я вот такой», и он ее выставлял, продолжал выставлять, но чем дальше, тем менее действенную, а все чаще как эксцентрическую.
Разумеется, когда он проснулся среди ночи, мозге холодным бешенством составлял комбинации обхода и разрушения завещания, зацепок, доказывающих его недействительность, мести отцу, но вскоре, как мед ангинозную гортань, покой опять обволок его, и он, успев улыбнуться, потонул в нем. Наутро дал матери поохать, повозмущаться, поизумляться шокирующей неожиданности мужнего шага, сам же молчал, отвечая только на ее прямые вопросы, и, по возможности, односложно.
* * *
Тут — а честно говоря, уже немного раньше — пора признаться, что, привычно наговаривая на пленку по когдатошней просьбе Наймана историю Б.Б., я и о просьбе давно не вспоминаю, и — что гораздо существенней — сплошь и рядом не различаю, история это Б.Б. — я имею в виду события, случившиеся с ним, о которых я знал либо как свидетель, либо от других, — или мое представление о ней. Нечасто, но зато на протяжении всех четырех десятилетий, начиная с моего знакомства с Найманом в молодости, мне приходится слышать, что за мной идет репутация его двойника и alter ego. Так это на самом деле или не так, меня не трогает ни в малой степени, тем более что после такого долгого периода такого временами интенсивного общения я и сам не знаю, что я сказал, что он, что мое, что его, и если предположить, что он все-таки использует меня для своих целей как буфер, то, замечу, действительно примитивно, гораздо примитивнее, чем Пушкин Белкина. Но повторяю: так складывается, что после лагеря я стал меньше о нем вспоминать, а когда вспоминаю, то больше о долагерном.
Думая же о Б.Б., точнее, заведясь о нем думать со дня, когда согласился на наймановскую просьбу, я стал все чаще и все подробнее
объяснять его поступки и то, что с ним случилось, а не просто излагать, причем даже останавливаясь и спрашивая себя, мои это объяснения или его, все чаще неотчетливо вижу чьи. Как если бы это были наши с ним общие объяснения чуть ли не общих поступков и случаев. И как если бы мое мягкое отдаление от Наймана напрямую было связано с этим приближением, чтобы не сказать сближением, к Б.Б. Странное дело, иногда кажется, причем с явственностью сумасшедшей, что это сам Б.Б. попросил меня о нем говорить в магнитофон, о нем, но при условии той же убедительности, что о себе. А это означает — всякий раз, когда, говоря о нем, я не убежден, что достоверен так, как когда дело касалось бы меня, — что единственная возможность не выбирать между тем, чтобы изобразить его, но без полной уверенности; или с полной уверенностью, но себя, — это поймать его в то же зеркало, в котором отражаюсь сам.
Правильно это или неправильно, но такой, каким я тогда был, я не мог не увидеть, что Б.Б. потерял и не находил сил заново возбудить в себе интерес ни к чему, что только что и всегда, сколько он себя помнил, вызывало самые сильные его желания. Прежде всего к людям. Ни он не узнал ничего такого, чтобы осознать свое превосходство или их убожество, ни они не потеряли ничего из того, что его к ним влекло, но именно это почти абсолютное отсутствие перемен сделало их героями какого-то многосерийного фильма, глядя который нельзя было понять, видел ты уже эту серию или нет. Здание кинотеатра пришло в ветхость, свет пробивался в щели, в не до самого низу зашторенное окно, в приоткрываемую сквозняком дверь, фигуры на экране становились водянистыми, да и кинопроектор то и дело останавливался, и они замирали в стоп-кадре с замершими в говорении, ничего не произносящими ртами.
Город выглядел под стать людям, он не дошел еще до кондиций Лазаря четверодневного, как через десять лет, но Ленинград, он ведь всегда умирает, всегда осыпается, покрывается трупными пятнами, припахивает канализацией — весь и отдельными улицами и зданиями — уже назавтра после очередного ремонта. Если к нему не привык настолько, что идешь не глядя и знаешь скорее по ручным часам, чем по тому, какого именно переулка лужу в данный момент огибаешь, что за левым плечом у тебя Хлебопеки, то бишь ДК РХП, а впереди, откуда мозглый ветерок анестезирует правую щеку, бассейн при школе, которую двадцать лет назад покинули последние ученики; или, наоборот, если не озираешь его специально как перспективу, с моста вниз, вдаль, на закат, так, чтобы видеть то чертежом, то туристской открыткой; но если с интересом поднимаешь голову, свежим взглядом скользишь по ближайшей стене, по окнам, подъездам, подворотням, по тощим деревцам и опускаешь к перемолотым берегами водам речек и тайно выводимым в них сточным люкам, то видишь проказу, ее одну, на всем, везде. Отвыкшим на время от знакомого до незамечаемости ландшафта глазам Б.Б. открылось торжество Достоевского города над
пушкинским: Сенной, Садовой, Крюкова, Коломны над Невским и набережными. Небритые кривые мужички и закутанные бабы вылезли из подвалов и толпой прошлись с огромными клеенчатыми, оптом купленными в Европе, мешками по панораме с Медным всадником, шпилями и колоннами — и ее линии разом стерлись с физиономии Ленинграда. И тут его переименовали в Санкт-Петербург. Почти никого нельзя было застать дома, все жили в режиме международных конференций, симпозиумов, узнавали, где какие намечаются, добивались попасть в число приглашенных, мотались по овирам, по инкомиссиям писательских и художнических, уже оседающих в сторону распада, союзов, уезжали, возвращались в эйфории и сразу начинали следующий цикл. Заведомое и теперь непосредственным опытом подтвержденное недовольство западной буржуазностью и отсутствием культуры общения, естественно вытекавшее из приверженности к отечественной духовности и душе нараспашку, лишь возгревало насланную парижами эйфорию. Когда удавалось на минуту-другую с этой темы слезть и разговор касался материи жизни, оказывалось, что она во всей полноте выражается материей нравственности, или безнравственности, или религии в широчайшем диапазоне от туманного
теизма до доморощенного ницшеанства, или астрологии, бодибилдинга, экстрасенсорики, или, или, или, но наилучшим образом, конечно, материей искусства.
Б.Б. с недоумением, а потом с удивлением обнаруживал что-то, что он тридцать с чем-то лет назад, в конце 50-х, слышал как новое, наивное, угадываемое от этих самых людей, когда им было по двадцать-двадцать пять, а ему пятнадцать и он, еще школьник, таскался за ними на их
лито, литобъединения при каких-то домах культуры и институтах, на их — там же — неофициальные выставки, устраивался тихо, как мышка, позади всех, этак демонстративно незаметно, и записывал, о чем рассказ или поэма такого-то, что изображает холст сякого-то, — ныне получивших признание и имя, по каковому и ездят на симпозиумы и конгрессы, — и кем что сказано на обсуждении, и кем как на кого взглянуто и проч, и проч., — все это, законсервированное вплоть до конкретных слов и интонаций, сейчас утверждалось как вывод из прожитого и итог. Писать, чередуя длинные слова с короткими, следя за аллитерациями, за продолжительностью фраз — или свободно, «нутром», как боги на душу положат; оставлять конец открытым — или терроризировать читателя, самовластно закупоривая текст; добиваться набора точностей — или точного набора приблизительностей; гиперреализма — или абстрактности, маскируемой под фигуративность; додекафони-ровать — или деформировать по Шостаковичу — или вообще отдаваться джазовой импровизации; и так без конца. Некогда животрепещущие вопросы произносились теперь как уверенно доказанные теоремы, как решенные шахматные задачки — позиции которых, как известно, не встречаются в реальных партиях. То, что тогда представлялось всего лишь приемами искусства, превратилось в искусство приемов.
На это ушло у них три десятилетия жизни, самых активных, иначе говоря, целая жизнь — и результат получился полностью от нее отчужденным, от ее тяжести, избранности, скуки, ее физически отвратительной неизбежности и власти, от ее, в общем, феномена. Наконец, от того, каким необъяснимо диким образом втянула она в себя Б.Б.: через соединение качеств, ни одно из которых не было его личным, через искусственную эпоху, через изломавшую себя под нее и балансирующую на выдуманной идее семью, деланость стиля, что всеобщего, что домашнего, подвешенный в пустоте заемный быт и в другой пустоте — стерилизованный университет, через навязанную моду миропонимания, ее научные методы, очерченный ею круг занятий, предложенную ею практику, и при этом — так и непонятно для чего — через бесконечный, поставленный на чистом мучительстве лагерь — от, словом, всего, чем он мог бы себя описать. Слова-бабочки слетали с их языков, садились на губы-цветы, замирали. Глаза, подобно механически раскрывающимся-складывающимся крыльям этих роскошных мотыльков, ярко распахивались — как у красотки: манифест невинности.
Они говорили, он молчал, потом задавал несколько вопросов, всегда деловых, и не только потому, что он и встречался с ними, в первую очередь, ради дела, хотя чем дальше, тем яснее представало оно
видимостью дела и инерцией, и чтобы как-то действовать, ибо действие было единственным бесспорным знаком того, что он живет, ему приходилось этой инерции, не рассуждая, отдаваться; а и потому, что и захоти он сказать что-нибудь на их тему, не смог бы, не нашел бы ни мыслишки по сушеству предмета, не выдавил бы ни словечка — от стыда, не их, а собственного, как если бы обмарался и не успел отмыться и попахивало от него. Они старались глядеть на него ласково: ударило человека, отбросило, и едва ли уже нагонит, прежней ерундой интересуется, и потому требуется участие, и вот оно, в их взгляде. И еще: а, собственно говоря, за кого он их держит! Плюет на их расположение, на их открытость, оценки, уровень разговора и опять, по-тогдашнему, по-всегдашнему, прет, как на буфет, с тем, что вынь ему и положь, — и чем горячее набухала неприязнь, тем ласковость, оттекая от подбородка, щек и лба, концентрированней собиралась между носом, бровями и оттуда, а конкретно — из зрачков, лучилась.
Особенно у Кашне. Восемнадцати лет, и всего однажды, подписал Миша Квашнин свои стихи в университетской многотиражке этим псевдонимом, и давно уже отлипло, никого не смешило; и заслужил признание и уважение знатоков, любителей и при этом — что редко совпадает также и распорядителей поэзии, стал не только в ленинградской, а и во всесоюзной колоде картой первого ранга исключительно как Михаил Квашнин, но вот вспоминали — кто из недоброжелательности и зависти, кто просто из вредности человеческой натуры. Их было три брата, и все получились одаренные, все пошли в искусство: Илья, ровесник нам, — в театр, в режиссеры, Александр, моложе его лет на десять, — в живопись. Миша был посередине, учился на курс старше Б.Б. Все трое добились признания в шестидесятые — семидесятые: идя что поделаешь — на уступки, но не делая подлостей. Уступки были платой за, как объяснял Илья, «право на голос» — понимай: голос солиста в монотонной хоровой оратории. Соло, однако, не могло звучать вовсе уж вразрез с общим громом и главной мелодией, пение так или иначе подгонялось под хор, то умом, то горлом, так что все, кто тогда добился этого права, первое время избегали говорить
«собственный голос», не вполне он был собственный. Но с течением лет привыкали, другого уже не было, а тот, который из груди и рта выходил, — какой же он еще, если не собственный?
Илья ставил спектакли по разным театрам, на постоянную работу не брали, у него была устойчивая репутация нонконформиста. Пьесы выбирал те же, что шли везде, что-то Брехта, что-то Артура Миллера, гончаровскую «Обыкновенную историю», не стеснялся и арбузовской «Иркутской». Спектакли скучноватые, но публика знала, что постановку обком хотел
закрыть уже на стадии первых репетиций, потом
жутко обкорнал', что смотреть нужно как можно скорее, потому что
каждое представление может оказаться последним', и наконец, что за ограниченным
видимым стоит огромное
невидимое, о котором могут догадываться только посвященные, и лишь в меру посвященности. Сам конечный продукт, осязаемый результат, как в любой области в те годы, вызывал неизмеримо меньший интерес, нежели представление о том, что он выражает, что в нем отразилось из предположений и ожиданий того, каков он мог и должен быть, судя по усвоенной со стороны, от посвященных, легенде о замысле, творческих возможностях и препятствиях к осуществлению. Из квашнинских сценических новшеств, или, как стали тогда говорить, новаций, знаменитой стала финальная картина пушкинского «Каменного гостя», в которой и Командор, и Дон Гуан выходили завернутыми с ног до головы в белую шоколадную фольгу. В компаниях Илья долго молчал, потом долго, страстно и беспощадно говорил, цитировал Арто, клялся Арто, молился на Арто, упоминал о своей переписке с Гротовским, уничтожающе улыбался, если разговор сворачивал на какой-нибудь советский театр — «Современник», БДТ, «Таганку».
Он театрализовал практическую действительность, как и всё на свете. Среди ближайшего окружения, молоденьких актеров и актрис, объединившихся возле него во что-то среднее между школой, сектой и коммуной, он разыгрывал гуру, и они были преданы ему как гуру. Он исповедовал православную аскезу и дервишский дзикрг, ходил круглый год в одной и той же черной гимнастерке, жил в мастерских приятелей-художников, в несезон — на чьих-то дачах. Его свита путем сложнейшего, в равный ущерб каждому, обмена жилплощади выжала из своих однокомнатных квартир и комнат в коммуналках двухкомнатную для него, и он въехал в нее, демонстративно не обратив на это внимания. Он потратил гонорар на придуманную им декорацию, но когда пригласили на фестиваль в Софию, деньги — с копеечных зарплат — собрала труппа, и опять-таки он этого
не заметил. Однако обостреннее и сильнее всего он ощущал театральность социальную, для которой театр на сцене — только катализатор. Он использовал закупоренность общей для всех жизни как главный, как самый пробивной сюжет, вспыхивающий и начинающий играть в ту минуту, когда в вялую аморфную мглу интеллигентского круга падает самая неудачная его постановка. Событие круг расширяло, он бежал с
бедной, но честной галерки в ярусы, к среднему классу, к таксерам и продавщицам, в партер, к советскому бомонду, сшибался с кругом, накатывавшим извне от власти, и брызги летели во все стороны. Словом, Илья был микротеатрален и макротеатрален, театр же как таковой был для него наилучшим поводом проявить оба эти качества, хотя и наименее увлекательной стороной творчества. Он в высшей степени ценил режим за то, что тот давал ему возможность быть нонконформистом, беря на себя огромную и грязную часть работы.
Дар Саши Квашнина также лежал в сфере не непосредственно искусства, а возникающей от соприкосновения искусства со сложившейся на данный момент системой культурных отношений. Живописный его талант был на пятачок-гривенничек, но он знал, как дорого можно продать то, что дешево, как охотно люди готовы переплачивать именно за дешевое, и прибыль имел всегда в рубль. Начал с портретов под восемнадцатый век, полудекоративных и напрашивавшихся на подпись «кисти крепостного художника». В этом содержался минимум претензии, и это, как оказалось, и было то, чего стоил Александр Квашнин. Потом, не афишируя, подался в сторону Глазунова, то есть большие, с плаката, чуть истеричные глаза, изнуренная плоть, атрибуты страдания в виде рваной рубахи, подпоясанной вервием: русский Христос. И, конечно, резкая, митинговая, моторная декларация любви к
народу, задыхающейся в миазмах чужой нелюбви. По тут и потолок, и финиш были — вот они: тесно, коротко, все перспективы на виду, что есть, что будет, чем сердце успокоится. Глазунову — как раз, а у Саши кисть-то была крепостного, но ведь художника. Да и идеология любви к народу вся заключалась в проклятии
жидов, а он сперва нутром, а вскоре и присмотревшись к мироустройству, учуял, что не тот это путь и не к тому, на который он нацелился, успеху.
И еще учуял, что братцев своих он моложе не на десятилетие, как Ильи, и не на три года, как Миши, а на поколение. Что эпоха поворачивается, но туго, еле-еле, и самое время забежать ей вперед. Он написал три десятка картин, четыре десятка — полуфигуративно-полуабстрактно, «распад материи». «Периоды Квашнина: наивного реализма; постиконописной традиции; распада материи; концептуальный» — как потом назвал это, с его же подсказки, один немчура, нащелкавший в мастерской фотографий и на живую нитку сметавший у себя в Бохуме первый каталог. Распад заключался в том, что Саша теперь довольно механически искривлял линии портрета, вытягивал, завивал спиралью нос, выпячивал губу, подбородок, варьировал рахитичные формы черепа, площадь лица заливал ровным несмешанным цветом, площадь шеи другим, наносил на одежду трафарет фабричной ткани, и везде — на лице, на шее, на одежде, на фоне — прописывал черные, серые, белые дыры с рваными краями, а вырванные куски того же цвета и рисунка, что и части, которым они принадлежали, произвольно размещал в разных местах холста. Он вывесил эти картины на двух «подпольных» выставках в частных квартирах и одной в физтехе, через день закрытой. Не бульдозером, конечно, прошлись, так ведь и не Москва.
Тот факт, что не Москва, был самым главным и печальным. Живопись без скандала мертва — значит, не ошеломила зрение. А в Питере какой скандал: фельетон в «Ленинградском рабочем» да дружинники ночью подожгут дверь мастерской. Что скандал хорош и без потрясения искусством, что годится и имитация скандала, не меняло сути: драка без холстов так же неполноценна, как холсты без драки. Квашнин поехал в Москву и там впервые услышал три слова: гиперреализм, концептуализм, постмодернизм. Два первых были русскими, третье заграничным. Он пометался между Комаром-Меламидом и Кабаковым-Булатовым и осел у брата Ильи — его пригласили ставить Хармса в московском ТЮЗе и прямо в театре, в декорационном цехе, выгородили жилье. Здесь Саша написал первую серию новых вещей, назвав их после некоторого раздумья все-таки концептуальными.
Среди них были три принесшие ему немедленную известность и впоследствии включавшиеся во все обзорные альбомы и проспекты русского концептуализма — «А ты записался в богомольцы?!», «Учение Маркса непобедимо» и «Девичья честь». Первый сюжет повторял знаменитый революционный плакат с призывом идти в добровольцы, но вместо бойца в буденновке и с винтовкой тыкал в зрителя пальцем — и через тем же шрифтом выведенную подпись взывал — непосредственно товарищ Сталин с канонического портрета Ефанова, только одетый как семинарист. Второй изображал классную комнату, за учительским столом стоял Маркс, а за партой сидел мальчик Володя Ульянов с ангелическими кудрями и глазками, как на октябрятских значках: на стене над головой Маркса висел пензовский портрет Брежнева в маршальском мундире за столом, над которым, в свою очередь, висел портрет Ленина уже взрослого. Третий фотографически воспроизводил мухинскую колхозницу с ВДНХ, но совершенно голую и без рабочего, и правой рукой она не вздымала серп, а по-военному отдавала честь.
Михаил был из братьев самый тихий. Не без порывов — например, хотя бы того, приведшего в ранней юности, пусть на короткий и, в общем, доисторический, докультурный миг, но ведь приведшего, к непродуманному псевдониму Кашне. Да и позднее: бросил жену — молодую ради порядочно старшей его. Однажды махнул на Памир: каждое лето ездил в Коктебель и в Пицунду, в дома творчества, а тут вдруг взял в Большом доме пропуск и — в Ташкент, Фергану, на Алай, всего, правда, на две недели, однако же в одиночку, сам. Однажды, когда подвернул ногу и ходил с палкой, на вечере поэтов в рабочем клубе «Труд» замахнулся ею на черносотенца Горчакова, поэта газеты «Смена». Терпел от своих, университетских, оттого же Б.Б., высмеивавших неэзотеричность, на их языке — вульгарность, его стихов, а едва он засаживал, для них же, цитату из какого-нибудь Каллимаха, — поздравлявших с тем, что вот на медные деньги, но не чужд гимназического усердия. Терпел от нас, потому что не нужен он был нам и подозрителен со своим печатанием то в том, то в другом журнале, с книжкой стихов в двадцать один год, с тем, что не одного Каллимаха вставлял в стихи, а и нас, грешных, или, как однажды процедил сквозь зубы Найман: «Мы стихи пишем, а он печатает». Он переставал здороваться, со всеми поголовно, вызывающе отворачивался, фыркал, не уступал дороги, а то начинал задираться, почти оскорблять. Но в целом склонялся к жизни размеренной, уюту, чтению книг, разговорам о литературе.
О Памире написал стихи с некоторым даже политическим вызовом, про то, что добрый маленький холм Тепсень в Коктебеле ему милее снежных пиков, что уж если взбираться, то предпочтительней на горку «эллинским под стать», чем на вершину «бессмысленно нечеловечью», и что восхождение измеряется «не мегаметрами дистанций, а музой обморочной в танце». Помимо дерзко предлагаемого и прямо атакующего революционную идеологию умельчения величественных целей, в «снежных пиках» явственно прочитывались пик Ленина и пик Сталина, к тому времени — Октябрьской революции, а до нее — не то Царя Миротворца, не то генерал-губернатора Кауфмана, и в этом ненужном сопоставлении названий тоже мерцало диссидентство.
Но вызов был не намеренным, намеренной была философия. Не надо великого и не надо крайнего. Революция и всё, что после, произвели великого только террор и крайнего только вранье. Громы и молнии соцреализма выделывались сотрясением листового железа за кулисами прокатных станов. А породил этих монстров ваш большой стиль, ваше грандиозное начало века, курс на священнодействие и трагедию. Великий Блок, великие «нас трое», «нас четверо», «величие замысла» Бродского — эпоха завралась, мы устали. Елеон-то, небось, чуть повыше Тепсеня, Геракл, как подсчитал, кажется, Леви-Стросс, хорошо если метр восемьдесят пять.
Мандельштам — замечательный поэт, может, самый лучший, но только не «в роскошной бедности, в могучей нищете». Это всё котурны: «роскошной», «могучей»; и «нищета» — лишняя. Честно говоря, и «бедность»: ну, бедный, и нечего этим козырять.
И биография ни при чем, эта обязательная нацеленность на несчастье, прямо-таки гонка за катастрофой, эти навороченные один на другой ужасы — небось, какой-нибудь Катулл, какой-нибудь Виллон разве что усмехнулись бы и продолжали играть в бильбоке, как этот, Алоизий Гонзаго. Вот вам и
величие замысла. Пушкин, как всегда, лучше всех: жена-хозяюшка, да щей горшок, да сам большой. И Осип Эмильевич, когда его не тянет быть Александром Македонским, прелестен — «мастерица виноватых взоров» и все в этом роде, прелесть. А вот Ахматова…
С Ахматовой у Квашнина не сложилось. Ему было двадцать, когда кто-то из старших, то ли Лидия Чуковская, то ли Лидия Гинзбург, показал ей его стихи. Творческая интеллигенция — как официально именовали членов Союза писателей и других
творческих Союзов — на него тогда ставила: Горбовский пил и хулиганил, Бродский до процесса, со всеми своими «Холмами», «Шествием» и «Исааком и Авраамом», которые
не показались, был еще не в счет, Кушнера уже любили, но в основном как продолжателя Шефнера. А Квашнин был юн, был поэтом культуры, был класси-чен, и его стихи трогали. Иначе говоря, он был поэтом в аккурат этой самой интеллигенции.
И Ахматова, возвращая стихотворения, не произнесла
ничего, ни слова. А услышав: «Вам не понравилось?» — сказала что-то вроде «с комфортом написано — и, надо думать, хорошим почерком». До него это дошло, приглашения от нее не последовало, и через несколько лет после ее смерти он стал — сперва потихоньку и доверенным людям — говорить: «А все-таки в Ахматовой есть что-то гипертрофированное; такая Маргарита Алигер на троне Маргариты Наваррской».
Он, правда, рассказывал, что у него была с ней случайная встреча, на дорожке в Комарове, ему было пятнадцать, она шла с палкой и он, после растяжения на уроке физкультуры, с палкой, она остановилась и спросила, не Квашнин ли, попросила проводить. По дороге сказала про Гумилева то-то, про символистов и Серебряный век то-то, про Бродского, про Наймана, Бобышева и Рейна, про Виноградова, Еремина, Уфлянда, Кулле, про Красовицкого, Черткова, Хромова, про Горбовского, Агеева, Британишского, Кушнера, Сое нору, про Пазухина, Кривулина, Василькова и Лену Шварц. Что говорила про него, рассказывал сдержанно, в общих чертах, дескать, она очень внимательно следит именно за ними, кому сейчас шестнадцать-семнадцать, они — будущее, и такое, какое ей не с чем сопоставить. К тому времени, когда Б.Б. вернулся в Ленинград, интервью с Квашниным регулярно появлялись в газетах, он вспоминал о той встрече все больше: а не касалась ли она в разговоре Довлатова? Да, да, Довлатова. Сказала о нем вот что. О Веничке Ерофееве тоже, о Саше Соколове. О Пригове, она называла его Митя, он ведь был совсем мальчик тогда.
Палку свою он упомянул в таинственном, явно биографическом стихотворении: «Учителя я тростью поучу, но внятна будет клинопись врачу». Найману пришло в голову, что в конце концов все равно, что он имеет в виду — тот эпизод с замахиванием на сволочного Горчакова или эту прогулку с Ахматовой: главное, что палка — была и, стало быть, на «тростью поучу» он имеет право. Такое, утверждал Найман, у него понятие о реализме в искусстве: он и замахнулся-то на людях, чтобы палку видели, а если честно, то и ноги подворачивал под эти будущие стишки.
* * *
К возвращению Б.Б. Миша Квашнин был секретарем Союза писателей, супервайзером Ленинградского отделения ПЕН-клуба и председателем жюри «Северный Орфей». Б.Б. столкнулся с ним в журнале «Звезда», куда занес статью отца, последнюю перед смертью, «Толстой и Горький». Квашнин выходил из дверей уборной, протянул тыльную сторону ладони, Б.Б. сразу спросил о формальностях вступления в Союз, Квашнин пригласил его на обед, домой. Квартира была большая, не такая роскошная и не в таком роскошном месте и не такая просторная, как у Б.Б., но каждым своим уютным углом, каждым мягким креслом у торшера и даже внушительно уходящим в темноту коридором источающая дух спокойствия и благополучия. Мишин кабинет, с эркером, с книжными полками во всю высоту стен, с длинным письменным столом и высоким бюро, с портретами, в черных лакированных рамках, Шекспира, Данте, Пушкина и Фета, а под ними — его, в рамках металлических, собственными фотографиями с Бродским, с Ахмадулиной, с братьями, с артистом Юрским, походил на кабинет статского советника, как его изображали в кино. Жена, худая и некрасивая ровно настолько, чтобы про нее хотелось сказать — умная, входила и выходила в широких одеждах из черного шелка, похожих на японские.
Поговорили о делах, повспоминали, после обеда вернулись в кабинет, и Миша прочел последние по времени стихи. Может быть, двадцать или двадцать пять. В каждом было обаяние, тонкие наблюдения, опыт вообще читанного и прочитанного недавно, талант и ум. Точнее, талантливость, поправилось в мозгу Б.Б. Ум напоминал… Б.Б. внутренне как бы пощелкал пальцами, чтобы поторопить приход напрашивающегося подобия… ум Чарского из «Египетских ночей». «Наши поэты сами господа». Может быть, когда-то Квашнин эту позу принимал, эту роль разыгрывал — сейчас ее не отличить было от натуры. Уравновешенный, честный, острый — стихи и манеры Квашнина так и подбивали кончить перечисление: пушкинский — ум, но нет: принимаемый за пушкинский, а на самом деле Чарского.
В каждом стихотворении было недовольство чем-то, кем-то, что или кто и впрямь вызывали недовольство. Бродским и его строчкой «судя по письмам, чудовищно поглупела» — за мстительность и деспотизм, Ахматовой, уверяющей, что «поэтам вообще не пристали грехи» — за двойную мораль, Тютчевым с его холодным эгоизмом — за бесчисленные, рассчитанные надам восклицательные «о!», Моцартом — за дешевый эффект со статуей, Армстронгом — за чересчур выпучиваемые глаза, Рафаэлем — за рекламную красивость и даже футболистом Пеле — за то, что публично плакал и заставлял стадион скандировать слово «любовь».
В каждом стихотворении была подразумеваемая, а то и выраженная прямым заявлением интонация: а мы уж как-нибудь уж так уж; мы ведь не моцарты, не ахматовы, мы не броско, зато честно, без «о!», никого не превознесем, но и не обидим, и вообще, в рамках быта, помаленьку.
Б.Б. умел написать стихотворение, но понимал, что Квашнин умеет лучше. Как любой, кто нюхнул поэзии, но не был поэтом, Б.Б. не знал, что она такое, но знал, что — не она. На ум приходили критики начала века, указывавшие поэтам, что такой напиток, как снежное вино — нонсенс и что влюбляться в холодный мех — противоестественно. В Ленинграде широковещательно — а по интеллигентским арыкам и в Москве — Квашнина всерьез ставили рядом с Бродским; дескать, что тот там, то этот здесь. У него были ученики, последователи, его кредо формулировали литературоведы, писали об особенностях его стиля. А если дурака не валять, то ученики, последователи, литературоведы и подавляющее большинство его читателей всеми силами души хотели бы, чтобы поэзия была именно такая, чтобы это и была поэзия. Вместе с Квашниным они опровергали частные случаи конечного и возможного: строчки, жесты, поступки, мысли, не посягая на бесконечное и невозможное — просто не имея о нем представления. «Знали б вы, в какие бездны я глядел, в какие беды» — писал Квашнин, и этого откровения, и этого знания про бездны и беды было в самый раз, а то, что никаких конкретных бездн и бед не предъявлялось, вызывало только благодарность к поэту.
Конфликты и судороги надоели, кровь и грязь, никуда не денешься, были, то есть даже есть, но в искусстве они должны стать знаками, эстетическими знаками. Ни в одном общественном туалете ни одна чистота не удовлетворяла Квашнина, и в «Звезде» Б. Б. поймал брезгливую, недовольную гримасу на его лице в тот миг, когда он локтем закрывал белоснежную дверь журнальной уборной. В общем-то, Б.Б. было плевать, как и что Миша Квашнин пишет и какое место в системе пишущих занимает, но что-то если не пело, то по крайней мере попискивало у Б.Б. внутри, что-то с той давней поры, когда он мальчиком подставлял ухо под стихи молодых старших, которые не обращали на него внимания, ни разу не спросили, сочиняет ли он сам, больше-меньше унижали, но достоверностью и свежестью звука формировали ему слуховой аппарат, раз навсегда настроив на поэзию эту звенящую в нем струнку. Квашнин прочитал:
Жена, нося тугие кителя,
ремни и гетры, прибавляет в шарме,
и даже плащ «шанель» ее — а-ля
шинель. Как будто я живу в казарме.
Б.Б. подумал, что бы сделал с этим Катулл, или Бертран де Борн, или Донн, или, в конце концов, Куз-мин, каким пропиталось бы это дурманным настоем мускуса, пота, сбруи, страсти, крепких мужских тел.
Поэзия — щедрость и дикость, — чья это строчка? Тарковского? Позднего Заболоцкого? «Ни тени бесконечного, ни намека па невозможное, — точками и тире выписывал независимую от сознания телеграфную ленту писк из-под ребер. — Щедрости — на копейку. Дикости — какая еще дикость? — дикости ноль. Все дрессированное. Вы тут опупели! Вам неправильно сказали, что такое поэзия!» И вдруг Б.Б. дернулся, как во сне, не поняв, думал он все это — или произнес вслух.
* * *
Так что не заладилось у Б.Б. с новой реальностью как сказал после его ухода Квашнин жене, а жена, главный редактор нового журнала «Петербуржанка», назавтра двум своим заместительницам. Словно вирус забрался, он не заметил когда, в сознание, мозг докладывал: занятия, дела, карьера, мысли, соображения — отнюдь не кончены, развиваются, множатся, но жизнь — кончена. Наверное, это и имел он в виду, когда звонил мне по телефону после освобождения, чтобы сказать, что «почти всё позади, хотя почти всё еще впереди». Сорок четыре года, или сколько уже ему там было, сорок пять? — не возраст, да, да, да — для дел, для планов, для положения в жизни. Но жить — не начинать, не проектировать и получать результат, не готовить жизнь, а просто жить вперед, ну потому что живешь, как жил в двадцать, тридцать и даже в сорок накануне посадки, когда и начинал, и проектировал, и готовил с естественностью человека, который как сейчас, например, Миша Квашнин живет и живет, сорок пять лет живет и, значит, будет дальше жить, — поздновато. Вирус неболезненный, но никаким способом, никакими доводами, насмешкой и забытьем не изгоняемый.
Психологически он чувствовал себя непобедимым, несокрушимым, сильнее любого, с кем сталкивался и кто приходил на ум. Он ощущал в себе мощь, которая одолеет отцово завещание, не говоря уж о сопротив лении Ники, питаемом не желаниями, а принципами, и потому хилом. Все приходящие в голову издания, членство в приходящих в голову союзах и клубах, защита докторской, место в университете, новый автомобиль «Фольксваген», все, что он предпринял или собирался предпринять, — было таким же верняком, как получение на контроле товара, оплаченного в кассе: выбрать, отстоять небольшую очередь, подойти с чеком к прилавку сколько времени это может занять? Он сознавал себя чемпионом, не суперменом — чемпионом, но заведомым чемпионом, таким, который заказывает первую высоту после того, как все уже сошли на более низких. И вот эта-то заведомость делала соревнования бессмыслицей. Он попадал в порочный круг: участвовать в них, наперед зная, что победишь, — тоска, а победить не участвуя невозможно.
Три новых события, случившихся одно за другим на протяжении полугода, еще дальше и еще более властно отбросили его и от людей, и от нервного столба жизни, которую активность этих людей воплощала. Он приехал в Манчестер на симпозиум по делам Советского Союза и Восточной Европы. Никто его специально не звал, но после трех-четырех звонков нужным людям приглашение прислали, кого-то он нанял ходить в ОВИР за паспортом, кого-то — ездить в посольство за визой. Я туда тоже залетел — бывшая жена устроила. Участников собралось полтысячи, не то тысяча со всего мира, и ясно было, что если пошу-стрить или, как недавно стали говорить, подсуетиться, то можно выковать цепочку сменяющих друг друга конференций, съездов, визитов с лекциями на несколько лет вперед, а при верной ориентировке и поведении, так и вообще попасть в хорошую компанию.
(Наймана в это время пригласили в Загреб, конференция по Андрею Белому, предложили тему «Белый и Ахматова». Был постоянный, хотя и негласный, совет организаторов с центром в Женеве, специалисты по русскому символизму под легким штейпериапским соусом: Доктора чтили, но Вячеслава Иванова никак не меньше. Назначали конференцию раз в год, всегда в новом месте, для чего в совет принимались представители из разных стран и городов, люди влиятельные: университетские завкафедрой, деканы. Найман все сказал как надо про паладина в «Петербурге» и в «Поэме без героя», залился соловьем, всем понравился. Но на одном из обедов, выпив лишку сливовицы, сказал, что Сологуб — вот кто поэт, и все заулыбались одобрительно, потому что следующий слет, в Севилье, посвящался как раз Сологубу, и тут он прибавил, хотя за язык никто не тянул, из соображений, как впоследствии объяснял, «триумфа честности и чтоб знали», что и поэт превосходный, и «Мелкий бес» чудный, но что пьесы, все эти «Навьи чары» — кошмар, невозможно читать. А пьесы-то и намечались быть ударной частью в Севилье, и не попал Найман в разъездной шапито.)
На третий день пришла в Манчестер телеграмма от Ники из Филадельфии о том, что ей позвонили из Ленинграда, что умерла мама. Билет у Б.Б. был железнодорожный, то есть поездом до Харвича, паромом в Хук-ван-Холланд и еще двое суток поездом через Москву в Ленинград. Он купил авиа, туда и обратно, как потом выяснилось, — и через три дня вернулся обратно на симпозиум. Кто знал, были шокированы все, кроме меня. Мать очень сдала за последние месяцы, Б.Б. нанял постоянную сиделку, та по утрам сажала ее на полчаса-час в кресло, остальное время постель. Уезжая, Б.Б. с ней простился. В Ленинграде, кроме как похоронить, делать было нечего, тем более вести с желающими банальнейшие разговоры о смерти, а в Манчестере оставалась еще неделя заседаний, панельных и пленарных, а обратный билет был и вовсе на еще через полмесяца: предстояло встретиться с теми, кто до ареста вел его дела за границей.
Я перед отъездом зашел к нему в общежитие всех, кто прикатил за счет организационного фонда, поселили в студенческих общежитиях: тесные комнаты на две или четыре койки, общая ванная и уборные в коридоре, там же телефон-автомат. Я сказал, что соболезную, что мне его мать нравилась, не говоря о том, что я мало кого в жизни знал тридцать лет, и царство ей небесное. И Фене, сказал он, Феня вчера умерла, Ника позавчера ночью на этаж позвонила. Чтобы не глядеть на него, я стал глядеть в окно. Он походил по комнате, выдвинул ящик, пошуршал, расстегнул-застегнул молнию на сумке. Я повернулся, сказал, что ладно, я пошел. Тогда он проговорил: «Мне сиделка рассказала, что мать стала задыхаться, та ее приподняла, подоткнула подушки, и вдруг мать с изумлением на нее посмотрела и также с изумлением произнесла: “Я умираю. А где…” — и умерла. Я думаю, она это про меня “а где”. Как вы думаете?» Я не ответил, но и взгляда не отвел. «Интересно, а Феня про меня вспомнила? Как вы думаете?» Потом прибавил: «Я на обратном пути хотел в Амстердаме остановиться, а сейчас уж… Расхотелось. У вас, кстати, нет там знакомых, у кого удобно было бы дня на три остановиться?» Я решил не улыбнуться, просто помотал головой.
Осенью он пригласил меня к себе на обед. Оказалось, и Наймана, который приехал из Москвы и где-то с ним случайно пересекся. Найман сказал, что вот-вот собирался мне позвонить, завтра, что не любит звонить, если не знает, когда точно может повидаться. Б.Б. о нашем необъявленном охлаждении не догадывался. Да и охлаждения — как охлаждения до этого, по сути, не было, сформировалось как раз на обеде, точнее, по окончании.
Обед подавал, то есть приносил с кухни, седовласый тип в белой накрахмаленной рубашке с черным галстуком-бабочкой. Он не проронил ни звука, Б.Б. его не представил, мы сделали вид, что застолье с мажордомом обычная наша практика. Обед походил на столовский, даром что на фарфоре, зато вино какое-то такое настоящее, что, выпивая, хотелось креститься. Найман спросил, не легендарная ли это марсалочка юных лет, Б.Б., усмехнувшись, ответил, что из тех же погребов. Тип величественно подал мороженое и ушел, хлопнула входная дверь, покинул апартаменты. Б.Б. наконец доложил, что подобрал его в больнице, некуда человеку было деваться: «Сперва показался стариком, а как развернулся! Не пропадать же добру».
Он сварил кофе, мы с чашечками перешли в кабинет отца. Говорить было не о чем, Найман рассказал смешную историю про негра, с которым он познакомился в Нью-Йорке, который не пил кофе, потому что расизм, и анекдот, как двое на бегу с выпученными глазами сталкиваются на улице, один спрашивает: «Нужен вагон алюминия?» — второй: «Сколько?» — «Миллион». — «Годится». — «Завтра на этом месте», и один бежит искать миллион, а другой — вагон алюминия.
Я уставился в окно на Фонтанку, на катера с шашечками такси, это было новенькое, частная инициатива на базе общественной пристани. Найман стал рассматривать книги, покосившиеся на полках с пустотами, — видимо, дележ с помощницей отца уже состоялся. Тишина продолжалась минут десять, никому не мешала. Вдруг Б.Б. произнес, нарочито чужим, скрипучим голосом: «Может, сыграем в Фердыщенку? А то ведь у нас друг о друге сведения крайне фрагментарные. Больше представления, нежели знания. И представления такие, что я, например, плохой, а вы хорошие». Найман засмеялся: «Более или менее. А разве не так?» Мы вернулись в кресла, Б.Б. сказал: «Я и начну».
Он рассказал, как в молодости хотел познакомиться с Шостаковичем, на велосипеде приехал в Комарово к нему на дачу, домработница сказала, что хозяин только что отправился в Репино в Дом композиторов. Б.Б. ринулся вслед, у ворот Дома композиторов увидел «Волгу», шофер подтвердил, что да, Дмитрия Дмитриевича. Б.Б. вошел внутрь, сунулся туда, сюда, заглянул в бильярдную. Там играли двое, с одним Б.Б. был знаком с детства, потом вместе учился в университете: сын профессора консерватории, пианиста. Сын профессора заговорил с ним по-французски, сказал, что играет с вахтером, кагэбэшник, известный стукач и сволочь, игра на деньги, и тот бильярдист хоть и никакой и по шарам лупит хамски, по простые позиции использует на сто процентов, выиграл уже две партии, и давай ты вступишь третьим, в очередь передо мной, через раз будешь делать подставки, я — забивать, выручку пополам. Б.Б. привело в восторг то, что они говорят по-французски — по-французски: два виконта ставят на место простолюдина, который может — и должен, поскольку плебей — только хлопать глазами на господ. Все вышло по плану, и когда вахтер с черными корявыми пальцами и красными припухшими веками проиграл в третий раз, то вывалил прямо на сукно мятые рубли и мелочь, сосчитал, сказал, что будет должен трешку, и прибавил: «А теперь пошли, ученые джентельмены, ко мне в котельную, поучите меня, как по-турецки договариваться, пока я лопатой машу». Когда он ушел, они очень веселились, Б.Б. спросил, при чем тут котельная, приятель, смеясь, признался, что тот действительно бойлерщик, ну кочегар, но иногда его ставят вахтером, а вахтеры все стукачи. Они поделили выигрыш, в общем, копейки, и особых переживаний у Б.Б. не было и нет, но остался осадок — именно то, что они говорили между собой при нем по-французски и что Б.Б. этому так идиотически радовался. И еще что у кочегара была неприятная внешность, ничего от шута, каковым ему хоть капельку полагалось быть по роли, отчего и у них не получилась веселая роль двух куртуазных дворян, облапошивающих придурка-виллана.
Я спросил: «Шостаковича получили?» — «И Шостакович сорвался. Из бильярдной вышли — машины нет».
Ну что ж, история гнусненькая, но и у меня было две-три таких в запасе. Я рассказал про кошку. Мне девять лет, родители взяли к кому-то в гости. Коммунальная квартира: сто семей, двести конфорок на кухне, длинный коридор с велосипедом на стене. У кого-то из соседей кошка, я хотел погладить — четырьмя когтями от локтя вниз, до мяса. Зайодили, вышел отомстить, замахнулся ногой — с жутким визгом впивается в голень, взрослые: да что это такое, что за зверюга, да ты, наверное, к ней приставал. Сижу в комнате, и тут приспичивает в уборную, пописать. Но боюсь:
с опаской выхожу в коридор, высматриваю, где она, и вижу, сидит в коридоре на карнизе, окно распахнуто. Жмусь к стене, она за мной следит, не шелохнется. И тогда я: шшшшить! — делаю выпад, и она прыг — с карниза на соседний, с внешней стороны степы, с дворовой. А я продолжаю идти по коридору и, стало быть, через шаг появляюсь у карниза, на который она перепрыгнула, и опять: шшшшить! И она обратно, но обратно-то надо описать полукруг, когтями передних лап чирканула по железу — и с воем с четвертого этажа вниз. Оглянулся, на кухню зашел — никого. Пописал и с ясными глазами вернулся.
Найман сказал: «Бывает». А Б.Б.: «Как же это вы так неудачно! Или вы так и хотели?» — «Хотеть не хотел, но был не против». Найман продолжил: точь-в-точь у него вышло со змеей. Шел по лесу с детьми вдоль дороги, собирали чернику. Вдруг дети закричали — змея. Он схватил палку, подбежал. Змея мирно уползала, может быть, даже уж, но он не рассматривал. Изо всей силы ударил, целил в голову. Она стала судорожно извиваться на месте, он давай молотить. Искромсанную отнес в яму, детям сказал, что гадюка и хотела броситься; что они в это время очень агрессивны и особенно ядовиты — себе, главным образом, внушал.
Я ждал, когда он кончит, и сразу вставил: «Теперь историю». — «Л эта не подойдет?» — «Эта — моя про кошку. К тому же дети — полсвинства долой».
Он сказал, ладно, был у него в институте романец с преподавательницей политэкономии. Постарше его лет на десять. Вялотекущий, через месяц спокойно разошлись. Потом началась эта история с газетой «Культура»: кого исключили, кто ушел в другой институт, кто в академический отпуск, и ему в деканате намекнули, чтобы уходил — что сессию сдать не дадут. Он уперся, знал, что завалить может только политэкономию. И перед экзаменом бывшей своей крале позвонил и на два дня снова закрутил любовь. Она подтвердила, что указание насчет него есть, и не из деканата, а из парткома, и спасти его может чудо. Тем более что на кафедре говорят, что предмет он знает по верхам, неглубоко. Тут он и предложил ей прийти на экзамен и самой убедиться в его знании предмета. И гем самым упомянутое чудо сотворить. Ее доводы «против» и его «за» произносились скорее формально, если учесть, что накануне экзамена он остался у нее ночевать и утром в институт они ехали в одном трамвае. Она устроила так, чтобы подменить экзамен гора на время обеда, дала Найману знак, чтобы без очереди шел отвечать, и поставила четыре.
И после этого он с ней только раскланивался, если видел в коридоре.
«Она была коммунистка», — уточнил я. Найман кивнул. «Ты мне про нее рассказывал, у нее были металлические зубы». — «Один», — сказал Найман. «На Фердыщенку не тянет, — подал голос Б.Б. — Ничего
особенно стыдного не нахожу. Со змеей и то получше». «Подожди, — сказал я Найману. — А ты рассказывал про этот экзамен, что по совпадению на первый вопрос твоего билета кто-то отвечал, пока ты готовился, и второй был задан другому как дополнительный, а на третий, я даже помню, про функции рынка при социализме, ты понес наукообразную ахинею, имея в виду наш Кузнечный рынок. Смешной был рассказ. И никакой партийной возлюбленной». — «Вот именно, — сказал Найман и повернулся к Б.Б. — Сочтите за прибавление подлости. Специально придумал историю». — «Ту или эту? — спросил я. — Нет, давай-ка, братец, что-нибудь стоящее».
Я лез на рожон и с «братцем», и с зубами, и сделав вид, что история про змею не в счет. А как тут не полезть на рожон, когда сидит в кресле Б.Б., сидит в кресле Найман, я сижу в кресле, как будто нам так и полагается, как будто мы просто три нормальных человека, три товарища после веселой мужской вечеринки, обслуженной театральным метрдотелем в парике, три старых друга. А не Б.Б., который всю жизнь просидел на жизни, как на раскаленной плите, а жара не чувствовал, прогулял по головам людей, как татарин по пленным князьям, и продолжает чего-то химичить, а если нет, если ему сейчас, как мне, то не желает он ни со мной, ни с Найманом этак, в
нормальной беседе, время проводить, как и я, и, само собой разумеется, Найман с ним, почему и завел он эту игру в рассказы, которые своей пакостью хоть на шажок, но делают нас ближе к пакости внутренней и той, что вокруг, куда ни посмотришь. Не Найман, который знал, как жить, когда, в общем, жить не давали, а заставляли, или ему казалось, что знал, но, во всяком случае, жил и учился называть вещи их именами, а теперь все оглядывается назад, ищет там ориентиры, ищет знакомых и в них ищет геройского и, как тогда не хотел смотреть вперед, так и сейчас не смотрит, однако все время что-то делает, а что' — понимает, опять-таки на сделанное оглядываясь. Не я, которому невыносимо признать — а как не признать? — что набор возможностей человека — и моих как такового — что угодно предпринять — ничтожно куцый: поступать честно, поступать бесчестно, встречного любить, не любить никого, сходиться со всеми, ни с кем, прочесть то-то, нет, то-то, а этого ни в коем случае не читать, или, плевать, все-таки прочесть, или пускай
плотничать, или валяться на диване, и так далее, сколько чего ни придумай — всё вокруг нуля; а возможности жизни невероятны, бесчисленны, вот именно что что я ни решу, ни сделаю, так или наоборот, ей одинаково хорошо, плохо, безразлично, и вот я со считаными моими жизненными предприятиями кончаюсь, а она, румяная от похода, от своего великого похода, идет, веселая, в свою прелестную даль.
«Хорошо, — проговорил Найман. — Чтобы не ссориться. Соглашаюсь, и, как сказал Веллингтон бывшей любовнице, будьте вы прокляты. История с… имени произносить не хочу, просто в
этой истории не хочу, а так — пожалуйста. Вы оба имя знаете, но придется уж и вам воздержаться. Собственно говоря, не история, а ее конец. Стало быть, двадцать пять лет тому назад одна молодая женщина приехала из Англии, и мы сразу подружились, и чем дальше, тем сильней, и год от года становились все ближе друг другу — именно дружа. Мы стали из самых близких людей один для другого». — «Я однажды просил ее привезти мне альпеншток, не так ли?» — сказал Б.Б. Я подхватил: «Я помню. Она сказала: «С какой стати?» — «Да. Странный ответ». — «Просьба странная». — «Не понимаю. В Советском Союзе достать хороший альпеншток было невероятно трудно, а в Лондоне проще простого». — «Слово в слово. Это самое вы ей говорили двадцать с чем-то лет назад. Повторили раз пять кряду». Найман сказал: «Мне продолжать?»
Она вышла замуж, уехала в Австралию, родила двух девочек. Несколько раз в год писала письма. «Во вторник на почтовый ящик сел попугай и отчетливо по-русски произнес: «Ни фига себе!» В какой вторник, на какой почтовый? Русское преследовало ее. То на испанском островке Форментера старик-лодочник оказался из донских казаков, то в деревню на Гавайях, куда она прилетела помогать жене брата рожать, кинопередвижка приехала с американским фильмом «Один день Ивана Денисовича». Не говоря о том, что ее докторская диссертация была об Ахматовой, и первую в мире ахматовскую биографию она написала, и уже в Австралии из почтового ящика, на который садятся попугаи, она вынимала письма с вопросами о ней. «Она была лично знакома с Ахматовой, — комментировал Найман, — а та личных знакомств из-за такой помехи, как смерть, не прерывает, это я вам как специалист говорю».
«На ахматовское столетие она и прибыла, больше тридцати часов летела. Остановилась у нас. И в первый же вечер, когда мы втроем, она, жена и я, пили чай, сказала, что у нее рак легких, запущенный, неоперабельный, и врач считает, что в августе она умрет… Сидит румяная, крепкая, светлая и произносит эти вещи — как будто слова сами по себе, а действительность сама по себе. Минуту молчим, не шевелимся, потом спрашиваю бессмысленно, не мог ли врач ошибиться. Да вроде нет, и рентген, и формула крови. Хотя и аппетит есть, и вес без изменений — только устает все быстрее.
Так проходит неделя. Всё обыкновенно, как всегда, те же, что и всегда, разговоры, те же темы, прогулки, гости. Ничего специального, разве что сказала, что написала автобиографическую книжку, привезла с собой экземпляр рукописи, хочет, чтобы я до ее отъезда прочитал. А, как назло, в тот же день, что ей лететь домой, нам, всей семьей, ехать в Италию, в первый раз в жизни. Ту же четверть века всё к нам ездили наши римляне, миланцы и венецианцы, и вот мы к ним. Беготня по инстанциям, очереди на обмен денег, сборы, волнение потому что за пятьдесят лет никуда дальше Риги не уезжали, — и я ей: да, да, обязательно прочту, вот только когда успею? Она еще пару раз заводила об этом речь, говорила, что пока писала, поняла что-то из того, что мы с ней эти двадцать пять лет в разговорах, в болтовне и в письмах хотели понять; что беспокоится, ясно ли будет дочерям то, что она написала, ясно ли и достаточно ли важно, так что если они ко мне вдруг обратятся — потому что там есть про то, чего мы вместе касались, а иногда и выговаривали, — так чтобы я попробовал им, как могу, рассказать. Я — и не на бегу даже, а сидя против нее на диване и никуда не торопясь, а все-таки как на бегу: да, да, обязательно, и потом не последний же раз мы сейчас говорим. И это было не приличествующее ее раку ободрение, а выражение искренне принятой сердцем и мозгом невероятности рака, если всё так обыденно нормально, а против этой нормы — единственно слова какого-то австралийского, то есть еще более экзотического — читай: несуществующего, — чем попугай, врача. И до отъезда больше она про это не напоминала.
В Союзе писателей ей обещали прислать машину за три часа до самолета, за пять — до нашего поезда, а прислали за полтора. Я был взвинчен до крайности, какие-то телефонные звонки, такси нам к поезду заказано, но мы наше такси знаем. И ничего сильнее уже не хотел, чтобы пришла наконец за ней машина, чтобы мы поцеловались и сосредоточились на своих делах — выключить газ, закрыть окна, опять проверить паспорта, деньги, ключи, не застрять в лифте. Черная “Волга” просигналила, мы спустились во двор, и так я и простился: что-то вроде “ну, счастливого пути” и “до скорого”. Как будто путь был до дома и мог оказаться несчастливым. И! теперь в Италию!»
«А не в тот ли вечер я пришел к вам с тортом? прорезался Б.Б. — Вы действительно неправдоподобно нервничали и даже…» — «…выбросил ваш торт в мусоропровод, поддержал Найман. — Нет, это я неправдоподобно нервничал лет за семь до того. Мы тогда уезжали на все лето в Латвию, вы позвонили, что
забежите перед отъездом, я сказал “нет”, но вы, естественно, забежали». — «И вы съездили в Италию», — вернул я его к теме. «Ну да. Полтора месяца восторгов, потом воспоминаний о восторгах. Потом письмо от ее сестры — умерла. В августе». — «Так она умерла? — сказал Б. Б. — Я не знал, первый раз об этом слышу».
Найман встал, опять подошел к книжным полкам, что-то полистал; к окну, тоже уставился на пристань. Или на текучую воду — кто знает? Смотрел, смотрел, сказал: «Счастливо оставаться», и вышел, щелкнув затворами, из квартиры.
Б.Б. промямлил: «История похожа скорее на меня. Если я правильно понимаю, вы и Найман ведь считаете, что вот так поступать это в моем духе. Ан поступил — он. И продемонстрировал мне, какие должны быть угрызения совести. У меня бы их не было, это правда. Ручаюсь. Фердьиценкой здесь вовсе и не пахнет. Но кое-что свое я про вас обоих выяснил — это интересно, Германцев». — «Ну вот, и счастливо вам оставаться», — повторил я и тоже легко открыл все три запора на двери. Я не испытывал к нему неприязни: от начала, от дней творения, жизни известно, что кому хорошо, что плохо, этому —
это, а другому прямо наоборот, а ни этот, ни другой ничего про себя не знают и знать не могут, и, например, то, от чего Наймана и меня в Б.Б. с души воротит, то Б.Б. с его уникальной конституцией, с установкой органов восприятия на зеркальность, с огнеупорной задницей и челюстями, которые не берет кариес, — спасение, причем единственное.
* * *
Героем третьего события стал я. Ученик «бывшего» Фридриха, свояка Б.Б., «злой мальчик» — не тот, что дал ценные сведения следствию и уехал собкором в Софию, а второй — открыл журнал, «Катарсис». Дескать, очищение после семидесятилетней трагедии, но очищение не от официальной только, человеконенавистнической лжи, а и от отравившей сознание и идеологию тех, кто официальной противостоял. Он мне позвонил: «Никто кроме вас… кто как не вы… вам все карты в руки…» — и я написал пять страниц под названием «Гуманитарные науки и практики». Журнал закрылся на первом номере, с моей статейкой. В ней я между прочим помянул нашу гордость, элиту и святая святых, наших семиотиков — гуманитарных вождей последних двух десятилетий — и те достойнейшие цели, которые они преследовали, помянул в том смысле, что большая и активнейшая часть их, во все это искренне, по ошибке или вынужденно, ходом вещей, поверив, стала говорить о себе в третьем лице, составлять каноническую историю «школы», в пол- и в три четверти голоса заявлять об интеллектуальной, а то и творческой исключительности, указывать на свое особое положение в культуре. На фоне официальной казенной филологии так оно и было, но кто ж им велел выбирать такой фон!
И дальше следовал абзац, что со стороны можно было заметить под этим — опять-таки у большей и активнейшей части — желание научного и социального благополучия: признания одновременно в кругах «своих» и «их», установление внутренней ученой иерархии и субординации, которой следовали бы и внешние, корпоративной солидарности с элементами круговой поруки. Ибо никакому объединению, даже лучшему, каковым являются семиотики, не избежать
стайности, и если, к примеру, в Союзе писателей она настолько на поверхности и настолько вульгарно волчья, что не обсуждается, то обнаружить ее среди
лучших все-таки представляет определенный интерес. Когда, писал я аккуратно, один из коллег, какой-нибудь Н.Н., отбивался, вел себя, не сообразуясь с уставом, столбил несколько участков в разных областях или даже уходил, хотя и не бросая возделывания научных грядок, на вольные хлеба, в риск несколько больший, чем публикация в голландской «Russian Literature», например в букинистический и коллекционерский бизнес, который у нас всегда предприятие полуподпольнос-полуразбойное, то наша гордость, элита и святая святых, чуя угрозу всей антрепризе, могла вольнодумца исторгнуть и предать сатане, в частных случаях волей-неволей подтягивая вторым голосом официальному хору…
И пошел гром по пеклу. Самим на это отвечать, мне много чести, и предмет тонкий: мол, не было тяги ни подспудной, ни какой к благополучию, не было самомнения и самодовольства, и корпоративность выдумана — как-то неловко звучит, а ловкие слова никак тут не подворачиваются. Дело идет об эпохе в отечественной филологии, а тут что-то вроде дрязг. Да и про Б.Б. многие, слишком многие, в следственных протоколах про чуждость научных и жизненных позиций и личную неприязнь честно расписались. А вот что Германцев поднял руку на нашего товарища по цеху, сотрудника и, можно сказать, подельника — и когда! — когда он, оклеветанный
софьей-власьевной, только что отмучился в ее застенке, вот этого так оставить нельзя. Потому что Н.П. — это ведь Б.Б. И тотчас в газете фельетон, и в нем: на что замахиваешься? Свобода — это ответственность, и мы не дадим неизвестно кому (то есть мне) шельмовать крупнейшее гуманитарное течение в науке (тогда «гуманитарным» было все, убойное слово, месяца три) и его конкретных представителей — и дальше черным по белому: Н.Н. это Б.Б. Подпись: Аббакумов, канд. фил. наук, иподьякон — черным по белому. Название фельетона «Пакостник», то есть я.
Когда писал про науки и практики, я знал, что даром мне это с рук не сойдет, но что от меня будут Б.Б. защищать, не додумался, дурачок. Одним разом отыгрывалась — и много превосходилась — сумма очков, записанная на уважаемую компанию после преферансной партии с Б.Б. Получалось, это не я, пока сам не сел, его переписочкой раз-в-полмесячной
поддерживал, и не я сел а Аббакумова и их всех
чуть не посадили: всех, кто после преставившегося родами «Катарсиса» обрывал у Б.Б. трубку и накачивал против пакостника Германцева. И ничуть они, получалось, не против рискованных спекуляций, особенно букинистическп-коллекционерских. Купить Б.Б. это, по моим понятиям, не могло — все-таки абонент п/о Копально, — но что в круг петушиных боев выбросили меня и его, от этого настроение упало.
Тут он мне позвонил. «В вашей мерзкой эссее вы выставили меня уголовником…» — и так далее, слово в слово по тексту возмущения, выраженного Бродскому, до угроз не то вызова в суд, не то передачи в руки наемной братвы. И под конец, изображая блатную интонацию: «Это у меня, знаете ли, лагерное». Хотел я ему насчет прямой кишки с кривой резьбой и болта с обратной нарезкой вставить, но от накатившей тоски послал, не мудрствуя, все на то же хэ. Вдруг мне показалось, что он потому такую стрелку выбрал, что не мог не заметить, как выцвел за после лагеря в глазах публики, и на скандальчике со мной хочет сколько-то подновить репутацию. Через день я получил от него первое письмо: ксерокс кансоны Пейре Видаля против клеветников, в переводе Наймана. Через неделю второе: что-то такое же Виллона. И, как сумасшедший, зарядил он раз в неделю мне
давить на психику — то лн прочел про это где-то, то ли из кино, — при его переписке, письмом больше, письмом меньше, разницы нет. Общие друзья, как полагается, приняли участие. Встретил жену Миши Квашнина: блестящая статья, блестящая, и вы, Германцев, блестящий, блестящий. Этого, ответил ей, и держитесь: чтобы не пришло кому в голову, что во мне может быть что-то кроме блеска. Тополянский в своей манере «забежал по дороге»: «Все об этом деле говорят. Говорят, готовится ответ за всеми подписями, громовой. Это слава, это слава. Вот только не геростратова ли?» «Храм-то где?» — «Гениально. Храм-то где? Надо, чтобы все это знали».
Позвонил «злой мальчик»: сообщить, во-первых, что «Катарсис» тю-тю, а во-вторых, читал ли я его «комментарий» к этой истории. В той же газете, где «Пакостник», напечатал он столбец, что, дескать, вам бы, козлам, помолчать; где вы были, когда Б.Б. замели и мы с его матерью посылки ему собирали и в зону книжки слали? оказывается, он и был четвертым, кто от Б.Б. не отрекся. И вообще, неужели вы думаете, что может подобраться такое избранное-разизбранное общество умниц и талантов, хоть во главе с Платоном, хоть с Пушкиным, чтобы в нем немедленно не проявилась глупость, мелочность, претенциозность и проч., не расцвел весь букет смешных слабостей и пороков, которыми равномерно наделено все человечество! Б.Б. - единственный из вас, кто хоть вел себя натурально. Я сказал: «Вольно!» В смысле — расслабиться.
* * *
Письма Б.Б. я перестал вскрывать начиная с четвертого, решил, потом как-нибудь разом прочту. Когда Б.Б. реинкарнируется собакой или, наоборот, Анубисом. Он ведь и реинкарнацию из веры своей не исключает —
надежд больше. Разочарованно прибавляет, однако:
каких, с другой стороны, надежд-то? — и переживает что-то, что у людей могло бы зваться отчаянием. Весь диапазон реинкарнаций-то — от ящерицы до пусть Эйнштейна: безвыходность.
После разрыва и при еженедельном конверте с его почерком я стал вспоминать его много чаще, чем прежде. Он стал мне регулярно сниться, всегда по одной схеме: обвинял меня и угрожал, но не всерьез, скорее иронически, я оправдывался и просил прощения, искрение и с какой-то нежностью, которой в реальности не было в помине. Мы быстро примирялись, и тут приход!!л о объяс I iei и ie, почем у нежность. Тень объяснения оставалась на короткое время после того как просыпался: его уникальность, такого не возобновишь, а ведь не напиши я про Н.Н., не лишился бы. С каждым сном я все сильнее к нему привязывался и, смешно сказать, тосковал: «Мне вас не хватает», — говорил в конце. Это, конечно, чепуха все эти сантименты во сне, но и наяву я жалел, что его так уж совсем не стало. Все, что я теперь про него знал, доходило от Наймана: сердечный маятник Б.Б. как будто откачнуло от меня к нему.
По Найману выходило, что астральный, или какой он там был, маятник Б.Б. повело от непосредственного взаимодействия с людьми к
энергетическому. После тех послеобеденных откровений моя с Найманом связь окончательно замерла — не из-за самих откровений, а по их сигналу: поезд и так останавливался, но они включили красный. Однако накопленный за целую жизнь заряд обеспечивал прежнее участие и понимание друг друга с полуслова. По его словам, разочарование Б.Б. в общении с людьми достигло высшей точки после еще одного обеда — с Тополянским и отцом Павлом. Фердыщенке взяться было неоткуда, и за кофе неуправляемый разговор свернул на стихи: они попросили Б.Б. прочесть его тюремные стихи, он прочел, и тогда они стали читать свои: Тополянский умные и остроумные, отец Павел — просто юмористические. Хотя выглядело это, хм-хм, несколько бестактно, Б.Б. поулыбался, но они перешли к замечаниям, достаточно профессиональным и проницательным, относительно той или иной строчки всех прочитанных стихов: и их, и Б.Б. Тогда Б.Б. спросил, делают ли они разницу между стихами и поэзией. Не то чтобы в его стихах больше поэзии, или поэзия делает стихи лучше, может быть и даже наверное, их стихи лучше его, но в его есть поэзия, может быть и даже наверное, никуда не годная, а в их нет никакой.
И тот и другой потребовали объяснить на языке, понятном любому — например, хотя бы только что покинувшему их общество седовласому кельнеру, распоряжавшемуся обедом, — что это такое, в чем конкретно, в каких сочетаниях слов заключается поэзия в отличие от стихов. Б.Б., разумеется, не смог, и Тополянский взял на себя определение искусства, а именно: искусство есть соединение, сочетание и сопоставление — возможно более тонкое по причине возможно более дальнего разобщения, то есть трудно, но не безнадежно трудно уследимое и анализируемое — механизмов воздействия на нервы, интеллект и налаженные ими и между ними связи… Или, подхватил отец Павел, соразмерность элементов, хотя и бесконечно далекая от — но в определенной мере отвечающая высшей духовной гармонии. И из обоих определений, кончили они чуть не хором, следует, что разницы между искусством и результирующей формой, которую оно принимает, найти не представляется возможным, — иначе говоря, стихи и есть поэзия, и вне стихов поэзии не существует. И прочли еще несколько остроумных и забавных стихотворений.
Вместе с Кашне это было чересчур. Вместе с обедом нашим это наводило на мысль, что присматриваться для подражания больше особенно не к кому и не для кого вообще устраивать обеды. Это было лишнее, действительно лишнее доказательство того, что со смертью отца и матери он освобожден от необходимости разговора враждебного или сочувственного — с индивидуальным человеком, а с человеком, занимающим «место», можно говорить как с функцией «места», на
автопилоте. Вместе с завещательным отказом отца это утверждало Б.Б. в том, что число таких мест, бессчетных мест, куда на протяжении жизни он был приводим своими бессчетными материально, интеллектуально или душевно прибыльными интересами, стало складываться простым дикарским загибанием пальцев на одной руке, причем до завершения кулака дело так и не доходило. А на тех, кто занимал эти три-четыре, плюс на кого-то, кто случайно придет на память, за глаза хватало общения
энергетического.
(Еще, правда, было «Учреждение 6 Леноблздравотдела» санаторий-интернат для детей с врожденным уродством. Он стоял в лесу, в километре от его дачи, за глухим бетонным забором, и однажды белой ночью, уже под утро, от бессонницы выйдя побродить, Б.Б. влез на сосну, нависшую над забором, и спрыгнул во двор. Зачем — он не знал, но действовал так целеустремленно, как будто знал. Шаг сделался легким, дыхание коротким и неслышным, он, как не то грабитель, не то призрак, обошел здание, выбрал дверь на кухню, проскользнул внутрь, попал в главный коридор и медленно, на носках, стал двигаться по нему, замирая у стеклянных дверей палат и подолгу разглядывая каждую кроватку. С той ночи он делал это регулярно, два-три раза в месяц, кого-то из уродцев уже узнавал, думал с волнением и удовольствием о том, что и еще раз пойдет, и ни разу не был замечен. Ни к людям, ни к общению это, понятно, не относилось, однако вызывало такого свойства внутреннюю тревогу и возбуждение, которые объяснить только нм одним, Б.Б., не получалось: что-то исходило из него и замыкалось на нем, что-то — вне его. Людям же подготавливалась силовая накачка-откачка, этого, по его замыслу, должно было оказаться довольно.)
Сравнительно легко, возобновлением курса психофизических упражнений, усвоенных в пору его высшей сосредоточенности на ресурсах тела, а теперь дополненных комплексом новых, описанных в последних книгах и передаваемых из уст в уста мер, он привел себя в состояние такого приема-отдачи мощностей и потоков, на какой подвластные ему ресурсы были способны без вмешательства
учителя, находящегося ближе его к вершине мистической пирамиды. Сорок минут в день он посвящал иглоукалыванию, которое изучил у единственного в городе филиппинца, впрочем, родившегося на Кольском полуострове. Над постелью была повешена таблица совмещенных синусоид: 23-дневной мускульной, 28-днсвной нервной и 33-дневной мозговой. Профилактически он глотал бишофит, производившийся совхозом «Ленинский» Ростовской области по цене два тридцать за поллитровую банку, ушибы и воспаления лечил прикладыванием сердолика или серебряного полтинника двадцатых годов выпуска, а если простужался, то выбор аспирина или анальгина, их доз и времени приема рассчитывался в зависимости от дня его рождения увы, напомним, сомнительного. Во время обсуждения в издательстве состава очередной набоковской книжки, на которое он потащился из еще юношеской любви к Набокову, а заодно чтобы не упустить места для своего перевода «Bend Sinister», названного нм по-русски «Метины выродка на гербе», к нему, едва он взял слово, прицепился пьяный, неизвестно как и зачем оказавшийся в зале, и Б.Б. уже готов был ввязаться в перепалку, но вдруг осознал, что этот день в его графике — средоточие трех критических переходных состояний, и, замолчав, стал доброжелательно ему улыбаться и так и продолжал улыбаться, даже когда тот пытался в него плюнуть.
Он завел несколько горшков с кактусами, фикусом, лимоном, алоэ и ставил нм Баха и тамильскую храмовую музыку и наблюдал, как они охорашиваются и тянутся к источнику звука. Одновременно купил солюкс и загорал, а в Рощине даже в пасмурный день выходил на крыльцо раздетый до пояса — и наблюдал, как загар густеет. Катан не голым по снегу и хождение зимой босиком, обливание ведрами ледяной воды с интервалами в минуту — как для прямой подпитки из ядра планеты, так и для выброса внутреннего молекулярного тепла — стало почти рутиной. У старухи — бывшей гимнастки он взял несколько уроков физвокализа, заключавшегося в громком пении под нагрузкой: с грифом штанги на плечах, при отжатии от пола, при выгибе на мостик — цыганские романсы, Верди, Шуберт.
Она же подарила ему самодельный отвес, рамку с висящим на шелковой нитке кусочком янтаря. Прежде чем есть, он ставил тарелку перед отвесом, сосредоточивался и медитативно углублялся в вопрос: «Годится?» Отклонение янтаря к тарелке — да, продольное качание — нет, сколько бы ни протестовал бывший трубач из ресторана Дома ученых. Само собой, что годилось или не годилось только
живье. Магазинное молоко «после железной дойки» и инкубаторские яйца «после комбикормов» как
мертвые вообще не обсуждались. Вкус пищи рассматривался как западня, как галлюциноген, вовлекающий в неразборчивое ее потребление и неотвратимо ведущий к тотальной от него зависимости. На место вкуса выдвигалась компонента пищевой
информативности, которую обеспечивали антиоксиданты, фитонциды, пектины, эфирные масла, растительные гормоны — об их содержании в том или ином продукте приходилось справляться по толстому американскому тому «Секрет секретов». Соль, сахар, мука исключались не только из рациона, а из словаря. Воду можно было
употреблять только талую, был куплен морозильник «Саратов», в нем постоянпо стояли трехлитровые банки со льдом, который постоянно же на подоконнике и размораживался. В обязанности трубача теперь входило по четным ставить хозяину клизму. По средам Б.Б. пятнадцать минут жевал оливковое масло, сплевывал белую пену в унитаз и многократно спускал воду, вспоминая рассказ о двух козах, съевших капусты, на которую кто-то такое жеваное масло вылил: одна мучительно сдохла сразу, с другой клочьями слезла шерсть.
Но все это, повторяю, был в значительной степени возобновленный
пройденный этап, Б.Б. искал учителя. Ориентировался не на репутацию, а на
ведение, исходившее от претендующих на эту роль и явственно для всех проявлявшееся, и в ведующих отдавал предпочтение не
ученным, а
чующим'. не, так сказать, Блаватской, а Распутину. Претендующих к этому времени образовался широкий круг и изрядное количество. Совсем недавно было непаханое поле и вдруг, точь-в-точь как с компьютерами, за ночь, за месяц, за год проросло: один от другого, обнюхиваясь, а первый якобы от египетского жреца, Посмотришь на себя в зеркало: и взять — ничто, и звать — никак, а ничем не хуже иного прочего, и в любую сторону открыта дорога. Травники сделались массажистами, массажисты акупунктури-стамп по китайской системе, телепаты целителями через возложение рук, все — всем вместе. Как всегда, природа оказалась самым дешевым сырьем — огонь через голову, земля через ноги; психика самой ценной отраслью для вложений. «Борзость, наглость и беспредел», говорили единицы, годами продвигавшиеся на ощупь, собиравшие по крохам, воспитанные на том, что «передавать нельзя».
Учитель, на котором Б.Б. остановился, здоровенный амбал из Актюбинска, не глядевший, а прищу-репно вглядывавшийся, программировал группами: запускал в комнату три десятка народу, в подавляющем большинстве женщин, по команде все бухались лбом об пол — и
подключались. На сеансах индивидуальных сажал клиента против себя, объяснял про энергетику, про разогрев эгрегера, свободу, чакру, карму и припечатывал лоб кулаком. Не принуждал, но не скрывал, что
штамповать эффективнее всего во время совокупления. Признаться, сверкнуло на миг в сознании Б.Б., что далековат парень от гимно-софиста, напряжением воли убивавшего сразу сто царских сыновей, и Симона-волхва, ступавшего по облакам в виде юноши, старца, тигра и муравья, сверкнуло и погасло. То — Флобер, эстетство, университетское баловство Дорианом Греем; за сто лет демоны опростились, погрубели… Малый сказал Б.Б., чтобы выбросил все свои фикусы, а рассадил женьшень, элеутерококк, аралию маньчжурскую, заманиху и золотой корень. Велел держать наготове свежие капустные листья, тертый сырой картофель и отвар коры дуба. Спросил, не бывает ли по утрам мандража и все до тошноты противно, не ломит ли спину, Б.Б., подумав, признал, тот сказал: «Лярвы присосались». Осведомил — тоном врача, излагающего разные подходы к лечению, — об успехах программирования «в просоночном состоянии» и во время полового акта. «То есть?» — уточнил Б.Б. Тот подтвердил: «Пол не имеет значения». Б.Б. некоторое время взвешивал возможность, но все-таки отказался.
Б.Б. в который уже раз отдал себе отчет в том, что это не было бы для него невозможным. Поскольку, вероятнее всего, мир нематериальный, угадываемый, постигаемый вообразительно и на слово, состоит из противоположностей, отмеренных строго поровну, и в первую очередь из Бога и сатаны в абсолютно равной степени, то он не стал бы с ужасом чураться хоть и любителей черных месс. Не искал бы их компании и, вообще, предпочитает отца Павла, но не находит чего-либо убийственного в «литургии наоборот»: еще один обряд, неизвестно к чему ведущий. Вот епископ, с которым его познакомил отец Павел, сказал же лет пять назад в храме под конец проповеди на Прощеное воскресенье: «А теперь миром Господу помолимся, чтобы президент Рейган не дожил до Пасхи», — и помолились, и ничего не случилось: дожил и пережил — и чувствовал тогда Б.Б. никак не шок, а всегдашнюю неловкость, что так глупо.
Он исходил из того, что Бога нет, — тем непреложнее «мертв» в аксиомах посленицшеанского мыслительного богословия, чем бездарнее Им хотят объяснить
всё: ракеты Арзамаса-16 как ангелов-хранителей от Серафима Саровского, революцию как наказание России, революцию как величие России, очереди, стужу, бритые головы; и одновременно, что Он есть — дети, особенно новорожденные, и отнюдь не обязательно яростно шалящие, как у Толстого, по всем показаниям должны умирать, а выживают. И вообще,
страшно отрицать, если Он именно как Бог в самом деле есть. Вера «Бога нет — Бог есть» была точь-в-точь электрон: носится по восьмерке и ни в какое мгновение не существует ни в одном месте. Но в таковом состоянии оказывалась еще и как бы светом — если Е равно мц-квадрат и прочая эйнштейнизация Вселенной. Отец Павел на это усмехался высокомерносамодовольно: «Мистикой, слава богу, никогда не баловался миловал Господь». Б.Б. причащался, «с ходу», с колес, подъедет к «горе имеем сердца» и через пятнадцать минут к чаше; в любого исповедания церквах: «Это у Бога чепуха — католичество, православие, инославис». Служба, здание храма, Тело и Кровь, очередь к причастию — это была реальность. Но и то, что все оно ничего не значит, кроме магии, а иногда и магии ноль — такая же реальность. Цельной, а следовательно, единственно подлинной реальностью, в которой ни для кого нет сомнений, является только Б.Б., и мистическим его содержанием, о котором знал он один, — его желание-нежелание. Оно и становилось Богом, на каждый новый отрезок времени другим, но каждый раз во всей полноте.
Так что он признавал в доктрине только практическую сторону: целительнее ли крещенская неталая вода обыкновенной, но талой, и крещенская талая крещенской не талой, а также отреагирует ли прибор автоинспекции на алкоголь после причастия. Потому и анафема гомосексуалистам как содомитам была для него прежде всего мифологемой, дававшей какую-то пищу уму, затем риторикой и никогда запретом. Он видел в таких отношениях привлекательность, главным образом, по привычной своей склонности к менее доступному, необщепринятому, интересному и, если угодно, престижному — и не видел препятствий к тому, чтобы водиться с этими ребятами, разве что конкретные. Зато конкретные были неодолимы и во всех конкретных случаях превращали его соображения о гомосексуализме в теоретические абстракции. Актюбинский учитель, огромный, пахнущий дезодорантом и вдобавок подслеповатый, выглядел ходячей цитатой из апостола Павла: «мужчина на мужчине делая срам». Сошлись на программировании в просо-ночном состоянии. «Посвящении», — не то поправил, не то уточнил Б.Б. Амбал надел очки с очень толстыми стеклами, уставился в лицо и заключил: «Ладно, им программирование, тебе посвящение».
* * *
Чему-то Б.Б. через некоторое время научился. Лучше сказать: научался, в смысле — учился у себя. Тот — что от него требовалось, сделал, что надо передал, и Б.Б., почувствовав: «во мне это есть», принялся поначалу за технику прочистки, снятие ощущении, насылание. Смущало, что к пику усилия он пробивался дилетантски, но тут как раз и понял, что
любительство и самодеятельность — столько же средство, сколько и цель этих занятий. Делать, что он делал, мог каждый — как петь: все упиралось в исследование собственных способностей, в репертуар — и в то, на что случайно натыкался. Случайностей возникало тем больше, чем меньше понимал, куда ткнуться. Подключиться к космосу, чтобы прочистить свою энергетическую систему, облупить свое энергетическое «яичко», было не штука, это входило в курс начальной школы, а вот как прочистить, чтобы не повредить специфически завязанных узлов, индивидуальной смазки, хрупких периферийных каналов, как облупить, чтобы не проткнуть, нельзя было понять и достичь иначе как через пробы. И, в общем, все пробы оказывались удачными.
Первые опыты зомбирования приносили огромное удовлетворение. Личное общение действительно оказалось возможным сократить до минимума. Он посылал запрос, получал разрешение, получал механизм, получал желаемое, не вступая в определяемые чувствами, проявлениями, реакциями отношения. На худой конец что-то отдавал взамен, но так же безлично, это было даже интересно. Углубляясь в темную материю этого дела, он ловил подаваемые ею сигналы: чем и как компенсировать убыль распределенной по индивидуумам мировой мощности, которую он только что поглотил. Он начинал снимать стрессы, мигрени, костные и мышечные боли, воображая себя матерью, прижимающей к животу расшибшегося ребенка, слушающей, как затихает плач. Эта техника требовала внутренних затрат особого качества, их природа принципиально не поддавалась осознанию до конца, и истечение, точнее протекание, через него силы сопровождалось вместе с тоской еще и неконтролируемым удовольствием.
Он добился ровно того, что планировал: вместо вселенной душ и тел он видел, по крайней мере начинал видеть, вселенную безличных, то есть бестелесных и бездушных энергий. То есть, строго говоря, уже не вселенную. Скорее в чистом виде космос энергий, правда, заключенных в тела и души. Но это было чуть ли не декоративное неудобство. Пару раз в разговоре с Найманом он приподнял уголок завесы над — непонятно чем: краем? руслом? центром? — своих занятий. Девять отверстий для входа и выхода всех видов субстанций: семь лицевых, анальное и семенномочеиспускательное — определяли, во всяком случае на первых этапах, сферу проб, направление разработок и возможности взаимодействия с магнетическими, световыми и иных природ силовыми потоками. Если погрузиться в воду, обязательно неподвижную — в таз, в ванну, пруд, — и залепить пластырем шесть отверстий на лице, то оставшееся седьмое, по общему счету девятое, аккумулирует активность не суммированную, а возведенную в степень. Не вдевятеро большую, а в девятой степени — минус потери на неабсолютную герметизацию, особенно через воду. Естественнее всего выбрать таковым рот — как единственное непарное.
Открывая его и при этом прижимая губы к деснам самым плотным образом — так, чтобы слизистые поверхности по возможности присасывались одна к другой, а дыханием, предельно медленным, осушая в это время полость рта, Б.Б., по его словам, мог насылать сновидения. Сюжет был ему не подвластен — поскольку материал психики принадлежит объекту, — но во власти Б.Б. было включить в сон себя, и подтвердить это, сказал он Найману, может не кто другой, как я, Германцев. При открытом глазе — опыты ставились на левом, правый давал ослабленный результат, возможно, как более далекий от сердца — объекту можно было подать предлагаемое как его добрую волю.
Но чем дальше, тем чаще на Б. Б. накатывало внезапное пронзительное сомнение: все сведения о теле, которыми он располагает, — эмпирические, что значит недостоверные. Ибо, первое: Создатель человека мог решить — хотя бы для пользы человека — не открывать, не рассказывать целого ряда функций любого органа и всех во взаимодействии. Второе: Б.Б., на основании случаев, каждый из которых, в конце концов, частный, может прибавить, присочинить что-нибудь про тот же рот или глаз, и это войдет ложью со ссылкой на него во все следующие обзоры тела — не говоря о том, что он может принять одно за другое и непременно большее за меньшее, как, скажем, не глупее его автор одной мистической книги, назвавший несотворенное фаворское сияние световыми эффектами.
Дважды занесло, как на гололеде, психику. Первый раз — когда он сдал квартиру. За пять тысяч долларов — худо ли? — сдал финну на лето: все равно жил в Рощине. Тот заплатил тысячу вперед, еще тысячу через месяц, а еще через месяц исчез, и исчезла фарфоровая люстра. Взялся финн ниоткуда, просто выкатился на Б.Б. на приеме в консульстве, а Б.Б. туда пришел в аккурат найти какого-нибудь финна, чтобы сдать квартиру. Ни о каком договоре дело не шло, все из полы в полу, концов не найти. И Б.Б. поехал на велосипеде ночью на местное кладбище, нашел свежую могилу, смешал землю с пеплом от кости, которую специально отломал от скелета на кафедре анатомии в Первом Меде и дома сжег, добавил черных пауков, выдавил бузину, вымоченную в воде, в которую перед тем запустил жабу, слепил из массы куколку, напоминающую финна, и проткнул ее шилом.
Пришил. Назавтра не верил, что сделал это, но ведь сделал.
Второй раз, на следующий день после окончания оздоровительного голодания, утром он выдавил в стакан лимон и грейпфрут и, поднеся ко рту, вдруг услышал явственно как бы собственный монолог: «Мои внутренности, до совершенства отмытые, так чисты, так хороши — ткани, слизистые оболочки, клетки, — что я не могу, в смысле: сильнейшим образом не желаю, опять отравлять, калечить, портить их какой бы то ни было пищей, в которой — в любой — или, если она натуральна, недостаток чего-то: яблоко — не рыба, рыба — не хлеб; или содержится злокачественный ядовитый продукт реакции: яблока с рыбой и с хлебом». Возможно, это были отголоски раннего желудочного неблагополучия, юношеских поносов, глотания мела, каолина. Он не ел еще около недели, только пил свою талую воду и любовался матовым блеском влажных пленок, пузырей, жемчужных кишочек, все гуще являвшихся в воображении. Все плотнее налегали сонливость, апатия, головокружения, пока в один из перерывов он опять не услышал изнутри свой голос, только ослабший до перистальтического журчания: «Да плевать я хотел на внутренности», — и вернулся к пище и пищеварению.
Но самым разочаровывающим и, по сути, сводящим его замысел на нет стало довольно быстро пришедшее понимание того, что в этих делах не только он никогда не пробьется в первые лица, но что первых лиц тут вообще не может быть. Чем ближе выталкивает кого к вершине, тем меньше свободы действия и выбора у него остается — принцип пирамиды. Энергетика оказывалась не лавкой космического коммунизма, в которой количество товара беспредельно и все бесплатно. Энергии-то, может быть, и не было конца, но ты-то был все тот же: сердце с кулачок, бидончик крови, полтора кило мозга, сто семьдесят три-четыре сантиметра вместе, как шутит простой народ, с кепкой. И соответственно этим, как изъясняется народ ученый, параметрам тебе отпускалось магнитных, световых и прочих сил, а если подключался, хотя бы из самых чистых и высоких побуждений, к Великому Бесконечному Потоку или просто хапал больше, то немедля начинал больше испускать принцип бурдюка.
Того чище: не испустив, не мог принять нового, свежего, крепкого. И то и другое означало, что требовалось вовлекать в систему все больше народу — и потому что Поток-то тоже не только прямиком на пик Кауфмана валит, а и через людишек; и чтобы было кому из тебя отсасывать. Если что и можно было этому противопоставить, то сугубую сосредоточенность на шматке энергии, к данному моменту уже заполученному в свое распоряжение, и превращение себя в циклотрон, который, не выпуская ни квантика, разгонял бы его до возможного максимума. Кажется, раньше что-то подобное называли
самосовершенствованием. То есть никак не воздействие на других: ни на расстоянии, ни лицом к лицу. Избавиться от общения с людьми Б.Б., может, и избавился бы, со всеми, кроме себя, но это единственное исключение превращало весь план в руины. На абсолютное одиночество в безлюдном мировом эфире он решиться не смел. И пришлось ему вернуться к человечеству, к нам, грешным.
* * *
На пути из Москвы в Ленинград, около Клина, в жаркий летний день, он попал в многокилометровую ремонтную пробку, когда и езды нет, и мотор выключить нельзя, потому что все-таки движешься. Положив на руль папку, Б.Б. стал писать письма. В конце концов двигатель перегрелся, он выехал на обочину, поднял капот и за полчаса навалял еще пяток. Нужды в этих письмах никакой не было, почти со всеми адресатами он только что виделся или вот-вот увидится, а некоторые не ответили на уже отправленное и, похоже, вообще не собираются отвечать — они-то были самые притягательные, — по писал он не с конкретными деловыми, светскими и просто коммуникативными целями, а подчиняясь инстинкту, как паук ткет паутину. И в Москву, полупустую, бездельную, если где и работающую, то все равно
каникулярно, ехать не было никакой причины, но и в Рощине сидеть —
времяухо-дило, а когда-то назначив себе появляться в столице не реже раза в три месяца, он привычно набил «Жигули» сумками, папками, книжками, бутылками и мисками и покатил с заездами в Новгород, в валдайские деревни, опять-таки как паук, пробегающий по диаметру паутины с отклонением на проверку боковых веточек.
Когда машина остыла, он поехал дальше и свернул в Клин бросить письма в ящик. Зайдя в почтовое отделение, он попросил девушку в окошке отправить два заказными, а расплатившись и получив квитанцию, — выйти за него замуж. Сказал, что прекрасно понимает, как несерьезно и экстравагантно, даже эксцентрично это выглядит, но он дает ей около часа, нужного ему для осмотра города, после чего заедет узнать ее решение. Через час девушка ответила неординарно «что же, попробуем», в обед он отвез ее в загс, и они подали документы. («А гщто? — комментировал он мне, расплываясь в улыбке такой же искусственной, как подчеркиваемое им «ч». — Как говорила моя бабушка Фира:
двадцатый век».) На ночь он остался в ее комнатке в домике, где она жила с бабкой и теткой, — мать несколько лет назад уехала куда-то на заработки и пропала, отца никогда не было, — и утром уехал в Ленинград.
Они расписались, и теперь он заезжал в Клин по дороге туда и обратно раз в три месяца и так подгадал, чтобы быть, когда она будет рожать, то есть как раз в третью ездку после той, когда они познакомились. Родилась девочка, и Б.Б. забрал их обеих в Рощино. Довольно быстро молодая мать усвоила навыки и манеры академической, а может, писательской или композиторской жены — любых хватало по соседству — и говорила: «Изольдовы перехватили у нас корову в Кирилловском, мужу приходится ездить за молоком еще дальше». Когда ребенку исполнилось полгода, Б.Б. отвез их обратно в Клин, где, оказывается, успел купить на имя жены дом, поставить телефон и нанять домработницу. Жена в это время снова была беременна.
Любил ли он ее и любила ли его она, единственно им, а никак не посторонним, судить. С какой стати и по какому праву один человек сопоставляет то, что ему кажется «становлением», «движением», «развитием» другого, с тем, что ему кажется собственной «стабильностью» — то есть более, по его мнению, объективными координатами мироздания? Этак и
марксистское учение вечно, потому что оно верно, а ведь самая подлость здесь в «оно». Без «оно» даже внушительнее, но именно потому и наглядно бессодержательнее: фраза, пустая, а в «оно» — результат раздумий, взвешивания, с «оно» чуть-чуть неуклюжей, то есть достоверней. По мне, по Найману, по героине бабелевского «Ди Грассо», то, что у Б.Б.,
это не любовь. Небось, по нам, и марксистское учение не вечно, а «оно» — вставлено подло. А «это нелюбовь», видите ли, годится, потому что мы же знаем,
что — любовь: любовь не
это, хотя это самое «это» ведь абсолютно равно «оно».
Шахматов утверждал, что любовь, самая настоящая, и в своей театрально гадкой манере улыбался. Б.Б. тогда ненадолго припал к нему — тоже по инерции: Шахматов в это время занимался мирискусниками и Кольским никелем. Он рассказывал, что Б.Б. как-то раз признался, что «это дело очень ему приятно, о-очень». «Но ничего близкого к безднам де Сада: чистая эротика», — прибавлял Шахматов «со значением». Найман спросил, а он-то откуда знает, что эротика, что не эротика. Про Шахматова было известно, что он эротически туп и сер, для него главное — разврат: еще в молодости
он просил своих партнерш, с которыми со всеми и встречался, и расставался в самом дружеском взаимном расположении, звонить и рассказывать, как у них было с другими. Он даже спросил однажды Наймана, а какая разница, и тот сказал, что с удовольствием объяснит «на примере», как в школе — они учились в одной школе, Шахматов классом старше: Амур и Психея в Летнем саду — эротика, а ты с парикмахершей на скамейке рядом — разврат. Шахматов сам очень любил удовольствие, больше всего на свете, и так же терпеть не мог неудовольствия. Он начал чуть-чуть шантажировать Б.Б. — только для собственного удовольствия: декламировать в его присутствии, при людях, начало стихотворения, которое Б.Б. прочел ему как курьез: ночью ни с того ни с сего приснилось слово «традиционно», а к нему без участия Б.Б. прицепилось еще несколько: «Традиционно разводит тесто, огонь в очаге и колени». При втором чтении Б.Б. сказал: «А по хэ-хэ не хо-хо? Это у меня школьное, не лагерное».
И Шахматов на всякий случай отстал.
Любил ли он своего ребенка, а потом и второго, тоже девицу, рассуждать опять не берусь. По моей и несметного множества людей логике, если и любил, то не по-людски. А по его, вполне возможно, что в аккурат как следует. Его, Б.Б., летоисчисление началось с его рождения, отец был придатком к его жизни и более препятствием, нежели поддержкой, так зачем же ему становиться таким для детей собственных? Воспитание ребенка «своим», «близким» предполагает в большей или меньшей степени неизбежное делание его еще одним собой и последующий неизбежный болезненный для обоих разрыв, так не лучше ли сберечь силы и нервы, отказавшись и от воспитания, и от разрыва? Поддержка при первой же надобности, а гули-гули — раз в три месяца. Логично? Логично. И рационально. И чем восклицать «бесчувственный!», лучше прикинем сперва, а в какую рубрику сунуть, в какое объяснение сплавить визиты в интернат для уродцев.
Когда родились дети, он подумал о своей смерти впервые не как о смерти
себя, а что она для других. Не безразличие их, не их жалость, а их, что ли, ужас — из-за него умирающего: и агонизирующего — страшно, противно; и, главное, уходящего — как раб, самый ничтожный, самый последний, без единой возможности, и их «неужели навеки?». И таков их Б.Б.?! Эта картинка тоже как будто бы — как недавно разочарование в людях и в энергиях, в авантюрах и в аферах —
вдруг и постоянно стала отталкивать его от жизни. «Какие специальности приобрели вы за жизнь?» — кто-то спросил его властно в полусне-полутрансе. И он ответил отчетливо, с усталой иронией, зная, что говорит: «Тридцать один черт».
Раз за разом содержание жизни оказывалось чучелом, в котором не тугая набитость была доминирующим качеством, а выпотрошенность вещи. Однажды в 70-х в Москве он пошел на политический процесс — это было поступком тогда — над не известным ему человеком, стал делать записи, подскочил дружинник, зашипел: «Выйдем поговорим!», Б.Б. громко ответил: «Нам с вами совершенно не о чем разговаривать» (а это было уже актом, или, по-кагэбэшному,
акцией), еще несколько дружинников задвигалось, вышло, вошло с милиционером — и милиционер арестовал другого, с таким же длинным, как у Б.Б., шарфом. Или когда мать по условленному знаку, поданному Б.Б. в письме из лагеря, отправила его стихи за границу в «Посев» и приехавший оттуда человек передал, что их «по внутрииздательским причинам» печатать не будут, то Б.Б. как ни в чем не бывало позвонил после освобождения в издательство с фразой: «Большое спасибо, что вы согласились опубликовать мою книгу». Номер не прошел, но в том-то и дело, что, оказывается, совершенно не важно, прошли его номера или не прошли. В квартиру Бродского в Нью-Йорке, когда там жил Древин, которому Бродский запретил пускать единственно Б.Б., а Б.Б. поставил себе целью попасть туда во что бы то ни стало, он попал: просто позвонил в дверь, и куда Древину было деваться? — но толку-то! И Бродский с яростью возражал, и Древин скрежетал зубами, и то, что он там побывал, так и осталось просто словом «побывал» — чучелом события. Только такие у него и оставались — и таких набежало за жизнь тридцать один черт.
Ника помогала калекам, проводила подписку в помощь неимущим, читала по кафизме в день, для нее это было Все — а по Б. Б. разве что сюжет для упоминания. Да и что ни возьми: дети, отцовский долг, такая-другая жена, думание и писание, удовольствия и тяготы, даже страдание — более или менее как погода.
Как — «побывал». Кто-то звонит: только что говорил с Америкой — его, Б.Б., племянник повесился. Ну что ж, ужасно. Через день: не он, его друг. Ну что ж, прекрасно. Да ведь тот-то — погиб! Ну что ж, погибают.
В те дни он признался Найману: «Я мог бы сделать что угодно,
все что угодно. Украсть, что мне нравится, или просто так. Убить — заказать убить — мешающего или ненравящегося, или просто так. Сойтись, если охота, или просто так, разрушить чье-то благополучие, семью, покой — всех, включая мою жену и моих детей. Но я не могу сделать
ничего против этого самого вашего
Бога. Из-за страха, конечно, и стыда, и прочего и прочего, но главное, из-за того, что это
Бог. Просто слово, которое лишает последних сил, подавляет, как подошва пылинку, даже не способную осознать размеры великана, чья подошва. Ну, а что если это действительно Бог из неба гремит: не кради, не убивай, не сходись с кем попало? А что если это Бог подбросил мне эту жену и этих детей как
Своих? И вот получается, что я не могу сделать
ничего. Кроме тех вещей, в которых нет
никакого присутствия Бога, никакого следа, отзвука, отсвета. А вещи эти — там, где я, где я заполняю собой
весь мир. И их много, множество — целый мир, за исключением редких-редких владений Бога».
Найман сказал ему:
— Вы вообще не знаете, что значит любить.
Но я знаю, например, что вы меня не любите… А может, любите. В самом деле, я плохо в этом разбираюсь.
Но если вы примете, например, что я вас не люблю, то могли бы в таком случае сказать, любил ли вас кто-нибудь?
Кроме мамы?.. — Усмехнувшись: — Нет, едва ли. Не мог бы. Потому что, я же говорю, что-то во мне действительно не то.
* * *
Дальше я заболел — знаменитая пневмония-бронхит-с-астматической-компонентой Александра Германцева. Через пять дней никакой я уже был не Германцев и не Александр, а статистическая единица эпидемии гриппа с осложнениями на дыхательных путях, а еще точнее, одна какая-нибудь двадцатимиллионная поколения, которое первым стало с детства принимать антибиотики, заставив вирус мутировать до того а-медицинского штамма, что сейчас удушает человечество, самовластно распоряжаясь его гортанями и трахеями. Лежал, вставал, разрывался от кашля, пил воду и слабел. Думал, умру, но не думал, что вот умираю. На пятый день оделся, вышел за хлебом, на улице закружилась голова, осел у стены, кто-то вызвал «скорую», и свезли меня в недальнюю Куйбышевскую больницу. Врачиха сказала: «О, какой у нас запущенный больной», — и пошли меня колоть и накачивать чем-то из шприцов и капельниц.
Эдак через неделю, когда я уже был
ходячим, назначили электрокардиограмму, собралось нас у кабинета в сквознячном коридоре человек двадцать, и тут являются Найман и Б.Б. Найман стал мне звонить из Москвы, забеспокоился, что ни разу не застал, попросил Б.Б. узнать, и тот через милицию — пожалуйста. Очередь пропустила меня вперед, но еще раньше в дверь протиснулся Б.Б., перед моим носом закрыл ее и через пять минут вышел с аккуратно уложенной лентой кардиограммы. Пока добирались до палаты, он объяснил, что когда спит на правом боку, в сердце начинаются перебои. Не угрожающие, а такие
перекаты. Но все-таки. Как тут было не провериться?
Он пропал на минуту, потом позвал нас с Найманом в пустую ординаторскую — успел договориться с «лечащим врачом». За два с чем-то года, что я не видел его, он сильно изменился внешне. Разумеется, прежде всего это был Б.Б., не узнать его было нельзя, но все словно бы приобрело законченность, структура словно бы утрировалась. Голова воспринималась как конструкция узлов: зрения, слуха, обоняния. Торчащие уши были слуховым
органом-, две раковины с мембраной фирмы лучшей, чем «Филлипс», чем «Сони», — они наводили на мысль, что требуют регулярной прочистки, так же как двухканальный обонятельный орган, так же как торчащие зубы. Кость, кожа выглядели неорганическими материалами. Волосы и ногти я видел, как будто прежде рассмотрев их под микроскопом. Их следовало содержать в подобающем состоянии, но стрижка, мытье, чистка распространялись на них как на что-то не принадлежащее Б.Б. Все элементы целого лишились присущих им качеств, глаза и уши — ясности и нежности, качеств «глазок» и «ушек». Одни части черепа оказались больше вытянуты за счет большей приплюснутости других. То же фаланги пальцев.
Тело выпирало на передний план, оставляя
человека на заднем. Беспримесно человеческого оставалось только осознание этого порядка вещей, осознание, на которое животное тело не способно.
Ощущения в сердце, сказал Б.Б., конечно, чепуха. Все должно портиться, к пятидесяти-то годам — все и начинает понемногу портиться, это нормально, кровь, ткани. Бывает, правда,
больно, это хуже. Но что такое «больно»? — воспаление нерва, сокращение нерва, зажатие: жить можно. Я глядел на него с волнением, из-за слабости же — чуть ли не с готовностью, а не притворяться, так с желанием слез. Не потому, что чувствовал, как соскучился по нему тридцать пять, что ли, лет, да, около того, сперва несимпатичный, противный подросток, а сейчас, в общем, старик, так ведь старики и должны быть несимпатичные, старик симпатичен старый, несимпатичный, противный, а какой он еще может быть?
И даже не потому, что так остро стало его жалко, когда он сказал, что бывает больно, — жальче, чем себя, когда мне больно: моя-то боль — человеческая, то есть она боль, а я человек, умею помаяться, постонать, а Б.Б., небось, ничего этого не знает и спросить уже не у кого. А потому, что я чувствовал себя, как в одном из моих снов с ним: это он самый, но такой, которого где-то держали, как Железную Маску — страшная металлическая башка, черная удушающая борода под ней, страшный, стало быть, злодей, может быть, кошмарный урод, раз взаперти, про которого, однако, каким-то образом знаешь, что он принц, благородный и ранимый.
В эту минуту Найман повернулся ко мне и сказал: «У тебя нет такого чувства, что он откуда-то вернулся, где мы с ним вместе никогда не были, да и сам он, пожалуй, никогда не был? Не из когда-то случившегося, и не из пропущенного в прошлом, и вообще не из существующего — а откуда-то, про что только и известно, что это не место и не время, а функция, чистая функция, и она заключается в том, что, никогда там не бывав, оттуда можно возвращаться». Вот вам Найман: в который раз произносит что-то вот этакое вместо меня. И кто тут чей двойник, кто кого alter ego: я его, он мое — все равно, я не против ни того, ни этого, я «за».
Б.Б. сказал: «Это не туда ли мой трубач отправился? Дворецкий мой помре. Второй инсульт. Возможно, что играет сейчас джем-сешн с архангелом Михаилом. Помню, как вы, — он обратился к Найману, — у нас за столом про Луиса Армстронга это рассказывали, я был еще мальчиком… Флейты Моцарта обещанной он не нашел, зато, вообразите, оставил мне глиняный — так, на стакан молока — горшочек золотых николаевских червонцев. Как в сказке, да? Немножко поликратов перстень. Я ведь из больницы его забрал, ради, как вы это называете, доброго дела. Хотите верьте, хотите нет, решил: он так умоляет, можно попробовать — не что из этого получится, а что это такое. Ничего не получилось, и что такое, не узнал, потому что сразу приспособил в услужение. Но Б.Б. без прибыли ни от зла не остается, ни от добра, ни даже от замысла. Он, пока ждали “скорой”, подбородком и мычанием показал, где горшочек спрятал: в камин изнутри подвесил. Я вынул, показал ему, говорю: себе не возьму, отдам другим. А потом взял, не удержался. Как сейчас с кардиограммой.
Не все, правда, — малую часть отделил интернату, не знаю уж, какая когда мне придет с этого выгода.
И опять, представьте себе, приятная теплота посетила мои внутренности — как когда пальцами радикулит снимал или бессонницу. Потеря — но особого сорта, такого, что никак не уловить, по каким показателям его устанавливать, ускользает точка отсчета. Я ведь злу не
служу — просто потому, что зло и добро различаю только по реакции людей на поступки и слова других, в частности на мои. Если им не неприятно — добро, недовольны зло. Я не хочу зла, но иногда получается, приходится сделать, потому что то, что нужно мне, в остальных производит недовольство. А к себе критерии зла и добра ведь неприменимы — как к Богу: Бог делает или говорит, не сообразуясь с частными результатами. В общем, “по ту сторону добра и зла”.
Интернатское начальство обозначило меня почетным попечителем, вручили постоянный пропуск. Но мне привычней было по сосне. Я туда явился на этот Новый год, в час ночи, из обслуги никого нет, а кто есть, спит. Вошел в самую большую палату и стал одного за другим моих дефектных рассматривать. Вместо носов — хоботки, вместо губ — тоже, глаза — один подо лбом, другой на щеке, ушей то нет, то прилипли, то лисьи, зубки — по два, по три, или в целую челюсть, но без промежутков, волос нет, пушок клочками, а черепушки — Зигмунт и Ганзелка! Позвоночники — перекрученные, укороченные, скелетик — штрих-пунктирный, вместо ножек-ручек — какие-то хвостики-лапки, вместо лопаточек — крылышки. Я вышел на середину и стал говорить им речь.
Мы, начал, одной породы, вы и я, — поглядите, я тоже насекомое.
Нам не из-за чего горевать, нечему завидовать. Мы владеем планетой, покрываем ее поверхность, развесили над ней нашу сеть. Как облако, опускаемся на их березки, липы, сливы.
Нас принимают за бесов: смотрите, говорят, воздух полон ими.
От нас отмахиваются, нас прихлопывают, давят, травят — мы принимаем гибель смиренно и величественно.
Нам на миллионы лет больше, чем этим махающим руками и хвостами, топчущим ногами и лапами, и будет намного-много больше после того, как их никого не останется на свете.
Мы переводим вещество их тел в вещество земли искуснее египетских бальзамировщиков. Древесину человечества — не отличая его от зверья — мы истачиваем как древесину деревьев, превращаем в легкую мягкую труху и отдаем ветру.
Жужжа, мы танцуем над их трупами.
Наше жужжание путают со звоном похожих в вышине на комарика их самолетиков, рокотом ползущих далеко за лесом их похожих на жучка машинок, их поездов, похожих на гусеничку, с ропотом самого леса, каждой осины и сосны, каждой ветки и листа. С шумом бегущей воды, печного огня и воздуха. С гулом проводов электрических и телефонных.
Нашему гудению пытаются подражать, но у лучших из них — у лошадей — выходит
игого.
А мы гудим
ббббб, ггггг, ддддд, ммммм, ннннн — угадайте, что это такое.
Это значит
бъг, гъд, дъм, бън. Бог, по-ихнему. God. Dominus. Адонаи Господь.
И я,
Б.Б., — голосок и волосок этого пения».
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Без всякого предупреждения, без всякого предварительного намека в квартиру на Фонтанке приехала жена с детьми, вещами и клинской старухой-дуэньей. Это было ошеломляюще — вдруг столько в общем-то незнакомых существ в привычных безлюдных или по усмотрению Б.Б. отдаваемых на время для жилья случайным знакомым, а чаще сдаваемых за хорошие деньги помещениях. Но сногсшибательно, почти физически опрокидывающе с ног, было то, что детей оказалось трое. Б.Б. был уверен и всем, надо не надо, говорил, что у него две девочки, живут с матерью под Москвой. Нокаутировало не то, что девочек трое, не то, что, стало быть, третья прижита без его участия, а то, что когда заскрежетали в скважинах ключи и две маленьких, смущаясь, вошли, держась за мамины руки, а третью, крошечную, в кульке одеял, внесла нянька, он уже не знал так твердо, как за минуту до этого, сколько их на самом деле, сколько их должно быть. Вроде бы, как он ни разу не сомневался, две, но может, и три, вполне вероятно. Да-да, он припоминает, что о рождении третьей явно слышал, но почти сразу забыл, и вот обсчитался. Или нет, две, абсолютно точно, что две, никакого признака третьей, а кулек — возможно, сестра родила — кажется, у жены есть сестра, — да мало ли что возможно. В конце концов, действительно, жена могла от кого-то забеременеть, и тогда это предстоит теперь выяснять. Короче, и что две, и что три, было одинаково достоверно и одинаково убедительно. Получалось, что не со счету он сбился, а вообще сбился.
И это подтверждалось тем, что, в растерянности и путано так и сяк на сей предмет рассуждая, он про себя называл жену «жена», а не ее именем — по той простой причине, что помнил, что иногда обращался к ней «Ира», иногда «Рая» — так, объяснила она, сложилось, в семье и среди знакомых. Иногда, отвлекаясь, говорил по рассеянности и «Римма», и «Инна», и даже «Нора» — и сходило с рук, принимаемое за разновидность флирта, своего рода нежность и заигрывание. И теперь он не только не мог утверждать, как же ее зовут по паспорту, Ирина или Раиса, но не был стопроцентно убежден, что она была именно Ира и Рая, а не, положим, Света и Зоя. И пожалел, что не числилось за ней — и он не сообразил вовремя придумать — чего-нибудь столь же универсального, как его собственное Бебе.
Про детей и говорить нечего: сидело в голове, что первую хотел он записать Раав —
для понта, однако и в честь ветхозаветной героини — но жена не верила, что он это всерьез, и настояла на чем-то распространенном до стертости, не то Дарья, не то Мария — Татьяна? Наталья? Елена? Какое конкретно имя, отшибло память, но какое-то из этих, потому что опять-таки засело в мозгу, что когда родилась вторая, он во искупление и уравновешение первой экстравагантности и чтобы угодить, как он думал, вкусу жены, предложил одно из них, что-то вот такое настолько простое, что тут же вылетело из головы, — и опять не угадал: жена посмотрела на него с испугом, сказав, что ведь именно так зовут первую. А третьей — откуда мог он знать имя, если не знал, есть ли она сама.
После первых минут имитации смешанных чувств восторга и изумления, для чего лицо сплющилось в слащавую гримасу, а голос сюсюкал «сюрприз, сюрприз» и «нечаянная радость», и никак было с этого не слезть, он спросил, а когда они собираются назад, и жена ответила, что они дома. Б.Б. решил пропустить предисловие из уговоров и доказательств и сказал ни враждебно, ни доброжелательно, а
информируя, что переезд невозможен, потому что в квартире живет и расположил свой офис, о чем она могла прочесть табличку на дверях, представитель бомбейской компьютерной компании, и он же под дачу снял их рощинский дом. То, что они вообще застали Б.Б. здесь, прямое чудо, потому что живет он сейчас в комнате, оставшейся от Фени, в коммуналке, и заехал на пять минут, кое-что взять, зная, что индус сегодня как раз за городом. Ира (или Рая) набрала рощинский номер и под беспомощное предостережение Б.Б. «он не говорит по-русски» произнесла в трубку властным тоном: «Мистер, ай эм лэди оф хауз («Лэндледи», — автоматически исправил Б.Б., и она повторила:) — лэндледи. Селект, сити ор кантри. Уан, нот ту». Ей что-то сказали, и она, как воспитательница детского сада, заменяющая повелительное наклонение «встать! сесть!» прошедшим временем «встали! сели!», ответила: «Завтра. Вы сюда, наша семья — туда. Ол райт?» Повесила трубку и объяснила Б.Б.: «Прекрасно говорит по-русски».
Он оскалился: «А ты по-английски». — «Еще не прекрасно, — возразила она, — но учусь. Занимаюсь по разговорнику». — «Пикантно, — произнес Б.Б. свое любимое слово. — То, что с детства пасешь, держа на длине кнута, в конце концов вселяется в самый дом». — «Что делать, — посочувствовала она, возможно, и искренне, — у плебеев кровь здоровее». — «Забавно», — отозвался он, и она подтвердила: «Забавно».
Индус был щуплый и похож на азербайджанца. Он тараторил, мешая языки, с одинаковым акцентом на обоих, на две темы: бизнес — и величие Индии. Со скоростью компьютера переводил рубли в доллары, доллары в английские фунты и фунты в рупии и при этом обращал внимание слушателей на однокоренную, идущую от санскрита основу рупий и рублей. Все шло от санскрита и к санскриту сводилось — к санскриту, переродившемуся за тысячелетия в санс-крит —
без критериев, некритичный, ушедший от подземных
крипт — иначе говоря, в инглиш. Его звали Радж, полное Раджив, что по-русски значило, натурально, «радость жизни», а по-английски, соответственно, «ярость» этой же самой жизни. То есть Афанасий — бессмертный, что и требовалось доказать.
Никитин, пояснил он, «Хождение затри моря». Тот туда, а он сюда. Индусов, внушал он, давно уже миллиард, просто многие не регистрируют новорожденных. Вот-вот они обгонят китайцев, потому что у китайцев размножение, а у них любовь. Любвь, любвь, любвь, произносил он по-русски — и по-английски: лувь, лувь, лувь. И по-индийски прикрывал глаза веками и причмокивал. Почему, объяснил он без тени смущения жене Б.Б. (а как, бай зе вей, ваше полное имя? Ираида? Ираида — древнее индийское имя, означает «изумруд») — почему он и снял их дом в Рощине. Для древней индийской оргиастической любви: чц, чц, чц — сделал языком и губами. За две тысячи в месяц — долларов… тысяча двести восемьдесят два фунта… двенадцать тысяч двести — в рублях, адцать-иста — в рупиях. Национальное величие и бизнес наглядно соединялись.
Переехали в Рощино, с ходу перехватили у Изоль-довых, пока те летали на Кипр, молоко. Старуха выскребла, со стиральным порошком, ванную и уборную, вымыла, обильно поливая водой, полы, внаклонку, мощными полукружиями вправо-влево, как когда-то Феня. Жена стояла на том, чтобы после борделя, который тут развели, освятить дом: вызвать священника, хотя бы этого твоего Павла, Пашу — как там ты его зовешь? — отца Павла, пусть окропит. Пусть, главное, окадит, авторитетно наставила старуха,
индейский дух кадила не выдерживает. Б.Б. вспомнил, что у него есть курительные палочки, принадлежали Рериху,
самому, в Россию привез сын, роздал по списку, составленному особым тайным кругом из московского Института востоковедения. Б.Б., сказав: подобное подобным — зажег стеариновую свечу и уже от свечи их. Дети ждали бенгальского огня, но палочки тлели, распространяя дурманящий аромат сандала: как следствие, у всех стало раздраженное, капризное настроение.
Назавтра Б.Б. объявил, что съезжает в Фенину комнату — заниматься и вообще сосредоточиться — и, конечно, в первую очередь, чтобы избавить их от заботы о нем. Будет, само собой, содержать, будет наведываться — они, бесспорно, справятся. На это жена достала из сумочки еще в Клину написанное заявление в суд о разводе, молча ему протянула, а рукой сделала круговой жест: обвела столовую, где они в этот момент вдвоем кончали завтракать, гостиную с зимним садом, бывший отцов кабинет, детскую, широким взмахом вверх охватила второй этаж со всеми спальнями, комнатой для прислуги и солярием и, ткнув пальцем в окна, присоединила к дому участок, раскинувшийся на четыре стороны света. Б.Б. покатал между пальцами хлебный мякиш и натолкнулся глазами на свое отражение в темном стекле буфета: он улыбался, как когда-то отец в больнице — зевотой промахнувшегося волка.
Через неделю она забеременела. Б.Б. еще раз метнулся, сказал, что должен поехать в Москву, сфотографировать все здания раннего конструктивизма, встретиться с оставшимися современниками — для сводного каталога искусств 20-х годов. К сколькито-летию обэриутства. Жена спросила: на машине? На машине. Очень хорошо, на обратном пути заедешь в Клин, захватишь старухины иконы. Всенепременно, отозвался он словцом из старого репертуара, хотя возвращаться не собирался. Конкретных соображений не было: едва начинал обдумывать, обдумывать оказывалось нечего, широкомасштабно созваниваться — неоткуда да и, честно сказать, не с кем, рассчитывал на случай: пожить сколько можно у одного, у другого, подыскать через знакомых квартиру на съем. Первым на очереди «одним» был Найман, хотя и не лежала душа к нему на таких основаниях заявляться. Ничего хорошего и не вышло: на ночь Найман уступал ему свой кабинет с условием в десять утра его освобождать, а главное, на телефон отпустил сорок пять минут в сутки, в сумме на выходные звонки и входные, и следил за этим формально до неприличия отвечал звонившим сверх лимита: «Завтра», — и вешал трубку. И все усугублялось сразу натянувшимися отношениями Наймана с женой, которая такой жесткости, не говоря уже о грубости, не терпела.
Через три дня Б.Б. перебрался к давней, еще общей с Аллой, приятельнице, той, что дала имя «тамань» его долагерной активности. Теперь она жила с бывшим диссидентом, некогда историком Нового времени, некогда философом, политологом, в общем, лицом свободной профессии, с которым познакомилась как раз через Б.Б.: тот кончал срок, Б.Б. начинал и в привычной манере, ее не спросись, дал ему адрес. Сперва она делала, потому что вынуждена была делать,
доброе дело, потом не могла
выбросить на улицу. Так он к ней прибился, и всегда-то неприкаянный, а теперь уже пожилой и больной, брюзжал помаленьку, многословно рассуждал, но, в общем, был ласков и покладист. Кроме одного пункта: страшно кипятился и доходил до нефигуральной пены у рта, когда о ком-нибудь благополучном рассказывали — а чаще сам благополучный о себе — как о борце с советским режимом. «Фрондер на содержании у идеологического отдела ЦК, — начинал он с саркастического скрежета и разгонялся: — Кто меня допрашивал, с тем он шампанское пил и крабами закусывал! Инакомыслящий! А Илья тогда кто, а Гарик! Им в рыло по пять плюс два, а его на партком да выставочку на пятнадцать минут прикрыли! — И заканчивал ни с чем уже не сообразно: — Не случа-ай-но, не случа-айно его Иннокентий зовут в честь Фиделя Кастро». Потом мотался по коротенькому коридорчику и бормотал: «Якир такой нашелся! Красин!
Тепло-ход “Красин” — так будет точнее. Теплоход “Красин”, дирижабль “Горбачев”».
У них была двухкомнатная квартира в панельном доме, и он не то что безропотно, а с нескрываемой охотой, как только въехал Б.Б., стал стелить себе на кухне раскладушку. Каждое утро, когда Б.Б., наспавшись и назвонившись, выползал из своей комнаты, он, бритый, мытый, причесанный, довольный, встречал его невинной — подбадривающей, как ему казалось, похвальбой: «Не то что на пермских дачах, да?», заключавшей в себе одновременно отсылку к общему арестантскому прошлому и от души оказываемую услугу. С самого начала Б.Б. приходила в голову мысль, правда, всегда мельком, ни разу как следует не додуманная, занять его место, вселиться на, так сказать, правах мужа. В некотором смысле довести то, внутренне ему импонировавшее, данное хозяйкой определение его деловой сметки до, как припевали через слово братья-семиотики, «авто-мето-совершенства. «За» было то, что отношения у них давние и доверительные, испытывал он к ней скорее симпатию, она к нему, как он однажды и навсегда решил, заинтересованность, участие и даже определенного рода влюбленность. Угрозы, что станет требовательной, ничто, судя по ее ироническому складу, не предвещало, и только бессознательное внутреннее предостережение не решать одно затруднение наворачиванием на него другого, и если честно, то слишком сходного, как раз и останавливало мысль в нескольких секундах от завершения. «Не додумывать до конца — вообще перспективно: как метод», — говорил он еще перед посадкой, сверкая при этом несуществующей среди людей улыбкой. О том, что будет с ее формально сожителем, его номинально другом, в сознании не пробегало и тени раздумья: опять-таки однажды и навсегда он себя — и тот его — учредил благодетелем, а благодетелю оказаться в долгу перед должником — нонсенс.
Маячили, если все-таки принимать эту возможность всерьез, еще постельные обязанности, которых он хотел бы избежать совершенно, и тут тоже между ним и ею наблюдалось как будто единомыслие. Естественно, не заявляемое прямо, но явное по косвенным высказываниям. Например, говорили о массовой моде, о женской одежде «в облипку», брючках, надеваемых «с мылом», блузках, оттопыриваемых сосками, и юбках ягодицами, о трикотажных комбинезонах, имитирующих кожу со всей ее гладкостью и складками, собственно говоря, не покрывающих, а удваивающих кожу: вот вам одна, доступная немедленно, а под ней еще не худшая вторая, или, как обещают рекламные скидки на разнообразные товары,
платишь за одну, получаешь две. Б.Б. бросил изящно: «Как у нынешних конькобежек, для наименьшего сопротивления стихий». А она уточнила: «Велосипедисток. Особенно когда они со знанием дела укрепляются в седле». Изогнув двусмысленной усмешкой губы, он подвел итог: «Это и была настоящая цель сексуальной революции — превратить постель в стадион». И ее лицо передернула гримаска, в которой при желании усматривалась та же, что в его словах, брезгливость.
К концу второй недели без какого-либо сдвига во внутренних побуждениях, а только по привычке ставить ногу на территорию, которую когда-нибудь для чего-нибудь можно будет использовать, то есть на
всякий случай, он решил прозондировать — что в его представлении означало утоптать под себя — почву. За очередным чаем, отодвигаемым ежедневно за полночь его поздними возвращениями из разных гостей, он сказал, что наконец познакомился с
настоящими диссидентами, теми, которые свалили режим в реальности, а не
вилами по воде, — решительными, крепкими, без комплексов, ребятами из бывшего ЦК комсомола. Нарочно сказал «ребятами», чтобы выразить свое к ним отношение, презрительно-оппозиционное. Иначе говоря, чтобы и поддразнить присутствующих, и не принимать искусственно парадоксальную позу. Хозяин, или исполняющий, как насмешничал над ним про себя Б.Б., обязанности хозяина, завелся, что называется, с пол-оборота и стал вопить, что если сатана сатану, то бишь комсомол гэбуху, изгоняет, то он разделился сам с собою и как же устоит царство его. На что Б.Б. заметил заготовленно и, как ему со стороны представлялось, с шармирующим хозяйку подтруниванием, что сатана — дело тонкое, прочитал строчку из начала «Фауста» и закончил: «Что истинные
диссы — они, а не маргинальные борцы с режимом с централизованно прослушиваемых кухонь, утверждаю я, фирменный и зарегистрированный открытым заседанием районного суда борец с режимом». И тогда тот, кого он облагодетельствовал, устроив, бесхозного, подмерзшего и в фурункулах, в эту теплую светлую квартиру, очень спокойно произнес: «Аферист. Обыкновенный оборотистый аферист. Ничего не имею против, только статья другая: ни к 70-й, ни к 190-й ты не имеешь ни малейшего отношения». А она посмотрела на Б.Б. весело и подтвердила: «Тамань». Вроде как «аминь».
В общем, надо было съезжать. И, в общем, нечего было валять дурака, рассчитывая на чудесное устройство обстоятельств. Сказка, подталкиваемая всесокрушающей, избавленной от ослабляющих чувствований внутренней энергией, почти идеально механистической, кончилась вместе с неповрежденностью этой энергии. Все в ней складывалось, все психические силы, и все намечаемые цели, и беспримесные желания именно их добиться, и в холодном душевном огне все это сплавлялось, и безукоризненно ровным, неостановимым прессом сердцебиения выковывалось в пулю, от которой не было спасения обстоятельствам. Как миленькие, сходились они концентрическими кругами и пробивались по оси. Что говорить, сказка! Но известь, что ли, попала в металл из крови: желания первые потеряли былую упругость, чуть-чуть окостенели, стали отставать от ядра. Совершенной формы капсула, в которую собиралась энергия во всей полноте, целости и насыщенности, дала миллимикронную трещину и, как еще невидимо для глаза надбитое яйцо, стала сминаться от столкновений с более вялыми, хрупкими, кривыми. Желаемое перестало быть безоглядно желанно, и к Б.Б., безошибочно сконструированному на достижение желаемого, сразу приноровились и научились худо-бедно справляться. Нечего было валять дурака и надеяться, бессознательно избегая анализа и прикидок, на избавление от неприемлемой, неприятной, недопустимой обстановки перемещением, примитивно материальным, тела в иной, новый — да самое-то угнетающе тоскливое, что никакой не иной и не новый — антураж, за которым грубо ждут все те же три, четыре, пять предлагаемых жизнью вариантов. То же самое, только искусственнее и затруднительнее практически. Москва встречалась с Ленинградом в Бологом, вот размазанный до Бологого Ленинград и разжиженная до Бологого Москва ему в лучшем случае и светили.
По чести говоря, убираться следовало тут же, немедленно, прямо сейчас собрать вещички — и в ближайшую гостиницу, но плевать ему было на честь, и на мнение о нем хозяев, и на них самих. На завтра назначена была встреча с неким немыслимым стариком Паниным, ходячей — а может, сидячей в инвалидном кресле, а то и лежачей в кровати — историей конструктивизма, разысканным через других безвестных, более молодых стариков и старух. Все они при ближайшем рассмотрении оказывались злыми, друг друга терпеть не могли, за сообщаемые сведения, как правило, ничтожные и взаимозаменяемые, норовили быстренько тяпнуть гонорар, объявляя важно: «Это будет вам стоить сто долларов», быстро, еще до его ответа, уступая: «Ладно, пятьдесят», жалко кончая: «Хорошо, давайте десять, просто символически». И этот бессмертный Панин от них, наверное, уже научился. Ах, ангельское старичье его, Б.Б., юности, благодарное за то, что ими хоть кто-то интересуется! Хранящее воистину бесценные — и потому что истлевали никому не нужные, и потому что стоить могли тысячу, миллион, неизвестно сколько — сокровища: рукописи, ноты, холсты, попади они (и попадали, и конкретно через него) на любой аукцион, хоть Сотби, хоть Филлипс. Отдающее их за так, признательное за десятку, не говоря уже за сотню, которую Б.Б. у них от широты душевной и по
совести на столе оставлял. Признательное жизни за то, что когда-то от нее получали, что пережили, выжили, что могут это вспоминать, что это кому-то понадобилось.
Панин оказался не злым, а злющим, карикатурно. Ему было девяносто семь, скелет, обтянутый пленкой, но скелет фундаментальный, ширококостный, упруго и крепко, как для ненецкого чума, слаженный. Б.Б. так и не понял, сам ли заметил это сходство, или Панин, в первой же фразе упомянув, что последний год ссылки жил в чуме, ему подсказал. Я бы и посейчас, продолжил он, там жил, в идеальном-то воздухе, на идеальном морозе, глотая идеальный рыбий жир в окружении идеальных немытых женщин. Как Гоген, но реально: не напоказ и не кокетничая. И еще сто лет бы жил, если бы не этот тресковый пузырь, тухлый клоун Витька Шкловский. Ему же надо было поддерживать репутацию, писать книги, а сам умел только расписываться в платежных ведомостях. Он брал все мои мысли, начиная с «Зоо». «Гамбургский счет» — я, от начала до конца. Не стеснялся абсолютно. Через первого секретаря Игарки выпер меня оттуда и еще всем раззвонил, что вызволил и спас от смерти. И, конечно, открылось четвертое дыхание, третья молодость, второе рождение — и, конечно, ленинско-сталинская премия.
Приехали поживиться? — спросил он Б.Б. без перехода. Чем бог пошлет? Он пошел ставить чай, двигался спокойно и свободно, разве что с излишней осторожностью, как в темной чужой комнате. Значит, раннии конструктивизм, — сказал с кухни, не повышая голоса, так что Б.Б. пришлось к нему выйти. Ранний, когда конструировать еще было не из чего, да? Стратостат, надутый, как Витька Шкловский, и к нему привешен сарай на три тысячи коек, слепленный из штукатурки, так? Есть, есть, есть. Есть у меня эскизы, чертежи кой-какие завалялись, трактаты от руки, черновички, письмо Татлина к Мельникову осело. А фотографию Мельникова с Гинзбургом и я третий — не хотите? А всех трех Весниных с Удальцовой? Все в мой затон плыло, с девятнадцатого года. Как у Лешки Кручены-ха, только он без разбора, тряпье-берем, а я по своему вкусу — когда и кочевряжась. И от беззубого Лешки самого, кстати, имеется тетрадочка ни больше ни меньше как «Помады» с дыр-бул-щылом: десять лет меня насиловал, на Гуро «Шарманку» менялся — ну, я согласился из милости.
Моя-то цель — интервью, сказал Б.Б. как можно смиренней, когда вернулись в комнату и сели за стол. А этот товар, прибавил как можно небрежней, на любителя: если хотите, могу поспрашивать. Не затрудняйтесь, ответил Панин, есть любители, есть. Большие есть любители на все, что есть у меня. Вон каталоги стоят: предпоследние — на этот месяц, а последние аж на весну. Вы что, совсем на меня материал не собирали? Да я такой был уже в шестнадцать лет — когда для Василия Николаича двадцати трех, для Владимира Евграфыча тридцати пяти, для Петра Васильича тридцати двух краски добывал. Чекрыгина, Татлина, Митурича — слыхали таких? «Натура» — знаете слово? И всю жизнь не вам ровню, как устриц, сглатывал. Блатняки дешевые говорили: и пуговиц не выплюну — это про меня. А вы: интервью-у, конструктиви-изм. Я-то, наоборот, справки о вас навел, мне расписали, он такой, он сякой.
И я уж собрался ему все по описи сдавать, а он меня как фраера: «могу поспрашивать».
Б.Б. взял сухарик и краешком опустил в чай. Точь-в-точь отец, прокомментировал Панин. Чей? Да ваш. Вы знали моего отца? Я всех знал. А вашему папаше еще и премного обязан. Почему и намерился свои кладовые открыть именно вам — насчет описи я ведь всерьез. Ну, не открыть:
открывать. Так, по
единице хранегтя в день. Или в неделю, мы же не торопимся: вам еще жить и жить, а я жить и вовсе привык. Б.Б. сказал: и чем же отец вас одолжил? Донос написал, доброжелательно объяснил Панин. Стал ко мне таскаться — то ли сам набрел, то ли ГПУ навело. Нет ли у меня первого полного издания «Душеньки», да не попадались ли письма Дмитриева к Карамзину, да кресло он разыскал екатерининское, не взгляну ли? Пшел, говорю, комсомолишка, змееныш. Он — донос, мягкий, теплый. Не хотите «донос» —
заметку в университетскую многотиражку, дескать, попадаются еще подобные —
горе-историографы. Он в университете активист, я архивариус: текущей документации, а все-таки. Год тридцать третий, пожалуйте в Пермь, три годика, административный надзор. Бумажки по папкам, папки по коробкам, коробки по двум чемоданам, айда. Неглавного три шкафа — это моя сожительница сохранила, все до последнего трамвайного билетика Мандельштама. К тридцать третьему как раз творческая вся возня стихла, один соцреализм да чистки, осталось только то, что осталось у меня в чемоданах. И с ними я и в Норильске — я, и в Минусинске, и на метеостанции на Ямале, и на всех северных курортах — куда меня на три, на пять лет с одного на другой переводили. А не встреть вашего папашу, как миленький сложил бы голову в ленинградском тридцать седьмом, в московском сорок девятом.
Рассказывал он монотонно, глядел безмятежно. Б.Б. спросил: а не мог я уже что-то в этом роде читать? Почему же, могли — советская власть сейчас расписана подробнее не то что Смутного времени, а и самого Просвещения, так что и мою персону не упустили, сам корректировал. Но об отце — в самых общих чертах: до вас берег. Что-то, сказал Б.Б., помнится, в художественной литературе. Мой старый знакомый, он больше
былое и думы пишет, но так, что не всегда понятно, былое это или думы.
И у него КГБ — deus ex machina, все сюжеты через Большой дом и Лубянку. Панин сказал: так ведь так и есть, все до единого — за вычетом, может быть, войны и пьянства. Писал бы ваш знакомый или не писал, все равно: Комитет был бог, а Россия машина — разве нет? Сюжет-то вы вполне могли встретить, а про отца прочтете отдельно — когда дойдем до его, то бишь до общей вашей с ним, фамилии по каталогу.
И номер многотиражки той не истлел, и протокол его допроса скопирован и в одной с ней папке лежит, как новенький. Не хотите «допроса» —
собеседования. Б.Б. резко этот полуиронический тон оборвал и отчеканил холодно: если так, к чему ваши фигли-мигли? Весь этот тупой юмор с передачей мне вашего барахла — не хотите, чтобы я тоже как-нибудь пошутил? Тоже несмешно, не хотите? Панин предложенную манеру тотчас подхватил и проговорил размеренно: вот что — придумайте другую тему, немедленно. Чтобы мне не повторять змееныша одному и тому же семени два раза в столетие. Без затруднения и без тени смущения Б.Б. спросил полудружески-полуофициально: можно мне у вас остановиться на два-три дня? На два, ответил Панин.
На следующее утро, позавтракав тем, что Б.Б. купил, встав пораньше и спустившись в лавку, они перешли к делу так естественно, как если бы вчерашнее предложение Панина показать архив все-таки было — и было обоими принято, — а об отце ни вчера, ни когда вообще не заходило разговора. Б.Б. вернулся к раннему конструктивизму и для начала попросил показать письмо Татлина к Мельникову. Панин его без промедления достал, развернул и перед ним на скатерку положил. Письмо, ожидаемо шалое, ожидаемо новаторское, касалось проекта здания, установленного на громадном подшипнике и медленно разворачиваемого господствующим на данный день ветром. На вращающуюся независимо от подшипника ось, вертикально пронизывающую этажи и выходящую на крышу, неразъемно посажен огромный флюгер, или, если хотите, мельничные крылья. (От этой фразы на поля вывешивалось дугой: «Простите, Мельников, за каламбур».) Сдвиг собственной оси флюгера передается через зубчатые колеса на корпус здания. За грубую, первичную основу можно принять конструкцию ангела на шпиле Петропавловского собора в Ленинграде. И внешне флюгер должен с ним откровенно корреспондировать как его кубистический собрат. Стену здания, постоянно обращенную к ветру, следует сделать в виде ширмы, раздвигающейся на осенне-зимний сезон с целью защиты от холода и складывающейся на весенне-летний, чтобы обеспечить максимальное проветривание. Но гвоздь проекта не эта функциональная целесообразность, а новый образ жительства, если угодно, новое взаимодействие с домом, из которого утром, отправляясь на работу, можно выйти, положим, на улицу Красных Зорь, а вечером, возвращаясь, войти в тот же подъезд с проспекта Парижской Коммуны. Идея принципиально революционная, прямо противоположная строительству одинаковых на всем протяжении Николаевской железной дороги вокзалов, своей тождественностью призванных создать у пассажира ощущение стабильности, неподвижности, в идеале незыблемости, снимающее тревогу, вызываемую быстрым движением. А с другой стороны, принципиально национальная — избушки на курьих ножках, поворачивающейся к жильцу передом, к лесу задом.
Все это было выведено почерком, каким Татлин подписывал свою графику, несколько по-мещански красующимся под- и надбуквенными росчерками, хотя в целом каждый из трех листов производил впечатление почти чертежной строгости, свойственной его примечаниям на технических эскизах. Татлинским, точнее,
по-татлински исключительно индивидуальным, выглядело движение мысли, тяготевшей к оборотам вроде «когда вы привыкнете жить у себя, как не в своем доме» с «привыкнете», надписанным поверх исчирканного косыми штрихами, но все-таки явственно прочитываемого «притерпитесь». Считалось, что Татлин и Мельников в личные отношения никогда не входили, каждому сам характер замыслов другого казался абсолютно нестоящим. Б.Б. упомянул об этом, Панин откликнулся без интереса: выходит, ошибались. Письмо начиналось: «Мастер Константин Степаныч. Все-таки пишу Вам». Листы отдавали желтизной, тушь коричневым, но совсем немного, сохранность была замечательная. Заполярный холодильник обеспечил, подумал Б.Б.
По коллекционным, что значит и товарным, меркам вещь была первого класса, но Панин знал это не хуже его. Ясно, что и прочее, по крайней мере то, что перевозилось в двух чемоданах, не ниже, а что-то, вполне вероятно, и выше рангом.
Благодарность отцу, конечно, следует понимать в мстительно-издевательском смысле — на девяносто процентов. По на десять можно допустить и в самом прямом: тип парадоксальный до непредсказуемости, и ума, весьма, весьма не банально перекрученного, и решительности, создавалось впечатление, крайней. Так что и от Б.Б. требовалось решение прежде всего не частное, не об одном этом письме и, как чутье подсказывало ему, вообще не об архиве, а о Панине в
целом, обо
всем. (Что, пронеслось в мозгу хвастливо, по-гречески и будет Панин.) И, во всяком случае, не логичное, не привычное, а сколько-то неожиданное, сколько-то, возможно, даже рискованное.
И язык произнес: «Не хотите переехать ко мне? На время; а хоть и навсегда. В комнату отца. Дача в сосновом лесу». — «Вы это из-за архива или из-за папаши?» — «Завтрак, обед, ужин. Прислуга. Дети, но кабинет звукоизолированный. Разговор со мной — по вашему желанию. Немедленное возвращение в Москву — по вашему желанию». — «Жена?» — «Н-не вполне, — фыркнул Б.Б. смешком. — Но скорее да». И Панин сказал: поехали.
* * *
Потом Б.Б. говорил, что на внезапное приглашение его подтолкнуло уловленное чутьем сродство между ними. Панин называл вещи словами, вызывающими чувства: негодования, мстительности, жалости, отчаяния, презрения и так далее — но сам их, как казалось, уже не испытывал. Он тоже был словно бы
без качеств — только
уже без качеств или
всегда из чужих качеств: тех, с кем сводила жизнь. У Б.Б. возникло ощущение, что он, Б.Б., глядится в зеркало, но только пропустив этап переживания этих чувств, пережитый его панинским отражением. Панин провел у него девять месяцев, уехал почти сразу как жена родила. За это время разговаривал с ним мало. Часто, когда Б.Б. начинал, назидательно напоминал, что уговор был — по желанию, и с удовольствием отрезал: нет желания. Зато охотно болтал с женой, обращаясь к ней, как она представилась — Ираида. Стало быть, Ираида, сказал он, войдя в дом, и супруг
ея Ирод. И улыбнулся. Никто не знал, как ответить. Б.Б. вел себя, в общем, безукоризненно, с архивом не наседал. Просто поинтересовался, вскоре по приезде, деликатно, не хочет ли Панин связаться с кем-то из настоящих артдилеров за границей — обсудить возможности передачи всей коллекции, в
отдаленном будущем и, разумеется
, post mortem, не рискнул произнести «после
смерти», на выгоднейших, диктуемых им одним условиях. Никакого беспокойства: называется сумма аванса, называется, если угодно, место жительства, в Швейцарии, в Южной Франции, в Испании, оговаривается все вплоть до планировки дома; указывается место хранения передаваемых вещей: музей, галерея, банк; назначается общая сумма и как ею распоряжаться: стипендии, премии его имени, специальный фонд; назначается распорядитель. Вы? — спросил Панин грубовато. Не обязательно: пока что я предлагаю посредничество в подыскивании подходящей вам артфирмы. Да: никаких для вас забот по переправке за границу, это их
проблемы — употребил Б.Б. с усмешкой слово нового времени.
Панин выказал интерес. А почему бы, заметил подчеркнуто, и не вы распорядителем? Право, я с передачей вам по описи не шутил. Б.Б. привез Раджа. Видимо, хорошо инструктированный, он старался быть немногословным, обычной живости не проявлял, сидел неподвижно, красиво прикрыв глаза веками. Один раз все-таки сорвался, стал трещать, что-то опять о индоевропейской группе языков, но под питоньим взглядом Б. Б. быстро умолк. По делу же повторил то, что сказал Панину Б.Б., немного более конкретно: суммы предлагал в диапазоне от и до в зависимости от того, что находится в распоряжении владельца; вместе, естественно, с живописью и графикой. А именно: от миллиона долларов до трех — такие возникли цифры. Повисла пауза и в ней незаданный вопрос: ну как? Панин показал Б.Б. кивком головы на индуса и проговорил весело: прохиндей? Потом ему самому: есть такое слово на санскрите — прохиндей? И опять к Б.Б.: увозите.
У жены понемногу рос живот. Однажды, месяце еще на пятом, он спросил: Прайда, можно положить руку? В сторону Б.Б.: с вашего позволения. Она сказала: а чего такого — кладите. Б.Б. вскоре ушел наверх, а они так и просидели весь вечер, с его ладонью на ее юбке в области пупа. Он рассказывал смешные и страшные истории про флирт, ухаживания и любовь в условиях Крайнего Севера, она смеялась и ужасалась. С того дня он проделывал это довольно часто, уже не спрашиваясь: как принятый всеми присутствующими обряд. Истории были, скорее всего, лагерным фольклором, но он изящно и с насмешкой впутывал в разные случаи себя — и она тоже стала ему рассказывать: про быт в Клину и своих веселых провинциальных подружек, чьи нравы, правда, старалась подавать в соответствии с вычитанным в женских романах. Он тоже смеялся и ужасался, и видно было, что получал удовольствие непритворно.
Видно было мне. Потому что Б.Б. из опасения, что гость будет занимать слишком много его времени и окажется в тягость, привез меня в Рощино и познакомил с ним чуть ли не на следующий день после приезда из Москвы. Панин пошипел, выпустил на меня сколько полагалось яду — и не только примирился, но стал часто позванивать и звать в гости, к себе — как хозяин. Особенно когда не было Б.Б.: тогда мы сидели втроем, я слушал их пустяковый, но забавный разговор и, как в полузабытьи, испытывал приятнейшее ощущение отдыха от реальности. Но он без предупреждения переводил стрелку речи на меня и изменением тона и градуса серьезности мгновенно полностью возвращал к жизни. Один на один мы беседовали, делая долгие паузы, он говорил мне «молодой человек». Тогда я однажды сказал: это
она молодой человек,
они — показывая на ее пустой стул — молодые люди.
Живут — они. А вся
моя суета пожилого человека, для них декоративная, если вообще заметная, и, честное слово, не много уступающая
вашей размузейной коллекции, откладывается где-то, в каком-то культурном напластовании с не вполне отчетливыми границами в лучшем случае как труха и пепел. Ой, не скажите, выкрикнула она из-за двери. Ой, не скажите, повторил он, как карикатурное эхо, это Ирода — показывая на дверь Б.Б. — и отца его Ирода суета откладывается на глазах трухой, — и она у себя громко рассмеялась.
Один на один, и уже без нее за дверью, он рассказал мне визит Б.Б. в подробностях, пропущенных через безличную оптику с разрешением такого высокого порядка, описанных словами такой бесчеловечной объективности, что я почувствовал физическую радость, в груди, в затылке, что это не обо мне. И физическую жалость к Б.Б.: не на что ему было надеяться, встретившись с этим человеком. Панин верно говорил: не ровня тот, сколоченный кустарно из чужих качеств, был ему, чьи чувства выжгла злоба, долгими годами сжижавшаяся при температуре, невысокой даже по Кельвину. Он обо всем говорил так, что внутри невинной или вздорной болтовни обязательно потягивало абсолютным нулем межзвездной черноты, которую он, начав, возможно, с Перми, навсегда в себя вдохнул. Так, что обязательно разок-другой становилось жутковато — оттого, что не одни Витька Шкловский и Лешка Крученых в его передаче оказывались хорошо если только шпаной, а любой, кого он может вспомнить, — то есть
все. Да он и вспомнить мог практически
всех. Он знал кучу вещей и в кучу их вываливал. Я ловил себя на том, что слушаю его вполуха. Однажды он заговорил о ленинградской линии конструктивизма, о Ное Троцком, какой тот был такой и сякой: однообразный полив — хотя это однообразие в нем и было жутковато. Я включился на минуту, чтобы услышать про фабрику-кухню, построенную по
Ноеву проекту в Ленинграде. Вы знаете это здание, сказал он. Я ответил «да», потому что пропустил его описание и неловко было переспрашивать. Я решил, пусть это будет на Выборгской, возле Сампсоньевской церкви, есть там фабрика-кухня. Он сказал: ее испортили телефонной будкой, поставили на виду будку, и она съела архитектуру дома. Я выпалил взволнованно: знаю, очень хорошо знаю эту будку. Он остановился, ожидая объяснения, но я не стал объяснять. Просто вспомнил, как лет тридцать, если не сорок, тому назад проходил там, вдруг меня догнал на велосипеде Б.Б., спешился, пошел рядом, повел за руль велосипед, остановился у будки, попросил меня подержать, набрал номер, сказал, что нет соединения, что он позвонит с другой стороны, пересек проспект — и исчез. Его не было полчаса, меня трясло от злобы, я не мог ни бросить велосипед, ни уехать на нем, я готов был не фигурально бить себя кулаком в лоб за то, что дал ему остановиться возле меня, а не… Меня и сейчас, когда я вспомнил, тряхнуло судорогой той безысходной ярости — что я не сказал ему сразу, как увидел… Как вы сказали, спросил я Панина, его отцу?
Он моментально понял, о чем я: а-а, тогда-то —
пшел. Пшел! И меня окатила волна облегчающей радости. Через сорок без малого лет!
Б.Б. принес новость, что в Ленинград на несколько дней приехал
настоящий галерейщик, мировая величина, из Нью-Йорка, гомосексуалист, все честь по чести.
Назвал имя, Панин о нем слышал, сказал: приводите. Как-то Б.Б. это удалось, хотя принимали того на уровне министра культуры, директор Эрмитажа лично возил по Ленинграду. Галерейщик приехал в Рощино с секретарем, Б. Б. переводил. Оказалось, Панин сносно болтает по-французски, а гость был, между прочим, также и бельгиец, и они, не договариваясь, но согласно, исключили Б.Б. из общения — немножко чересчур демонстративно. Мировая величина с самого начала не скрывал к Б.Б. некоторого пренебрежения — как к типу посредника-шестерки, с которым по своему положению сам давно уже в прямой контакт не входил. Панину велел называть себя Морис — и секретаря Морис. Секретарь единственный глядел на Б.Б. более или менее благосклонно. Это был красавец атлет, в чем его секретарство, по-видимому, и заключалось. От Мориса-главного, как от ровно горящего камина, несло теплотой многомиллионного богатства, не-колеблемого благополучия, властности, деловой серьезности. Его внешность производила впечатление на время отобранной с целью сканирования и выданной владельцу обратно с поправкой на полученный сканером образ. Он был достаточно смугл от загара, достаточно белокож, достаточно румян, лицо, руки и все тело были доведены — не столько, может быть, массажем, сколько просто спецификой ежедневного употребления — до сверхличного вида «типажа». И плоть, и костюм казались покрыты лаком, который одна на весь мир косметическая фирма, не рекламируя, рассылает клиентуре по узкому, неизвестно кем составленному списку адресов. Лаком, нежнейшим любого крема и притираний, включая Клеопатрины, изобретенным, однако, чтобы служить одновременно трем деловым целям: удерживать человеческие, равно и покрывающие их одежные, ткани в состоянии скульптурной твердости; придавать картинке человеческой внешности завершенность музейного полотна в раме; и отделять одну человеческую особь от другой как непроницаемым скафандром. Панин, восковой, молочноголубоватый, в пятнах гречки, на его фоне выглядел
нормальным, выглядел нормальным старым человеком. Морис-секретарь, которому разговор хозяина, всегда один и тот же, был, по всем признакам, скучен, что-то сказал Б.Б., Б.Б. переспросил, Морис — мировая величина с изумлением возможно заранее подготовленным, повернул голову к осмелившимся открыть рот в то время как говорил
он, и выслал обоих осмотреть окрестности. Так что о результатах устроенной, надо полагать, с невероятным трудом встречи устроитель ничего в конце концов не узнал: Панин, когда Б. Б. отвез Морисов и вернулся, только и сообщил, что они с галереей «кое на чем» сошлись.
Были и еще несколько гостей, ленинградские коллекционеры. Зная, что с Панина ничего, кроме издевок, не получишь, они просили разрешения принести какие-то из своих
ценностей на экспертизу — если нет, консультацию — если возможно, атрибуцию — естественно, за гонорар. Не то чтобы сертификат от Панина много значил на рынке, особенно международном, но по гамбургскому счету, когда он что-то признавал, дальше можно было за подлинность не беспокоиться. Когда же фыркал «фшивота» брезгливо до отвращения, и чем брезгливей, тем с большим удовольствием, оставалась открытой возможность пристраивать вещь в обычном жульническо-блефовом порядке, просто никогда его отзыва не поминая. Б.Б. и сам таскал к нему фотографии и слайды безвестных шедевров из тайников неких инкогнито или, напротив, носящих звучное имя Венский-Корсаков. Бегло взглянув и коротко хохотнув, Панин каждый раз приговаривал: за какие хоть комиссионные-то работаете, можно узнать? Надо сказать, что и Б.Б. весело усмехался в ответ: честно говоря, не за комиссионные, это второе дело — а чтобы они
думали, что за комиссионные. Чтобы их со мной —
связывало.
Ираида родила очередную девочку, очень легко. Потому, объяснила она нам всем, что эмбрион регулярно согревала и укрепляла панинская пятерня. Наметили через две недели крестить, дома, позвать отца Павла. С этим его «отцовством» происходило то же, что с «санкт-петербугством» Питера. Чем упорнее город величали
санкт, тем больше он отрыгал Ленинградом; чем чаще в газетах и на телевизоре появлялся
протопресвитер Павел, тем сильнее от него несло Пашкой.
Б.Б. позвонил по телефону, сказал, что я должен присутствовать
непременно, что он подхватит меня у моего дома завтра в полдень и мы вместе заедем в церковь за Пашей, у которого как раз закончится служба. Вечером перезвонил: будет у меня в полвосьмого утра, потому что в час у Паши срочное отпевание, литургию завтрашнюю он ради этого отменяет, но ночует в церкви, так что лучше всего, если я сам туда подъеду в восемь, это всем сэкономит время. А еще лучше, сказал я, если я досплю до своих десяти часов. Хорошо, не стал он спорить, в полвосьмого жду на улице. «Церковь» оказалась домиком за воротами Шуваловского кладбища: бывший «пункт ритуальных услуг» с выведенным над дверью черной краской православным крестом. Паша был в прекрасном настроении, по дороге шутил, что он новый Чичиков, прибыль с мертвых душ, каков приход, таков и доход, и прочее в своем духе. Рассказал анекдот про нового русского в храме: дьякон кадит, а он — «мужчина, я извиняюсь, но у вас барсетка горит»; барсетка — такая деловая сумочка у них на ремешке на запястье.
Он становился все нелепее год от году. Перебрал церкви нескольких юрисдикций, остался с епископом из Сибири, объявившим свою собственную, про которого шутили, что этот монах «одной жены муж» и в «погонах до локтя». У него сразу получил чин не
протоиерея какого-нибудь, а
протопресвитера — с молодости слово за внушительную звучность обожал — и немыслимо важный, как он утверждал, нагрудный крест. На свой счет каламбурил: я благочинный телевизионной епархии. Его любила зубоскалящая шантрапа из бывших приятелей-журналистов, прибившихся к телевидению, и охотно приглашала: подрясник, крест, борода, умеренное фрондерство, если речь о Московской патриархии; слезы на глазах и срывающийся голос, если об истовости веры; один-два анекдота из разряда рискованных. Такие же — для бойких газет — и статьи сочинял. Подписывал и на экране представлялся только «протопресвитер» — как «гвардии полковник». Бедная голова от несовместимости ролей совсем расцентровалась, перестал, как говорят боксеры, держать удар, фразу начинал за здравие, кончал за упокой. Писал вдруг: «Не время говорить о воссоединении Восточной и Западной церквей, пока на православной колокольне в Мелюзееве висит кампан, принадлежавший местным старообрядцам». Что за Мелюзеево?! Где оно, Мелюзеево?! При чем старообрядцы?! Я, пока ехали, просил объяснить. Он сказал: колокола — звучит, понимаете? купола — понимаете?
На каком-то участке дороги Павел и Б.Б. одновременно повернули головы к машине, стоявшей на обочине, Павел потом высунулся в окошко посмотреть назад, Б.Б. вгляделся в зеркальце заднего вида. Один сказал другому: «Тоже заметили?» — «Ага. Но это он свитер надевал». Мне, не видевшему, объяснили, что обоим показалось, будто парню, вышедшему из машины и наполовину заслоненному открытой дверцей, кто-то обвивает руками шею, Павел признался, что даже разглядел девицу, а это были рукава красноватого свитера, который тот на себя натягивал. Павел сперва отпустил скабрезность, идиотскую, просто ради скабрезности, про ласки свитера, потом профессионально посуровел: лукавый водит — и перекрестился. В Зеленогорске Б.Б. купил бутылку и закуски, к дому подъехали в начале десятого. Дети играли у крыльца, старуха бродила с коляской на дальнем конце участка. Мы вошли в дом — ни Ираиды, ни Панина; видно, спали еще. Б.Б. открыл дверь в бывший отцов кабинет — действительно, спали: под одним одеялом, на правом боку, он к ней прижавшись. Мы увидели это все трое враз, как будто под фотовспышкой. И они — враз открыли глаза и увидели нас. Ираида сказала сонно: который час? — а Панин: ничего страшного, Давид и Ависага, я грел, теперь меня греют — чтобы было тепло господину нашему царю. Они перелегли на спину, выпростали руки из-под одеяла. Панин уставился на Пашу, умильным голосом обратился: благословите, отче. И без паузы: а знаете, ведь эта ваша нынешняя церковь процветающая бросает на Христа Иисуса тень, и двойную — во-первых, не похожа на него, бедного, совсем; а во-вторых, намекает, что он мог не знать, что на процветание, а не на рыдания ее учреждает. Ну да ладно, благословляйте… Потянулся, встал, оказался в ночной рубашке ниже колен, и она встала — в такой же. Проговорила недовольно: может, выйдете все, дадите одеться?
В некоторой растерянности, в смущении мы выкатились в столовую. Б. Б. стал доставать из сумки снедь, его благочиние — ее раскладывать на блюда. Панин проделал несколько легких гимнастических движений руками, медленных поворотов корпуса. Ираида вышла, он вошел в кабинет. Нянька впустила в дом детей, внесла младенца. Павел велел подогреть воду, наливать в таз, достал крестильную шкатулку, раскрыл. Ну-с, сказал, восприемница — няня, а восприемник, повернулся ко мне, ты? Я свой маневр знал, отпарировал когда-то услышанным: крестный — мальчику, девочке довольно крестной. Панин в белой глаженой рубашке проследовал в ванную, появился бритый. Павел попробовал локтем воду, зажег свечечки, затянул. Дошли до «отрёклась ли еси? говори: отреклась!», старуха отозвалась с достоинством: «Сама знаю. Ясное дело, отрёклась». Когда кончил, сказала твердо, скомандовала: «Теперь, под одно, покадить — для освящения дома», — и мы с Б.Б. переглянулись, вспомнив Феню.
Сели за стол, выпили по первой, и Паша, как будто этого момента все время ждал, как будто до сих пор еле сдерживался, с необъяснимым восторгом насел на Панина: не из тех ли он Паниных, которые… Тот милостиво ответил, что и из тех, и не из тех, потому что при Елизавете Петровне вмешалась струя шляхетской крови, не бог весть какая высокородная… Тот не дослушал: а то я о
прошлом годе, — так и залепил, — имел честь быть представленным великой княгине Соломо-нии Андреевне, урожденной Веиной. Собственно, она только супруга великого князя Кирилла Ананьича, но он, к несчастью, последние годы… Панин вставил: куку. Паша докончил свое:… не вполне дееспособен. Ее высочество, наоборот, — ума яснейшего и проницательнейшего. Ее высочество, кстати, припомнила: «Ни разу не принимала болеутоляющего. Не знаю, что это такое. За всю жизнь ничего никогда не болело». Вы ведь знаете Веиных? Панин сказал, что слышит фамилию в первый раз. Как! — откинулся на спинку стула Паша. — Вы же с ними породнились в середине семнадцатого века. Они тогда были Фейны. Фейны — от греческого «феос», Бог. А Анна Леопольдовна переименовала их в Веиных. Вейн — Фейн, Фейн — Вейн. Византийский род. Ее высочество между прочим отметила: «Я Кирилла уважаю как венценосного супруга, но как род Романовы — мальчишки, парвеню. Для нас, для Веиных. Для Феиных». То есть, по причине родства, и для вас, для Паниных.
Отец Павел словно впал в раж и никак не мог остановиться. Панин посмотрел на меня и вдруг произнес отчетливо: зарапортовался священнослужитель. Потом повернулся к Б.Б.: отвезите-ка меня домой, как договаривались. А то скучно у вас стало. И честь, вот мне батюшка напомнил, пора знать. Б.Б. ничуть не удивился, как если бы условие было такое, что Панин погостит неделю и сегодня эта неделя кончилась. Он сказал: конечно — но везти вас в Москву на машине у меня сейчас нет времени, ничего, если отправлю поездом, мягким вагоном? Ай-яй-яй, ответил тот, встретив новость тоже как ожидаемую и по видимости нисколько не огорченный, верь после этого обещаниям. А не согласится ли, снова перевел он взгляд на меня, мне сопутствовать уважаемый господин Германцев? Б.Б. уже открыл рот, чтобы уверить меня, что мне это будет как нельзя более удобно, но я взмахом руки его оборвал и ответил Панину, что поеду. А тогда, сказал он, я хотел бы расплатиться с хозяином за гостеприимство — ушел в кабинет и возвратился с письмом Татлина Мельникову. Не без церемонности, то есть наклонив голову и метров с двух протянув руку, передал Б.Б. конверт и церемонно же проговорил: не обессудьте, если что не так, и в особенности за это библейское утро. Надо ли говорить, что я не Федор Павлович. И не Авраам — увы, увы. Отнюдь: царь ее не познал, это само собой разумеется, это не обсуждается. Он раскрыл другую ладонь, на ней лежали гранатовые сережки — протянул Ираиде: принадлежали Зинаиде Николавне Гиппиус; чтобы вам было понятно, была такая Веина-Феина.
Я не Федор Павлович, отнюдь, сказал он мне, когда мы сели в СВ и поезд тронулся (за оба билета платил Б.Б.), акция была чисто педагогическая: точка над «i» десятиричным. И потом — мне действительно холодно: кровь остыла.
* * *
Что бы ни случалось, что бы неожиданное, неприятное, сколь угодно трудоемкое ни случалось, все шло как по маслу. Казалось бы: целое большое семейство с маленькими детьми свалилось на голову; жена забеременела; бросил их, из дому сбежал; взял и вернулся; новый ребенок родился — ничто не утяжелило жизнь, ни на перышко. Казалось бы: заведенный с самым началом
перестройки порядок — с постоянно меняющейся динамикой, на чей-то взгляд почти хаотический, но им в полноте обозреваемый, насквозь просматриваемый и искусно управляемый — стал давать совсем уже непредсказуемые сбои. Вторжение
некоей, пусть и его собственной, жены с
некими, пусть его собственными, младенцами было максимальным приближением той агрессивной и бесжалостной действительности, которую он знал по «чужим». Но все тут же и улаживалось, благополучие оставалось неуязвимым. Менялись масштабы, иногда до смешного: иконы, которые жена велела захватить на пути через Клин, оказались выцветшими сусальными картинками на тонком картоне — это против семнадцатого-то, а то и шестнадцатого века досок, запекшихся от масла, копоти и времени до состояния каменноугольных, которые он перед отправкой в дальние страны еще замазывал легко смывающейся грязной краской. Конспирация, пароли, шифры, риск. О-пе-ра-ции. И — бумажный Николай-угодник в короне из сказки, с засохшими на исподе пауками и клопиками. Когда он засовывал рулон в багажник, Панин обронил саркастически: сик транзит — то ли о конце клинского домишки, то ли о падении Б.Б. Он ответил: главное — процесс.
Время всячески показывало, что оно — не его, но он знал, что это только период времени. С детства каждое лето, едва появлялись первые боровики и соседи находили кто по два, кто по три, он приносил по двадцать — зато в бум, когда все таскали корзинами, так при своих двадцати и оставался. Теперь жена подкалывала его теми же Изольдовыми, у которых восемьдесят и все один к одному, он отшучивался: у лося больше. Ухмылялся непритворно, и правда, внутренне не беспокоился, и вообще пребывал в хорошем расположении духа — однако допускал, что тот, первоначальный, нервный, требующий именно его индивидуальности период может никогда не вернуться, а сохранится до конца его жизни если не бум, то
условия бума, благоприятствующие лосям. Допускал как раз из-за этого сочетания, с одной стороны, бестревожной стабильности, нерушимости благополучия, с другой потери процессом цели, пропажи из поля зрения точки Z, к которой он имел в виду пришвартоваться, отплывая из точки Л.
Не волноваться-то он не волновался, и получаться-то все, как всегда, получалось, но только нечему было получаться и не за что было волноваться. Нечему из
предпринимаемого. Потому что все, что было, — случалось, а не предпринималось. Тоже с душой совсем спокойной, безмятежно, продолжал он писать по десятку-нолутора писем в день от руки, столько же отправлял по и-мейлу, звонил по телефону по-прежнему не меньше двух-трех часов, заезжал в дюжину мест — но как бегун, давно профессиональный, организм которого натренирован на столько-то-мильную ежедневную пробежку, которому естественно бежать. Это была его Диета, его стояние на голове, их заказывали уже не соображения или представления, а сердце и печень, знающие, что без этого тотчас расстроятся. Он даже отыскал в своих сутках дополнительные семь минут, сразу после пробуждения, для еще одного, им самим придуманного телесно-душевного упражнения — гигиенического смеха. Не вставая с постели, ставил таймер и начинал смеяться сперва, если ничего смешного не приходило на ум, механически, потом над тем, что он так идиотически заливается имитацией смеха, потом спускал ноги на пол и старался посмеяться над их худобой и сизым цветом и в конце концов, бывало, действительно вспоминал что-то забавное. Под ха-ха-ха следил, чтобы вся мягкая мускулатура лица была в действии, чтобы голос всевозможно модулировался, чтобы настроение падало-поднималось, падало-поднималось. Со звонком процедуру немедленно обрывал, даже если смех разбирал его по-настоящему: просто откладывал на завтра, чтобы завтрашний, если удастся, начать с достигнутого градуса.
Процесс, действительно, был главное, он не врал, но раньше, до наступления нового периода, усилия по продвижению уравновешивались результатом. Сейчас результата от
этих усилий попросту не могло быть. Снимая боровик, он сперва брал в ладонь его ножку, оглаживал ее до корня, нежным сдвигом вокруг оси выворачивал из почвы, а не сшибал копытом. Антисоветскость, вызванная прежде всего эстетической несовместимостью, спасла его от уголовного лагеря. Авантюризм, в немалой степени и литературный, умножил состояние. Университет, статьи, симпозиумы приятным узором украшали ковер, который он привык, куда бы его ни заносило, находить под подошвой и на котором привык валяться. Советская власть пропала, авантюра стала регламентированной, филология малоприбыльным, а куда чаще убыточным бизнесом. Те, с кем он на себя
работал, неважно, знали они об этом или нет, теперь работали на себя, официально — в метрополии и за границей. Главное был процесс, все равно — идет он в прежнем направлении или в противоположном, это так, но если действительность зарулила в противоположном, почему бы и его не завернуть градусов на сто восемьдесят, а? Тут — в Ленинграде, в Рощине —
родине — все было ясно. Хорошо, но ясно. За границей — не вполне и даже, в отдаленной, не конкретной перспективе, вполне не. И что еще соблазнительней — непредсказуемо, туман, типичная темна вода во облацех. Но устраивать себе место следовало не так, как несколько лет назад, в эйфории от вылета из клетки и от каждую минуту невероятного обнаружения себя в Женеве и Гааге. Не от одной случайной конференции до следующей, а солидно, надолго, на семестр, на год, навсегда. Двумя проверенными рычагами: внушением мысли о редкостной удаче выбора, если выбор падет на него, Б.Б., и одновременно мысли, что деваться некуда, другого выбора нет; посулами ответного ангажемента на ленинградских кафедрах вместе с реальным предоставлением квартиры на Фонтанке и даже своего рода затаскиванием в эту квартиру (завтрак-обед-ужин, прислуга, звуконепроницаемый кабинет); короче говоря, нагнетанием атмосферы смутных праздника и безнадежности, — нажимаемыми без отдыха, без устали и до скрежета, он выбил себе два месячных летних курса в заштатных университетиках Австрии и Испании. Его испанский был слаб, так, по разговорнику, двум страницам «Дон Кихота» и стишку Борхеса из «Глубокой розы», немецкого, считай, не было: подай-принеси и тот мит унс. Но английский-французский, он и в Африке английский-французский — разрешили, прочел оба курса. Оба неподготовленные, бессодержательные, не очень-то и скрывавшие, что халтура. Дальнейшее тем не менее было, как сам он выражался, делом техники: оба пошли в куррикулюм вита, и отныне склоненные им на кратковременную связь несчастные профессора и профессорессы «пригласившей стороны», сколь ни немощные, разделяли ответственность за его научную ценность.
Семестр провел он в Германии, говорил об этом туманно, не то был грант, не то зарплата. Где-то в горах, но также и на море. Вроде преподавание, а вроде и научные исследования. Понятно было, что врет, что, может, наколол какой-нибудь фонд потерпевших от нацизма, может, пострадавших от советской власти, может, сам себе платил, быстренько сляпав стипендию имени собственного отца, но что время провел с пользой много выше стопроцентной, сомнений не вызывало: через полгода вместе с женой, четырьмя малютками женского пола и старухой, оформленной инвалидом на его содержании, выехал в Южную Африку. На неопределенное время. Забавно, что яблочко закатывалось далеко чисто арифметически — промятый через весь земной шар желобок вел все к той же яблоньке. Квартиру оставил за Раджем и снова сдал ему для священно-эротических литургий рощинский дом, тоже на неопределенное время.
Перед отъездом виделся с Паниным, привез на экспертизу холст Врубеля, из серии сиреней. В золотой раме и под стеклом. А вы выньте, сказал Панин, тогда сами атрибутируете. Угол присох к стеклу, пришлось отдирать с некоторым ущербом для живописи. Б.Б. увидел на панинских обоях два светлых прямоугольника: Древин и Клюн, подтвердил тот, временно у Мориса. Перед уходом, долго заворачивая Врубеля в бумагу, Б.Б. сказал, что и сам сторговал бы что подешевле. А зачем, ответил добродушно Панин, вам и так все достанется, я от своих слов не отказываюсь.
И вставил в музыкальный ящик (новый, отметил Б. Б. и спросил: от Мориса? — и услышал: американский) компакт-диск: «Специально для вас приготовил, сюрприз». Раздалось «В Кейптаунском порту» — под гитару, двумя постмодернистскими голосами. «Где можно без труда, — подпел Панин, — найти себе и женщин, и вино». Вынул и протянул Б.Б.: «На дорожку. Счастливого пути».
Улетели под Новый год, а в январе умер Бродский. А в феврале я получил письмо из Мбабане, Свазиленд. Б.Б. писал, что место, в котором он оказался, по всей видимости, наиболее подходящее для получения такой новости. В том смысле, что независимое королевство Свазиленд, в столице которого в сельскохозяйственном колледже он читает лекции по истории Европы и Азии, так же невероятно, как эта смерть. Он признавался, что испытал настоящее потрясение, но как будто не сам, а словно бы от него не зависящее, наподобие авиакатастрофы или природного катаклизма.
Иосиф — так он на протяжении всех шести страниц именовал покойного — как оказалось, начиная чуть ли не с бэ-бэвского отрочества взял на себя — все равно, отдавал он себе в этом отчет или нет, — удовлетворение всех бэбэвских интеллектуальных, аналитических и творческих запросов в фундаментальной их части. То есть Б.Б. знал, чаще инстинктивно, что то, что ему не дано, дано Бродскому, и что не получается или получается не так, оправдано — уже или будет — Бродским, его интеллектом, анализом, творчеством. В поступках так же, как в словах. Это не освобождало Б.Б. от необходимости думать и жить с максимально доступным ему напряжением сил, однако снимало всякое беспокойство по поводу личных итогов думания и проживания: «дотянуты» они до назначенного современности предела или по общелюдскому счету посредственны; значат что-то помимо Б.Б. или объективно бездарны и на нем самом и замыкаются —
Иосиф «доведет». Додумает, доскажет и доживет до наилучшей из отпущенных на данный момент возможностей. Используемых в полноте им одним, но отпущенных нам всем — в частности и даже главным образом ему, Б.Б.
Изъятие этого человека из нашей среды без равноценной замены означает, что у нас нет больше нужды в таком рекордном проявлении эмоционального и умственного потенциала человечества, выражаемом через творчество столь наглядно, что это можно считать эталоном творчества. А отсюда следует, и оспаривать это бессмысленно, что теперь есть надобность в том, что и как думают, говорят, пишут и делают те, кто остался. Теперь они конечная инстанция, ибо других нет. То есть мы. То есть в частности — и в равную меру с любым другим из живущих — он, Б.Б. Не спрос стал меньше, отнюдь: считать так — все равно что считать, что убавление огня в горелке после того как вода закипела, это знак сдачи позиций, а не разумного подхода. Так что его намерения, соображения и выводы, включая отъезд, и именно сюда, и со всей семьей, и история Европы и Азии, как он ее здесь подает, обладают такой же законченно бесспорной правотой, какая для своего времени была у какого-нибудь Рассела, Чаплина, Пикассо, французских экзистенциалистов, у какого-нибудь Венички Ерофеева и у того же
Иосифа, а сейчас есть у — вот именно что он даже не знает кого.
«Он меня не любил, активно, и не скрывал, что не любит, — начинал Б.Б. после аккуратного отступа вторую половину письма. — Я ему не правился — как, в общем, всем. Как вам, как Найману. Да, как всем, кого вспомню. Кроме мамы и Фени. И — представьте себе — кроме него. Минутами. Было несколько минут в разное время, когда он “заливал мое сердце любовью” — как я бы должен был написать, если бы знал, что значит каждое из этих слов. Он так мне улыбался, с таким напором мне говорил, мне шутил и острил, мне хохотал, я так ему был в эту минуту интересен, я один, так — верьте или нет —
нравился, именно я, что левую часть загрудинной области позади пятого ребра заполняло сладким жаром, и я тоже говорил, острил и хохотал, ни одной секунды не думая, получается у меня или нет, потому что знал, что делаю это вровень с ним. Я часами тренировался повторить одну его гримасу: удивляясь — сплошь и рядом самым обыкновенным вещам, — он так выкатывал глаза, что они подбрасывали кожу лба, всю, кроме треугольника между бровями. Я мог бы сказать, что ненавижу тех, кому не нравлюсь, — если бы точно представлял себе, что такое ненависть. И, наверное, я его ненавидел. Но мне было наплевать и на то, что не нравлюсь, и на то, что часто проклинаю его так, что готов броситься душить. Потому что в сравнении с тем жаром мамина и Фенина теплота была как остывший бульон, и их любовь — скучной тенью моей памяти о тех минутах».
Дальше он вспоминал некоторые из этих «минут». Конкретные детали делали их неубедительными, описание сворачивало на дешевую сентиментальность. Это было так на него не похоже, что могло объясняться единственно «потрясением»; возможно, еще «невероятностью» Свазиленда, который, в свою очередь, сам требовал объяснения. Зато последнюю страницу на три четверти занимал постскриптум, возвращавший к жестяной логике первой части письма. «P.S. Равенство правоты одного правоте другого можно выдать за плюрализм, но это дурно понятый плюрализм. Отсутствие иерархии, общепринятого авторитета, отсутствие вершины у пирамиды говорят только об одном: что нет самой пирамиды. Нет верха и низа, вся система отношений расположена на плоскости. Мир сейчас плоский, и отношения — плоские. Понять это легко, если представлять себе мир географической картой, а отношения — чертежом, схемой, пусть самым изощренным способом составленной. На карте равенство государств утверждается тем, что они делят один и тот же бумажный лист. Неравенство площадей так же не-важно для суверенитета, как разная крупность шрифтов, которыми на каждом отпечатаны названия. То же на схеме кружочки, обозначающие отдельных людей. Говоря другими словами, мы все — иностранцы, каждый для другого — иностранец, безразлично, живем мы в одной стране или за границей. И я — за границей, и не где-нибудь в Венеции или Бостоне, а ни больше ни меньше как в Африке, а в ней ни больше ни меньше как в Мбабане — иностранец полный, совершенный: так сказать, Мисс Иностранец».
Постскриптум протянулся ровно до нижнего края страницы и из-за этого выглядел как формальный наполнитель — как будто Б.Б., поставив подпись, увидел, сколько белого пространства остается, решил: не оставлять же его пустым — и угадал мысль нужного размера.
Все-таки странно, что он мне написал, как подражал Бродскому в выпучивании глаз. Не такое это дело, чтобы делиться не с близким человеком. Видно, дорого ему было, и, видно, проняла его смерть. А возможно, более близкого, чем я, не нашел или считал, что я — это и есть «близкий». И в выборе Венеции и Бостона усмотрел я странность, но скорей телепатического толка — мне показалось, что за ними тоже стоит мысль о Бродском. Так, во всяком случае, это сложилось в моем сознании — может быть, потому, что в день смерти звонил Найман, вспоминал разные разности и между прочим то, как они однажды выступали вместе в театре в Бостоне, на столетие Ахматовой, импровизированно как джэм-сешн, с Лакримоза из моцартовского «Реквиема» в конце, отчего оба всплакнули, а еще, как под Новый год на Рио деи Мендиканти испугал их сиреной катер местной «амбуланцы» и Бродский сказал: «Почему я и боюсь Венеции — долго нет “скорой помощи”». Вот уж, действительно, не
иностранное — ни то, ни другое.
Я ответил Б.Б., но по касательной к его выкладкам и коротко. Нет ли у него ощущения, как есть у меня, и даже не ощущения, а отчетливого сознания, что площадка, на которой все мы, с Б.Б. вместе, стояли, уехала на шестернях поворотного круга прочь от зрительного зала, и хотя мы живы-здоровы (те, кто жив-здоров), но отныне имеем дело с, как говорили ранние советские пропагандисты, мировой закулисой?
И что Бродский, который все делал первым, не «изъят» был из нашей среды ради наших умозаключений по поводу того, что это для нас значит, а прежде других уловил, что проделано уже сто двадцать, а то и сто пятьдесят градусов, вовремя сошел и пошел куда глаза глядят. И хотя его, Б. Б., представление, что будущее еще есть, похвально, но там, где мы сейчас, есть только неразборчивая в тусклом освещении суета: не то фигуры, не то тени, не то эллины, не то скифы. И, стало быть, ни родины, ни чужеземья уже нет.
На этот раз пришла открытка, видовая, с антилопами в саванне. Текст был телеграфный: «Круг не останавливается, а едет. Оставшихся снова выносит на сцену. Панин — пример даже чрезмерный, но вы и я, по-моему, в самый раз. Я — во всяком случае». Мысль была мне чужая, но, помню, подумал: ну, как говорится, дай ему бог. Рассуждения, что человек человеку иностранец, выглядели все-таки довольно искусственными и потому скользкими, и обоих нас быстро снесло в область философии слов. Но в чем он был прав, не выходя из философии вещей, это что отъезд за границу даже не навсегда, а на
неопределенное время делает — в общем, сразу уехавшего иностранцем по обе стороны границы. Первослова, применявшиеся еще к Авраамово-Лотовой эмиграции, оказывались неотменимы: перемещение из страны в страну, простое и легкое, как поездка электричкой на пригородную дачу, тем не менее вычеркивало из жизни почти как смерть.
Внешне связанное с ним продолжалось: окна квартиры глядели на Фонтанку, из трубы рощинской дачи по субботам-воскресеньям поднимался дым, выходили сборники чьей-то памяти, которые он составлял, бесконечный Набоков во все новых и новых переводах со следами его участия. Кому-то, включая меня и Наймана, приходили от него письма, время от времени прилетали слухи. Он сошелся с потомками нгвеньяны Собхузы II — как с семейством принца Макошини, так и с боковой ветвью. Кто-то провел его на заседание не только либандлы, но и ликоко (Совета нации — Тайного совета). Он отыскал неких Мсвати-жреца и Н’Буну-телеграфиста, чьими пра-пра были Мсвати-вождь, объединивший кланы, и Н’Буну-вождь, понимавший интересы белых. Звучало как нынешние африканские анекдоты наоборот. Он добился места еще в колледже в Луенго, на полставки — тот же курс и тоже на сельскохозяйственном факультете. Плюс статьи для «Свазиленд Трибьюн» и даже «Умбики» — газеты, выходящей на свази. Овладел ли он языком, было неясно, хотя нескольким людям написал, что «агглютинативный, как все из семейства банту, с элементами флексивности язык большого труда не представляет». Неясно было и с заработком, потому что выплачивали в
лилагени, а он при этом разъяснял только, что лилагени равен
рэнду ЮАР. В подражание Пушкину иронически жаловался на саранчу и для экзотики — на муху цеце, в целом побежденную — «ну а вдруг». Найман сострил в старой доброй манере: «Кому от кого не поздоровится: Б.Б. от цеце или цеце от Б.Б.?» И еще напрашивающееся: «Б.Б. под баобабом» — про фотографию, которую он прислал всем на Пасху, одинаково надписав «Древо Жизни» на обороте: шутка времен словаря «Мифы народов мира». Еще одна шутка была, что однажды ночью он вышел во двор пописать — и тотчас хлынул ливень, разразилась гроза.
Слухи были достоверны, как письма, правда, письма легендарны, как слухи.
Где-то через год он слетал в Штаты, пора было. Нгвеньяна нгвеньяной, но существовал и реальный сенатор в Вашингтоне, который специализировался на «узниках совести», и после освобождения Б.Б. обменивался с ним поздравительными открытками на 4 июля и, так уж в политической неразберихе тех лет получилось, на 7 ноября. Ираида полетела вместе с ним, присмотреться. Предполагалось, что между выращиванием роз и игрой в дротики сенатор воткнет Б. Б. в какой-нибудь университет, в какой-нибудь приличный, по крайней мере не дальше часа-двух езды от чего-нибудь. Но — сорвалось: открытки
снова стали приходить из Мбабане. Что сорвалось, стало известно после бывшего Дня Конституции, когда Ираида, четверо деток мал мала меньше, старуха и
сам-семь вдруг высадились в Ленинграде.
Оказалось, у сенатора было реноме спортсмена, в обед он каждый день мотался трусцой от Капитолия до мемориала Линкольна и обратно. На уикенд пригласил Б.Б. поудить с ним рыбу на бунгало в Делавере, это тоже считалось спортом. Отъезд из вашингтонского дома рано утром в субботу. Б.Б. купил спиннинг и рюкзак, автобусом доехал до места. По пути немногочисленные пассажиры поглядывали на него чаще, чем в этой стране полагалось, — что Б.Б. отнес к своей
вообще экстравагантной внешности. Сенатор вышел из дому с женой и дочерью, а за ними еще четверо — как вскоре выяснилось, близкие друзья, член Верховного суда США с семейством, также приглашенные. Увидев его, вся компания на секунду застыла, как будто споткнувшись. Б.Б. снял рюкзак, чтобы погрузить в багажник сенаторского «Крайслера», и обнаружил на конце торчащего на полметра сложенного спиннинга женский лифчик. Должно быть, жена, вечером постирав, развесила в ванной кое-какое бельишко, а он, уже с рюкзаком на плечах зайдя за забытой зубной щеткой, подцепил.
Весело посмеялись, но, как стало ясно уже к концу первого дня, не от души: если это декларация — пожалуйста, однако не в их кругу; а если оплошность, промашка — что ж, бывает, допустимо, эта была вполне комедийная, однако что-то в ней содержалось еще и жалкое, что в их кругу не прощалось. Хозяин тему возможных американских перспектив Б.Б. вообще не задевал, а когда Б.Б. сам завел разговор, то сказал прямо, то есть грубо: «Я-то тут при чем?» То есть, как назвал это, рассказывая, Б.Б., отшил. Рыба клевала, но у него блесна сразу попала в сгусток водорослей, поглотивший, надо думать, не одну такую, и пришлось обрезать леску. По возращении в город сенатор не ответил ни на один оставленный им на автоответчике месседж. И тогда Б.Б. придумал способ встречи с ним абсолютно сумасшедший, однако по его логике чуть ли не абсолютно естественный. На воскресенье был назначен вашингтонский марафон, в новостях сенатор объявил бурно дышащей во время очередной пробежки пастью, что выйдет на дистанцию. Б.Б. выбрал ждать его на Пенсильвания-авеню недалеко от Белого дома. Вот-вот уже должны были перекрыть движение, когда высокий негр в белом плаще стал перебегать улицу перед и по направлению покатившегося на зеленый свет транспорта, длинными легкими прыжками, и, как в отрепетированной пантомиме, на миг слился с велосипедистом, тоже черным, догоняющим его. Б.Б. решил, что постарается сделать это так же грациозно. Он увидел сенатора бегущим по его стороне улицы в довольно густой толпе, среди которой ростом выделялись два телохранителя. Б.Б. вбежал в поток китайским стелющимся шагом аиста, усвоенным когда-то на занятиях ушу. Ближайшие на него наткнулись, один упал, через упавшего еще кто-то. Он почти пристроился к сенатору и начал фразу о том, как удачно набрал бы тот множество политических очков, если бы рекомендовал бывшего узника совести в университет, но сенатор в испуге дернулся, и в ту же секунду ближний телохранитель отбросил Б. Б. на тротуар. Полицейские подхватили его и отвели к машине… Под приступы моего гоготанья Б.Б. рассказывал это нарочито репортажным, сухо осведомительным тоном, пока под конец сам ко мне не присоединился.
Зимние — африканские летние — каникулы закончились в начале марта, треугольник с Б.Б. на острие потянулся к югу. И пропал из глаз, канул в пространство. На этот раз, как говорил лагерный кладовщик, когда что-нибудь сам у себя крал, с концами. Пришло чувство, что иначе и быть не могло, — и так оно и было. Потому что что делается с человеком
там, за границей, где он оказывается уже не на
неопределенное время, а в
который раз, это другая история, тамошняя, иностранного автора. А нам, если мы читаем иностранного автора, желательно, чтобы герой был настоящий иностранец, а не из наших облупленных. Б.Б. по-прежнему давал о себе знать, стал даже позванивать — натурально, за казенный счет. Вдруг из Брюсселя, однажды из Гонконга. А то из Ванкувера, в четыре часа ночи, чтобы сообщить следующее резюме: оказалось, на Западе есть уже все, в частности и он, Б.Б. — уже есть. Называется «социопат», называется «синдром Луспергера» — против чего как дефиниции он в частных беседах неизменно протестует, ибо «пат» и «синдром» означают, что субъект болен, а «болен» — что ему плохо, тогда как социопат от своей «патологии» неудобств не испытывает. Про социопатов уже сочинены романы и написаны книги психологических исследований. Но во всех чего-то, какой-то кромки, выдавливаемой при смыкании створок формы, недостает. Поэтому или по чему другому всегда находится место для еще одного, в частности для еще одного Б.Б. — запасное, как добавочное колесико на оси часов, которые и без него великолепно работали.
Сообщение, особенно в четыре часа ночи, предельно бессодержательное — как бюллетень канадской погоды для наших широт. Хотелось каким-то неопровержимым образом удостовериться, что это звонит он. А если точно он, то знаю, знал я такого? Потому что не помню, чье это — то, что я знаю. И через две недели как будто услышал он — письмо из Риги: что читает дневники, письма, мемуары, вышедшие за последнее время в России. И многие события и обстоятельства ему известны по собственным воспоминаниям. А чьи это дневники, чьи мемуары, в момент чтения поймал себя на том, что забыл, не знает, совсем, — и что это
вообще так, всегда. Лидии Аполлоновны, Зои Евгеньевны, Юрочки, Тики, ко времени его знакомства с ними в его пятнадцать и двадцать лет седенькие и ссутуленные, само упоминание чьих имен вызывало тогда тоску или внутреннее фырканье и немедленное забвение, — описаны, как раскаленная боль и ледяной ужас, как полнота не жизни, а умирания, то есть жизни, только и проявленной, что в умирании. И что-то стало различаться в месиве людей-марионеток, что-то не функциональное в них и, стало быть, возможно, более важное, чем функциональное, — их чувствительность. Другая, нежели его; не известная ему. И качество их времени было — похожесть на что-то, наверно, бывшее, но бывшее неизвестно где и когда — и определенно, никогда не виденное, ни в коем случае не
дежавю. Содержащееся в какой-то книжной макулатуре про какого-нибудь киллера Бешеного, которую он из высокомерия никогда не читал.
Оказалось, что он оброс множеством людей, начиная с жены, детей, «близких», знакомых вроде меня, и что теперь, когда они куда-то пропадают, как те из дневников и мемуаров, и абсолютно ему не нужны, они все-таки есть, их мельком даже видишь, и с ними надо что-то в мыслях делать, как-то завершать отношения.
И что с ними можно совершать, производить, делать все, что он совершает, точно так же как с новыми, которых он постоянно вовлекает на их место, которыми заменяет их. Осуществляет те же самые и с тем же самым результатом
операции жизни. Так что можно было бы обойтись одной колодой вполне, и даже
никогда не трогая некоторых карт.
* * *
Он так написал — или я про него? Про него — через себя. Да нет, он. Пропал — и чтобы твердо исходить из того, что пропасть может только тот, кто был, я и достал его письма, сложенные в один большой конверт, — от него с моим адресом латинскими буквами, и только верхняя строчка двойная: «Г-ну Германцеву / Mr. Ger-mantsev». И вот это рижское письмо — его.
Появлялся, лучше сказать — возникал, на горизонте. Не то чтобы призрак, но существо, которое ничему не принадлежит. Вроде мертвых, прибывших в Иерусалим через пятнадцать минут после смерти Иисуса Назарянина, с которыми живые не знали, что делать. Хорошо бы, если призрак — чтобы мне, например, не размышлять, испытывает ли он боль и если да, то какую — от новых неприятностей и прямой злобы, неожиданно обрушившихся. Потому что он отдал-таки на не Сотби, но почти, на некое, по его выражению, Пре-Сотби под названием Лотби, предварительное мероприятие — письмо Татлина. С целью не столько заработать, сколько заявить о себе, внести имя в список котирующихся коллекционеров и дилеров. Отдал за полгода до выбранного им аукциона, так что письмо прошло медные трубы экспертиз и было объявлено в каталоге рукописей третьим номером — непосредственно за автографом Китса и двумя листами черновика Макиавелли. Через день после выхода каталога из печати позвонил американец, помешанный на архитектуре XX века, и предложил за пять тысяч, немедленно выплачиваемых, снять письмо с торгов. Б.Б. справедливо счел, что сама по себе опубликованная заявка обеспечивает то же, что и участие в аукционе, признание, и после короткого раздумья ответил, что согласен, если за десять. Они поторговались: малоизвестные на Западе автор и адресат — уникальная переписка — вилами по воде — высокий рейтинг русского авангарда — новичок рынка — оценка Сотби-Лотби… — и сошлись на семи. Деньги были не так и нужны, но ноздри Б.Б. вдохнули пьянящий озон живого риска, и, как ласточка перед грозой, он заложил вираж. Ну и конечно, синица в руках ладони пощекотала.
Он прилетел в Москву — главным образом, чтобы рассказать Панину и отдать ему приличествующую часть денег. Да хотя бы и все — в знак лояльности, признательности и в расчете на разворот сотрудничества. Панин принял его радушно, начал с расспросов о впечатлениях, общих и частных, о тамошней жизни. Б.Б. было все равно, что сказать, и он повторил то, что недавно слышал от кого-то про разницу в езде по дорогам: в Штатах, в Германии ты окружен автомобилями, тогда как в России водителями. Это главное частное, оно же общее, ощущение. А еще — что гимнастический смех по утрам превращается в искренний почти на все семь минут, стоит только подумать об иностранцах, такие они смешные. Кого ни увидит в окно, кого ни вспомнит: смешной, вызывает смех. Как циркач — и совсем не обязательно клоун, скорее акробат, или жонглер, вызывающие смех прежде всего яркой внешностью, необычностью одежды. Вчера в Ленинграде Б.Б. навестил поэта Квашнина, по делу, по издательским делам, и тот рассказал как нечто смешное, может быть, даже очень, во всяком случае, подавая беспримесно иронической интонацией, как это смешно, — что ему позвонил его враг, и бывший, и нынешний, потому что создал и возглавил партию «Русские арийцы», поэт Горчаков, и извинился, что не может прийти на квашнинское выступление в зале «Октябрьский», потому что сам уезжает выступать в Сибирь, на что Квашнин ответил: ну что вы, спасибо, что позвонили, всегда рад вас слышать, присылайте стихи, а тот: но ваш журнал уже напечатал меня в этом году — а Квашнин: мы готовы публиковать вас и два раза в год, и сколько вы хотите. Все это — подхохатывая, словно бы не удерживаясь от вырывающегося смеха: дескать, до чего тот дошел и как тонко, так что тот и не понял, что это издевательство, он его разыгрывал. И, как о чем-то стопроцентно противоположном этому спектаклю, который разве что скукой заглушал вонь фальши, Б.Б. вспомнил о смехе по циркачу-иностранцу. Сама категория —
иностранец — смех, вдумайтесь. Например, Морис, вспомните лакированного Мориса.
Я, сказал Б.Б., часто его там вспоминаю. Как образ идеального иностранца — и образец. И это меня веселит. Как, кстати, ваши с ним дела продвигаются? Потому что я со своей стороны — и дальше Б. Б. плавно въехал в историю с письмом и под конец вынул из бумажника и положил на стол семь тысяч долларов в сотенных купюрах. Была пауза, потом Панин проговорил с разыгранным недоумением: «Это было ваше письмо, вы могли поступить с ним как вам заблагорассудится». Пожевал губами, поднялся со стула, достал с полки тоненькую брошюрку, протянул: «Не получали еще?» Это был «Аппендикс» — к последнему каталогу, всего несколько страниц с самыми последними новостями, и на первой — сообщение о том, что Б.Б. снял письмо с аукциона. «За что дирекция, — следовало продолжение, — выражает ему признательность, ибо благодаря этой своевременной отмене удалось избежать скандала — которые крайне редко, однако все-таки случаются на аукционах даже столь высокого ранга. На этот раз помогла делу исключительно быстрая реакция известного историка искусств из России г-на Панина на последний выпуск нашего каталога. В переданном им через владельца знаменитой галереи письме он сообщает обстоятельства появления виртуозной подделки. Письмо было написано им самим в 1929 году на пари с г-ном Татлиным, утверждавшим, что такого рода фальсификация всегда может быть разоблачена. Ознакомившись с изготовленным г-ном Паниным манускриптом, художник признал свое поражение и по условию пари передал в его собственность натюрморт из серии “мясных”, о предоставлении которого на одну из выставок авангарда сейчас ведутся с ним переговоры». «Как же это вы так
неосторожно?.» — сказал Панин Б.Б., как Б.Б. когда-то мне по поводу истории с погубленной кошкой, — и улыбнулся улыбкой театрального злодея.
Б.Б. пригласил меня на прогулку, чтобы все это выложить. «У него действительно есть многотиражка со статейкой отца. Ничего похожего на то, что он говорил, обыкновенная университетская полуполемика-полусклока о будущем историографии. С дешевой стенгазетной риторикой о “горе-историографах” — это есть, но, кроме Панина, там еще два имени. Ничего от жанра “доноса”, никакой связи
(«свази» — вдруг сказал Б.Б. и усмехнулся) с арестом, даже внося поправку на время. Копия “допроса” не впечатляет абсолютно, особенно после татлинского фальшака». Он помолчал, пока мы переходили от Александровского сада к бульвару: широкое место, и машины во все стороны. «Мелко, — произнес он, — вы не находите? Трясет газеткой и протоколом и патетически, с некоторым, правда, повизгиванием, “мстит”: “Вы думаете, такие вещи забываются! Или прощаются! Кто мне вернет эти десятилетия, кто расплатится по северным надбавкам и чем? Вы, что ли, папиной дачкой на оккупированной у финнов территории? Я ведь жарком вашей благоверной от той самой промороженности отогревался! Зародышу вашему в ее утробе вечную мерзлоту передавал! Как оно вам было — только тошно или совсем невыносимо? Когда ваше самое-самое чужими руками трогали. А сейчас? Когда я вас письмецом та-ак размазал. На весь мир и навеки. Ну так помножьте на тысячу, чтобы в мою шкуру влезть, и поклонитесь папаше-профессору. Я к нему, подумать только, шестьдесят пять лет подбирался посчитаться — и вот достал. Подводя, как говорится, итоги жизни”. Мелковато, согласитесь.
Когда он руку ей на живот, я понял: и ему ласки не хватает. Первому — мне. Но я, как вы все мне внушили, такой специальный
бэбэ — значит, не заслужил. А хочется. Чтобы ласкали, чтобы обласкали. Когда засыпаю, мои живот, конечности, шея — все как в беспорядке накиданное. Как в костер. И тогда я тоже кладу руку на живот — ну и что, что на собственный. И короткий миг чувствую: улеглось, идеально. А для него нет ласки, потому что старый, стариков не ласкают. Мне в тот момент, помню, в голову пришло: кем ни будь, монстром вроде бэбэ, как я, или Веиным-Феиным наиблагороднейшим, итог один — нет тепла, грейся каждый как можешь. Когда я его с ней в постели увидел, был, конечно, ошеломлен, был, признаюсь, уязвлен, но сразу и подумал: а возможно, старческие “чувства” не похоть, а как раз самая чистая, как я это понимаю, нежность.
Нежность — а он: “чужими руками трогали”, “тошно”, “невыносимо”. Но главное, если принять, что отец ему ни больше ни меньше как жизнь поломал, то все эти чужими руками троганье и письмом размазыванье, тщательно замышляемые, сложнейше доводимые до исполнения, — как мелочно! Жизнь переломана, непоправимо, кошмарно — Шаламов! Солженицын! Ионеско! Ан нет: Дюма, “Граф Монте-Кристо”. Ну, и чего он добился? “На весь мир и навеки”. На какой мир, на какие веки? Дешевка, мэлодра-ама». И вдруг не то чтобы засмеялся, а показал, что смеется: «Нет, разочаровал он меня. Я думал, он, — Б.Б. ткнул пальцем в новую, вывешенную на место советской металлической эмалевую дощечку с названием улицы —
конногвардейский, а оказалось, самых что ни на есть
профсоюзов».
Я всю прогулку промолчал, буквально — ни разу не открыл рта. Мне Панин из Москвы позвонил, сразу как Б.Б. от него ушел. Был в немыслимом возбуждении, в самозабвении, в восторге, заливался смехом, не давал слово вставить. Только повторив одно и то же во второй, в третий раз, спросил, скорее формально: «Ну, что скажете?», и я подумал: а что бы тебе не помереть годом раньше? Девяноста семи. Но сказал другое: «Обидно дожить до ста, всех приучить, что никаких оснований прекращать жить нет, и все-таки на сто каком-то крякнуть», — и повесил трубку.
«В русских людях есть деликатность, — говорил еще Б.Б.; он говорил действительно как иностранец. — Это пьяное обязательное, но ведь и трезвое тоже в конце любого разговора “извини, если чем обидел”, “не обижайся, если что не так” — на пустом месте. А этот несет, небось, что-нибудь непотребное про Ираиду кому ни попадя. Вам, например», — и посмотрел на меня. Но я сделал вид, что выглядываю что-то вдали, что-то, возможно, забавное, отчего по моему лицу блуждает отрешенная улыбка. Увы-увы, нес Панин непотребное, нес. Что-то с претензией на житейскую мудрость и стариковски хвастливое: мол, что то, что она внешне
так себе, он ценит гораздо выше, чем была бы красотка, потому что главное должны быть «блины грудей» из толстовского «Отца Сергия» про которые Горький вспоминает. Хотя у Толстого-то, — Панин как будто задохнулся от счастья, — в советском издании никаких блинов и нет.
«Санкций ООН, как я и думал, не последовало, — писал мне Б. Б. через несколько месяцев (из Праги). — Купивший письмо объяснил, что оно представляет ценность и как фальшак, как курьез, я ему вернул четыре тысячи, и сейчас мы друзья и в переписке. Морис пригласил меня разбираться с панинским архивом, который к нему почти весь уже приплыл. Я получил место, представьте себе, в Чехии, будем соседями. Единственно кто мою историю до кости обсосал и лизаную-перелизанную до сих пор из зубов не выпускает, это
ваши журналюги. Ваша “четвертая власть’’. Чтобы быть четвертой, нужны первые три, нужно накачать их величием, пороскошнее подать. А их в России нет — ни с величием, ни без. Есть “власть” вообще, ну что-то угнетающее, унижающее, обирающее и уничтожающее. Обычная одних над другими. Если это принять,
мъсс-мидии уронят собственную “власть” до властишки: вторые после этаких постгоголевских
первых? Ну вот и шакалят вокруг меня и под. и проч, и пр. — чтобы убедить, что они и вообще страшные, на куски разорвут, всех. Думаете, с чего я такими откровенностями с вами в личном письме делюсь? А я про это сейчас статью сочиняю, для “Фигаро”, — и решил, не пропадать же бульону. Но почему вы в этой стране остаетесь, правда не понимаю. Отсюда производит впечатление списанной. В
Итилъ. А оттуда, изнутри? Не начать ли мне для вас подыскивать университетик, где-нибудь в Силезии, в Галиции? Все-таки давно знакомы. Ираида, как выяснилось, захватила из Рощина старое постельное белье. На днях выдала простыню, посередине уже протершуюся до прозрачности, на фоне тюфяка в этом месте темнеющую. И на ней в углу красным — “Б.Б.”: мама вышивала, крестиком. Мамины представления о не знаю чем: буржуазности или м.б. благородстве, “аристократизме”, неважно. Вспомнил ее, то время, вспомнил вас».
* * *
В Моравии, в Богемии, в Каринтии… Необъяснимо яркая картинка преследует меня. Маленький-маленький, чуть больше села, город в Европе. Кто-то везет меня через него на машине. Чистый гладкий асфальт, дорога ведет на холм и там, на площади с церквушкой, кончается. Тупичок. Площадь окружена густыми деревьями, а может быть, это такой сад-парк, который примыкает к церкви. Его огораживает высокая металлическая решетка, на ней, не то на входных воротах — пестрые флаги, транспаранты, рекламные плакаты. Напротив бар, в тех же флагах. Затем возникает топография возвышающейся горы, ее соединяет с площадью земляная насыпь, через глубокий и широкий овраг, прямая как стрела. Склоны горы в виноградниках. Всего вероятнее, Италия. Но допускаю, например, что Германия — в которой я никогда не был! Еще — можно спуститься по огибающей холм проселочной дороге, узкой, но все-таки не тропке, она продолжается и на другой стороне, ведет наверх, достигает промежуточной вершины. Вдоль дороги яркие дикие цветы, открываются то слева, то справа лужайки.
И этот путь вниз-вверх и обратно проделан мною как минимум дважды. Иския? (Где я бывал.) Тюрингия? (Сказал же, что не был, даже близко!)
Что определенно, это что
кто-то в машине — Б.Б. В «Вольво» он провез меня от Москвы до дверей своего университета, про который помню только, что был расположен среди равнины, на берегу реки, под неподвижными облаками. Я прочел лекцию
«Ци Чв русском языке» — спектакль в мольеровском духе на полтора академических часа. Б.Б. подыгрывал, аккуратно. Я был приглашен им пожить у них две-три недели, но на второй день он попросил меня разобрать чемодан его переписки «60-х годов», я отказался — «но там же и ваши письма» — «тем более» — обычное его утомительное уговаривание — я вышел из дому, и вот тут-то он догнал меня на машине, и через какое-то время — полчаса? сутки? — мы оказались на этой самой площади, в баре, украшенном пестрыми флагами. Среди бутылок на витрине была «Столичная» — «Stolichnaya», — мы заказали, нам подали стопки грамм по пятьдесят. Б.Б. сходил к машине, вернулся с джазве для кофе, вылил в него свою порцию и попросил хозяина подогреть: у него першило в горле, и он боялся ангины.
Там ли это было? Почему я не помню этого твердо? Может быть, потому, что «заграница»
должна быть призрачной. Может быть, потому, что он уже начал расфокусироваться, и этот городок в этом да-и-нет пейзаже помогал происходящему с Б.Б. выглядеть естественным. Он побулькал теплой водкой в горле — как полощут календулой или содой, — проглотил и сказал: «Гдежить, в общем, непонятно. В России что ни мысль, то ржет, как Русь-тройка, что ни искусство, то мечтает позвонить в Царь-колокол. Журнал по-прежнему называется “Дружба народов”. Такая дружба: народов. Открываю — дневники нашего булгаковеда. Уже, при жизни. У
булгаковедов тоже есть
дневники! “Апрель 1950. Прочел Ажаева, не ходульно”. “Август 1952. Прочел Бубеннова, есть свежесть”. “Февраль 1954. Прочел “Трое в серых шинелях”, всю ночь проговорили с Жульеттой Иваровной”. Германцев, а Германцев!
Что — Сие — Значит?»
Оказалось, это последние живые слова, которые я от него слышал. После этого его окончательно не стало. Письма, которые кто-то — я нет — получал, этой картины исчезновения не меняли. Говорили, что уединился, якобы по-буддистски, на одном из датских островков в собственном доме. Но раз в месяц все-таки обязательно наведывается в Париж, в Нью-Йорк, в Иерусалим. По делу. По какому делу, если никто, кто его знает, никогда не натыкался на хоть какой-нибудь результат?! Нет, опровергали другие, работает в университете на богом забытом острове в Мексиканском заливе. И вовсе не там — а через посредство Раджа купил заброшенный, болотистый, малярийный островок в Индийском океане и открыл на нем университет, крошечный, наподобие древних. Будто бы получил под это деньги от правительства Индии — которой это важно было стратегически: тамилы — не тамилы, Пакистан, Китай. Он и жена — неизвестно что, а десятилетняя дочь преподает датский язык — неизвестно кому.
То, что всегда это были острова, особенно убедительно выражало, что его больше нет. Стерло с лица материков. Вода — он в ней растворялся. Правда, по другим сведениям, ничего подобного, получил кафедру в Европе, в… Но дальше шло название страны еще по карте Австро-Венгерской империи: в Паннонии, в Трансильвании, в Пруссии.
Эпилог
В июне 2001 года, в ночь летнего солнцестояния, мне приснилось, что я слышу сигнал домофона. Я нахожусь один в квартире моих знакомых, даже знаю каких, нажимаю наугад неудобную кнопку между дверьми и слышу жалобный женский голос, который по-французски просит милостыни. Ссылается на то, что уже получала от матери моих знакомых, которую называет
бабуля. Я по-французски предлагаю ей перейти на английский, она переходит, но с таким французским акцентом, что я, кроме
бабуля, ничего не разбираю. Тогда говорю — по-французски — красноречиво и элегантно, но строго — что этот случай не в моей компетенции, слышу начало всхлипываний и разъединяюсь. В эту минуту меня будит комар, неизвестно как пролезший сквозь сетку на окне. Прихлопываю его возле уха и просыпаюсь. Я в деревне Пески Тверской области, в избе, которую занимаю уже пятый год. Лежу под одеялом, солнечное утро, хочу понять, комариный это писк спровоцировал сон с сигналом, или он — наказание мне за то, что не сжалился над девушкой.
В это время возле моей калитки останавливается автомобиль. Выхожу на крыльцо — иностранной марки, но довольно захудалый. Автомобиль неказистый, и мой дом такой же. Вылезает молодой человек, легко, раскрепощенно. То стряхнет что-то с колена и вглядится. что такое прицепилось, то на что-то оглянется, то чему-то улыбнется. На мне остановил глаза ровно на столько же, на сколько на избе, канаве, палисаднике, березе и дальнем лесе. В общем, держится совершенно свободно, правда, еще и показывает, что держится совершенно свободно, и это его свободу делает в конце концов несовершенной.
Подошел, назвался Андреем. Сказал, что из РГГУ, Гуманитарного университета, пишет книгу — «чем вы, чуваки, жили в пятидесятые». Не литература и искусство, про которые «вы столько уже нашептали-нарыдали, что с души воротит», а «культур-мультур». «В вашем слое — новых тогда молодых людей с запросами». Например, что носили, кто задавал фасон, из какой ткани, натирало ли, отвисало ли, нитки, иголки, швы, петли, пуговицы? Как выглядели девицы, какой тип считался привлекательным, как себя вели при знакомстве, при «переходе в интим», как все выглядело «в час сладостного бесчинства» — комната, мебель, белье? Кстати, как вообще обставлялись комнаты? Кстати, в скольких случаях их ста один из партнеров произносил: «В час сладостного бесчинства — Марина Цветаева»? Что читали — классического, советского, иностранного, в каких соотношениях? Ходячие истории того времени — с кем-то из знакомых случавшиеся и откуда-то завезенные. Суеверия, приметы… Он взглянул на оставшийся в небе с ночи прозрачный ломтик луны и сказал: «Например, если на растущий месяц можно повесить ведро, будут дожди или не будут?» Какие анекдоты были в цене? Кстати, помню ли я такой? Из серии про отца и сына: сын хвастается: «Долго ли умеючи», — а отец ставит его на место, назидательно: «Умеючи — как раз долго». Я помнил. С какого времени? Класса с седьмого. В свою очередь не объясните ли, как выбрали меня и как нашли?
Засмеялся: «Старый добрый двадцатый век. “Вы от кого? Не стукач ли? Не коммунист, не порно ли продюсер?” Найман, Найман прислал. Вы ведь с ним в одном котле эту кашку варили, нет? Мы не они, паезия, честная бедность, дом в деревне, это вот все… Рекомендовал и дал дирекшенс». Изба действительно досталась мне от Наймана — четыре года назад уезжал в Италию на летний семинар, предложил пожить, а на следующий год купил дачу под Москвой. Пески остались за мной, моя обязанность была ждать, когда кто приценится. За три лета — никто.
Зато в этом году уже двое, только оба нос воротили — «я думал, до-ом, а тут избушка, я думал — Во-олга, а до нее идти». Но вообще, в 2001-м все переменилось. Разом, все. 1999-й так-сяк доживали, в конце дверь захлопнули — непонятно, от чего так бабахнуло, от удара или от петард, — и под грохот ключ в замке повернули. В двухтысячном — забывали, прибирались, покраска-побелка, привыкали, заводили, и поехало. И вот Андрей, поехал и доехал. «Легко добрались?» — говорю уже как в русском романе, когда время было еще не деньги, еще не в обрез, еще описывали и заведомую приветливость хозяина, и его от неожиданного визита легкую растерянность, механические фразы — «как добрались, голубчик?» — «За два бы часа сделал
лёхко, если б не объезд в СП». — «?» — «Сергиев Посад, Совместное Предприятие святого духа и министерства туризма». Свободно держится, свободно.
Прошли в дом, сели на веранде пить кофе. Он говорит, для затравки:
«Лёхко — я заметил, не понравилось вам. В ваше время говорили —
запростяк, не так ли? Еще — за
простулъку, казалось смешней, да?
Запросто — уже не шло. А почему? Западло казалось?» — раздразнивает меня. Я улыбаюсь, не отвечаю — кто кого дразнит? Он говорит: «Скажите, вот сейчас так круто — “круто” в обоих смыслах — все переменилось. Для вас круче, чем для меня, согласны? Жизнь прожить при Советах, и вдруг Степка Разин. Не обидно? Целая жизнь — и псу под хвост». И как раз пробегает по дороге Гера, соседская собачонка. Наглядно. Я на нее пальцем ткнул — все так же молча. Он засмеялся. Всё, говорит, всё; как принято было в вашей русско-еврейской компании шутить, геиук трепаться. Жизнь прожить вообще обидно. Целую, полцелой. Но хочу спросить: как это, когда, вашими высокими словами говоря, все, чему поклонялся, сожжено — что сжигал, тому поклоняются?
Тогда я, холодно, как князь Вяземский, говорю: а что переменилось? Не нахожу, чтобы что-то переменилось. Кассиры — да. Но когда это кто обращал внимание на кассиров? А так — тех же щей. Ну свобода слова. Так она у нашего «слоя молодых людей с запросами» всегда была, еще лучше этой. Эту — с приплатой отдадим, свободу
слива… И осекся, умолк. Понял, что завелся, — на что у него и был расчет. Уставляюсь в дно чашки, как будто разглядываю гущу. Хотя кофе — растворимый. Он говорит: «Дата. Против даты нет лопаты. Вместо трех девяток раз — и три нуля. Перемена. Не заметить нельзя». Я, бесстрастно, как Сологуб, отвечаю: техническая. Как спидометр: накрутили колеса тысячу девятьсот девяносто девять, и выползает на циферблат: две тысячи. Подумаешь: ага, третья тыща пошла, третья, стало быть, тыща. Надо масло сменить. Масло — вот и вся перемена.
А точнее, арифмометр. Ах, какая вещь была, Андрей, какая игрушка, какая волшебная машинка! Тяжеленький, крепенький, шпенечки против цифр поставишь — и сильно, громко крути за ручку. И в нижнем ряду в строчку высыпается серебряное число. Десять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот один. А чтобы его снять — той же ручкой против часовой стрелки: и выпадает — ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль.
Сам делаешь, ты Август, ты Зевс. Нет больше арифмометров — вот вам и вся перемена, весь двадцать первый век. Из-за даты сказать, что ничего не переменилось, нельзя — кто спорит? Но дата что? Производное дешевых счетов с костяшками. Хотя и похожих на лютню. Которых, увы, тоже уже нет.
Он слушал меня насмешливо. Вообще. Такой был взят стиль. Что бы я ни говорил. И взят, признаю, довольно етественно. Потому что, в общем-то, смешно: человек говорит так, будто знает, что оно так и не иначе, не переменилось, переменилось — словом,
знает. А что то, что сейчас — переменилось что-то или не переменилось — скажется лет через пятнадцать — двадцать, а
как скажется, никогда ему не знать, потому что к тому времени порастет его могилка чахлой травой — про это он даже не поминает, ни одним словцом, закрыто воображение. По ведь деревня, с мая по сентябрь включительно — пять слов в день с соседом, чья Гера, а остальное время бормочешь себе под нос — как не разговориться с новым человечком!
Он усмехался, но слушал внимательно. А я говорил. Подчиняясь ходу вещей: в те годы жил? жил; до сегодня дожил? дожил; ну и рассказывай. Поглядывал он на меня иронически, но что-то даже записывал. Чем дальше, тем чаще. Вопросы ставил так, что почти на все отвечать было неуютно. Слышали ли вы от кого-нибудь что-то, что выбивалось из общего ряда, или был единый поток с разными струями? Но я отвечал. Или отказывался. Про «переход к интиму» и «час сладостного» сказал, что это личное, а мы с ним не близкие люди, чтобы личным делиться. Он отозвался: «Ну да, вы же были до сексуальной революции». Я возразил — высокопарно, как мог бы Гюго Шиллеру, но так я и хотел: «Мы были, когда были стыд и бесстыдство».
Часа через два мне показалось, что он ко мне привык. А я видел в нем типа, хотя и не несимпатичного, но чья жизнь, прошедшая до нашей встречи, была мне неинтересна, потому что скучная, а он, чтобы я эту скучность мог отбросить ради живого человека, слишком чужой; а жизнь, которая пойдет у него дальше, неинтересна, потому что до нее-то уж мне дела точно нет. Незаметно вопросы-ответы кончились, и пошла болтовня, правда, с прежней диспозицией: он моим мнением интересовался, пусть и sub specie ironitatas, а я его — нет. Он сказал: «Мой друг одно время имел дело, контачил, если по-вашему, с шизом не шизом, придурком не придурком, в общем, с тараканами, если по-вашему, — ваших лет, может, на пять-десять помоложе. Как-то у него в имени-фамилии два “б” сталкивались. Бен-Белла? Биг-Браза? Топ-модель была когда-то, Брижит Бардо… (Я вставил: «Кинозвезда».)…так ее почти официально называли Бэбэ… Не встречали такого?»
В тот же миг я понял, что квартира во сне была Б, Б. и бабуля значило Б.Б. и я. Оттягивая время, я спросил: «На пять или на десять? Для вас разницы нет, а для меня большая. Мое поколение или следующее». — «Чего не знаю, того не знаю. Значит, не встречали.
Встретили бы, не могли не запомнить. Вы историю про запертых в пустой даче слышали? Должны были слышать! Я все дознаюсь, было это или только байка гуляла. Кто: да-да, чё-то такое доходило — кто: да чистый понт, было бы, до меня бы до первого дошло».
* * *
Историю я не то что знал, я ее придумал. Не придумал, а просто однажды проговорил — не помню кому. Кому-то, кто был рядом: не так уж много на эту роль — оказаться со мной рядом — наберется кандидатур. На язык попался Б.Б., и мне в голову пришло сказать: «Интересно бы запереть на месяц в одной квартире Б.Б. вместе с… — и я назвал еще два имени законченных эгоистов из общих знакомых, — а еды им дать на одного и посмотреть, кто останется». И мы хором ответили: «Разумеется, Б.Б.». Так что я попросил Андрея: «Напомните — может, и слышал».
Его друг открывал галерею, в середине девяностых. Русского поставангарда — которого действующие лица, все за малым исключением, уехали к этому времени на Запад. Его свели с Б.Б., сказали, что он промышляет, хотя и без большого успеха, авангардом настоящим, но знает и поддерживает отношения с несколькими из пост. И прибавили: только будь начеку, внешне-то он хлебный мякиш в пальцах мнет, а когда его однажды заперли в одной квартире с двумя чемпионами по кровососанию, то через месяц он был как огурчик, а они отдыхали над вечным покоем.
Сюжет, захотелось мне перебить рассказчика, был в те дни не выдуманный, напротив, разработанный практически. Во-первых, откуда-то с Таймыра или с Чукотки унесло на льдине в открытый океан пограничный наряд, трех рядовых и старшину. Фамилия старшины была Зиганшин, одного из солдат — Поплавский: запомнил только потому, что тогда по радио и с эстрады и во всех кабаках беспрерывно пели итальянский шлягер «Воляре», с припевом «воляре — о-хо, кантаре — о-хохохо!», а остроумцы и вольнодумцы сразу переделали в «Зиганшин — о-хо, Поплавский — о-хохохо!» («Поплавский — не..?» — не удержался, имея в виду поэта, спросить Андрей. — «Никакого отношения».) Через месяц льдину, тающую и раскалывающуюся, донесло до вод, где ее заметили с американского военного корабля. Или с вертолета, неважно. Все четверо были живы, хотя и в плачевном состоянии. Начался ор на весь мир, и наши не сразу, но признали, что да, унесло, да, месяц назад, а не объявляли, потому что велись интенсивные поиски, и вот-вот бы мы их сами нашли, не хотелось заранее нервировать население. Говорят, на Политбюро сшиблись линии трактовать солдатиков как героев — и как дезертиров: возобладал, как любили сказануть во все советские периоды, разум. Не то всем, не то только Зиганшину по возвращении дали Героя Советского Союза. Возвращались через Париж, где Кристиан Диор или другая такая же шишка успел сшить им новые шинели взамен военторговских, пришедших в негодность. Во всех газетах были фотографии, как они в затылок идут парадным шагом по ковровой дорожке от самолета — в этих шинелях! Ну, от-кутюр! Конец света! — если пользоваться любимым возгласом Бродского. Шутка, что, мол, было пятеро, но одного пришлось пустить на растопку, имела хождение, однако вялое и короткое. Довольно быстро увял и хит «Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел один сапог» на мотив «Рок-эраунд-о’клок».
Второе большое событие, отдававшее тем же экзистенциальным духом голого человека на голой земле, продолжалось год и было обнародовано, только когда кончилось. Трех людей посадили в капсулу размером со стандартную квартиру в новостройке, полностью изолированную от внешнего мира, никаких окон, никаких звуков. Электричество оставили. Снабдили некоторым запасом еды, но главный упор сделали на самообеспечение. Какие-то грядки и аквариумы со съедобными растениями, какие-то грибы под полом. Самое изобретательное — рекуперация воды: перегонкой их собственной мочи. Эксперимент назывался «имитация условий долговременного пребывания в космосе в крайних обстоятельствах». Женам сказали, что Байконур, секретный сбор перед полетом. Через скрытые в потолке окуляры наблюдали, справляются ли, адекватно ли поведение. Пропагандистский расчет был на противопоставление серьезной подготовки к жизни в околоземном и более отдаленном пространстве американскому шоу с высадкой на Луне — про которую девять из десяти советских граждан были уверены, что поставлена в Голливуде. Сообщение об опыте появилось в нескольких центральных газетах одновременно, но сенсации не произвело — может быть, потому, что почти вся страна жила похоже, только похуже. Через неделю от одного из «клаустронав-тов» ушла жена, сказав, что не хочет жить с человеком, пившим свою мочу.
Между прочим, тот самый Сеня Шляпентохс Камчатки, отважный малый, который, по его словам, лазал в мрачные бездны земли, погружался в пучины моря и делал на острие шпиля петропавловской крепости, когда с нее был снят для реставрации ангел, стойку на руках, однажды пришел к Найману невероятно таинственный и то порывался что-то открыть, то запрещал себе, пока наконец не рассказал, выведя Наймана на улицу, что его в скором времени посылают на Луну. Что все испытания пройдены, под водой он просидел без дыхания четыре минуты, в самолете в невесомости плавал на сорок секунд больше положенного, потому что пилот не мог выйти из пике, в центрифуге очень тошнило, но удалось сдержаться, и, в общем, пока, не поминай лихом. Найман напрягся, ища доводы для опровержения, и нашел неотразимый — что нельзя себе представить номер газеты «Правда» с сообщением ЦК и правительства о запуске на Луну космонавта Шляпентоха и Сенину фотографию с еврейским носом… Но я вас, Андрей, перебил. Рассказывайте.
Сходятся в одно историческое время, а именно в ваше, в одном кругу, а именно бывших молодых людей с запросами, три небывалых себялюбца. Дикий поэт Валерий Шварц, дикий математик то ли Коноплян-ский, то ли Потоплянский, не помню, и дикий Б.Б. Некто Шахматов, который с кем из них учился, с кем гулял, с кем подторговывал, в общем, одна компания, делает порядочные деньги — на антиквариате. Самый большой его интерес и удовольствие, почти наслаждение, было узнавать, а лучше бы наблюдать, как люди обделываются. Разницу между тем, как человек выглядит и что есть на самом деле, он понимал исключительно как что на самом деле всегда гаже, чем выглядит. И если подтверждение не приходило само, он старался подстроить обстоятельства так, чтобы низость подопытных не могла не проявиться. Он потом разбогател по-настоящему, на каких-то полезных ископаемых, но это другая история, ординарная и скучная.
Он предлагает этой троице по тысяче рублей за проживание на заброшенной дачке в течение месяца втроем, при условии, что дачка будет заперта, даже забита извне, а в трех холодильниках, открывающихся каждый своим ключом, будет оставлено по десятидневному рациону на одного. В случае «нарушения правил», как объявил Шахматов, и пояснил: «то есть каким-то образом освобождения до срока — или смерти, увы, увы» — такую он с юности культивировал эпатирующую манеру разговаривать — любого участника двое оставшихся делят его вознаграждение между собой. Остается один — забирает все. Шварц согласился сразу, математик через полминуты, Б.Б. сказал: три тысячи. Средняя месячная зарплата крутилась тогда вокруг ста рублей. Шахматов предложил две, Б.Б. ответил: тогда четыре. Шахматов выложил по три — разделил по трем шкатулкам, запиравшимся на такие же, как у холодильников, замки, и вручил вместе с ключами соревнователям.
Шварц из всего услышал только тысячу рублей и нетерпеливо ждал, когда тот кончит, чтобы быстро сказать «да». Математик был болезненно любопытен и при этом один из всех честолюбец, он просто мгновенно все рассчитал, задачка показалась ему нетрудной. Б.Б. так же просто
знал, что через месяц получит минимум три, максимум девять тысяч. Он взял с собой рюкзак книг, чтобы за месяц подготовить монографию об — испанской? французской? — поэзии от Средневековья до современной и имел в виду сколько-то использовать Шварца для перевода стихов стихами. Шварц захватил Музиля, которого не читал, хотя и говорил, что читал еще в школе по-австрийски. У математика все было в уме. Откуда-то взялся священнослужитель, общий знакомый, и отслужил недолгий деликатный молебен «о тридцатидневном странствовании в пустыне».
Шварц умер первый… Я наконец спросил: «Кто такой Шварц?» — «Вы его не знали?! Валерий Шварц — “широко известный в узких кругах”, вы не могли о нем не знать. Про него ходила масса легенд. Врун, жуткое трепло, фанфарон — и шикарные стихи. Поэт — как мы все представляем себе поэта». — «Не псевдоним, вы уверены? Была такая поэтесса Шварц, в Ленинграде…» — «Что значит “была”? Есть и сейчас. Не имеет к ней никакого отношения. Одно время говорил, что они были женаты, поженились, когда ей исполнилось двенадцать, но она запустила школу, и пришлось разойтись. Потом — что она его внебрачная дочь». — «По стилю напоминает одного тоже фантазера, моего знакомого…» — «Вы хотите сказать Рейна? Рейн Рейном, а это Шварц. Мы будем сейчас издавать его полное собрание. Вы меня не разыгрываете? Его знала каждая собака. Жил между Донецком, где родился, Берлином, куда женился, и Москвой, где тоже родился, тоже женился, которую абсолютно собой заморочил и под которой умер. Довольно бесславно, но все равно — как поэт».
Грузный Шварц съел свой запас за первые трое суток. Он провез под фуфайкой грелку с коньячным спиртом и устроил круглосуточный пир. Кормил-поил партнеров, которые, впрочем, ели-пили аккуратно. На четвертый день лежал вздыхал, к вечеру стал взывать: «Поднесите
хоть стакан рассолу, если жидитесь на бокал золотого, как нива, ау!» Наутро встал голодный, был уверен, что все равно как: поделятся те с ним, или вообще отдадут свои ключи, или придется отнять у них силой — но сыт он, безусловно, будет. Его эгоизм был такой же наивный и сокрушительный и основанный на беззащитности окружающих, как у детей: при чем тут окружающие, когда вот — я! Если мне интересно, что в чужом письменном столе, в буфете, в блокноте — открываю ящики, дверцы, блокнот. Понравилась книжка на полке, лыжная шапочка на вешалке — тащу книжку, тырю за пазуху шапочку. Спросил на банкете у соседа: «Вы крабы любите?» — «Люблю». — «Я — обожаю», — и вывернул себе на тарелку всю горку с блюда. Никто не знает, что там на даче произошло, слух был, что в какую-то минуту он полез драться и в перепалке ударился об угол холодильника — потерял сознание, а когда пришел в себя, было уже не до еды. Математик и Б.Б., друг с другом не разговаривая, вынули из его холодильника все полочки и решетки и поместили в полусидячем виде тело.
Эгоизм математика брал безукоризненной целеустремленностью. Если он выделял время для чтения с часу до пяти, то с часу до пяти могла, подавившись чаем, задохнуться его мать, истечь кровью, порезавшись, дочь — он запирался в кабинете на ключ и дверь не открывал ни на стук, ни на плач, ни на взывание к его совести. Попав в набитый автобус, он на протяжении нескольких остановок по сантиметру — по дюйму прокладывал себе путь к ближайшему поручню, сжимал его ладонью, подтягивал тело, припадал плечом и наконец обвивал грудью, животом и ногами — хотя бы ему уже на следующей было выходить. Пойдя на эксперимент, он сделал ставку на аскезу, о которой, как и обо всем на свете, читал в специальных книгах с часу до пяти. Элементарно свел потребление пищи до трети ежедневного рациона, лежал на диване и выдумывал и решал все новые и новые теоремы и в ус не дул. Опять же по слухам, день на седьмой-восьмой у него по пути в уборную закружилась голова, схватился, падая, за шкаф, шкаф на него — и тем же макаром, что Шварц, он расположился в своем холодильнике — пополнив съестные запасы Б.Б.
Короче говоря, к концу тридцатого дня Б.Б. ждал Шахматова с упакованными в рюкзак книгами, рукописью монографии и шкатулкой с утроившейся суммой и имел провианта еще на день-другой. Оставив Шахматова разбираться с двумя телами, он не быстро, но и не медленно потопал на станцию и никогда, кто бы с ним об этой истории ни заговаривал, ее не подтверждал, но и не отрицал, а только отдавался таинственным мыслям. На его лице задумчивость сменялась тенью как бы и печали, как бы и улыбки…
«Было?» — окончив, спросил меня Андрей, произнося, как мне показалось, не без умысла: «Б-было?» И увидел на моем лице ровно это выражение — и не услышал ни звука.
* * *
В деревне событий нет, разве что НЛО прилетит в виде спектрально светящейся баранки, повисит над лесом, но про НЛО всем всё объяснили дети, для них это одиножды один один. Я снова и снова проигрывал, как кассету, визит Андрея, переводил из регистра в регистр, выделял то только историческую тональность, то эстетическую, то переписывал как сплошь юмористический скетч. Не то чтобы хотел что-то поменять, сказать иначе, это пропустить, а другое вставить. Но событий нет, дел — раз-два, земляничку пособирал, черничку, первых лисичек, почитал-почитал-почитал — и думай. Точней, пляши по кочкам, которые вылезают внутри головы.
К июлю зацвел лен: бывший колхоз, который остался колхозом, но в придачу, в наглядном соответствии с тогдашними газетными клише, «сросся с местными коммерческими структурами», посеял той весной лен и рожь. До цветения поле поблескивало, как зеленый муслин (была в моем детстве такая ткань, забыл Андрею упомянуть), кустики лоснились нежно, и вдруг высыпало над каждым бледно-голубые цветочки в пять лепестков. Знаменитый декадентский голубой фарфор конца девятнадцатого века, чашечки, прозрачные как тень, размером с пуговицу. На меня накатило настроение все видеть, как в последний раз в жизни, поэтому невероятно все нравилось, и рожь в оттенках от сизого до оранжевого, и лен, и даже то, что, насмотревшись под прямым солнцем на белую страницу, входил в дом и различал только черно-багровые сгустки вместо предметов. Дескать, кто знает: больше, может, такого не увижу, а хорошо.
И под этим же знаком вспоминал наш разговор: мол, не последний ли такого рода в моей жизни? А если последний, то… То что? Что такое могу я
передать потомкам, что не превратится, если будет у них нужда или охота, через каких-нибудь двадцать лет в столь же несусветный фольклор? И побочные факты все его только подтвердят, все лягут в масть — а подтверждения побочными фактами самые убедительные. Например, я спросил, не могу ли сам поговорить с его другом-галерейщиком. Когда из первых рук, легче, так сказать, отсеять плевелы от пшеницы. Нет, нельзя, он погиб. Б.Б., когда они встретились, показал ему косу — диковинной формы и профиля. Трапецеидальное лезвие из специального черного железа на крашенном белой, наподобие эмалевой, краской косье, расширяющемся от круглого основания до плоской, как весло, лопасти наверху. Б.Б. сказал, что это супрематистская коса Малевича, сделанная его собственными руками. Первоначальное название было «человек яко трава», но вскоре художник переименовал ее во «власту». Нашли в Немчиновке под Москвой, на чердаке дома, где жил Малевич. Ручка была обернута листом бумаги с машинописным текстом, в нескольких местах правленным от руки, и подписью тем же почерком «Казимир». Сомнений в аутентичности нет. В начале 60-х местный старик-крестьянин рассказывал, что походить-то на «ласту» она походила, но косить была мука. В деревне стали называть ее, фыркая под нос, «ласточка» — в том смысле, что так и летает.
Выпустить ее на артрынок и «раскрутить» выглядело делом техники. Но галерейщик предложил сперва сделать десяток копий, эту подать как изготовленную мэтром вручную, а остальные — выпущенные из его мастерской. Где десяток, там и два. Про второй он Б.Б. не известил, но тот узнал. Привез бизнес-партнера в Немчиновку, они вошли в сарай, где небольшая бригада кузнецов и плотников секретно этим занималась, и поднял две половицы, под которыми лежали спрятанные экземпляры. Друг Андрея наклонился, как бы дивясь увиденному, и в этот момент его нога поскользнулась в лужице не до конца засохшей краски. Он упал на косы и через несколько минут умер от потери крови… Между прочим, он как-то раз сказал, что побаивается темных чар, которыми Б.Б., он сам был свидетель, распоряжается. Однажды Б.Б. пришел к нему, когда по телевизору показывали футбол. Едва Б.Б. взглянул на экран, как команда, за которую хозяин болел, пропустила гол. Увидев, что он огорчился, Б.Б. вышел в коридор и, минут через пять войдя снова, бросил взгляд на стекло буфета, в котором отражался экран, — и в ту же минуту те сравняли счет. Матч шел к концу, и друг Андрея в шутку спросил, нельзя ли устроить победный гол. Б.Б. ответил: «Почему нельзя?» — снова уставился на буфет, и на последней минуте гол был забит…
Давно-давно, когда пролетел первый шумок про «другую жизнь» Б.Б., я ему сказал: «Плохо будет, если вас раскусят», — на что он беззаботно ответил: «Уже раскусили. Пимен. Но и с этим можно жить неплохо». Пимен был из Сибири, из-под Читы, в Ленинград явился только что не пешком, а так — Ломоносов. Сперва написал всем письма: Шкловскому, Чуковскому, Роману Якобсону в Америку, Адамовичу в Париж и даже успел за неделю до смерти Чан Кайши, тайваньскому президенту — напоминал о брате Ахматовой Викторе, с которым тот встречался юным в Военной академии Гоминдана. И все сказали: жива Россия — шестнадцатилетний мальчик, из забытого богом поселка, а все прочел, все нашел, все подхватил. И первый невероятный конфуз: Пимен — девушка. На вид — бесформенное мужеподобное существо с сиплым голосом в кофте наподобие гимнастерки и штанах из «Рабочей одежды». Звали ее как-то очень немудрёно, Люда Семенова, Лена Смирнова, но она взяла псевдоним, в те же шестнадцать лет: Пимен Чингизов. Пимен — годуновский, пишущий, Чингизов сложнее: пра-Русь, дорюриковская, блоковски панмонголистская. И — тайный, судорожный, раболепный поклон Ахматовой. Потому что Пимен писа(-л, — ла?) стихи, и все они были ахматовские — не
под нее, а словно бы те, которые та пропустила написать. И некоторые, считаные — она никому, даже себе это вслух не говорила, но знала доподлинно — из ахматовских лучших. Ну, и раз та взяла свое имя у ордынского хана, то эта, в унисон у его великого предка.
Она приехала в Ленинград и, как и предполагала, попала в реальность пьесы о чужестранцах и демонах. Характерам, поступкам, отношениям не было объяснений: такая, никак не связанная с читинской действительностью страна, такая антропология. Она поняла принцип: вымышленность — остальное заучивала наизусть. Как поначалу, десятилетней девочкой, Ахматову. Там тоже было нездешнее пространство: какая-то учтивость, тюльпан в петлице, какие-то кентавры Глебова-Судейкина, Анреп-Недоброво. Такое племя не могло размножаться общепринятым образом — гомосексуализм, на который она наткнулась сперва в книгах, потом у дверей уборной Варшавского вокзала, потом абстрактно примерила к себе, конечно, тоже был никакой не способ, но хотя бы сколько-то отстоял от абсолютно для этой цели неприменимого обычного совокупления. Все эти наполовину искусственные, наполовину иллюзорные
цветы зла сплелись в ее психике в пылающий ледяными молниями букет, и через два года она в первый раз пропала с горизонта и, появившись через два месяца, не помнила, где их провела.
К Б.Б. она пришла через месяц после приезда, она знакомилась тогда с людьми по составленному еще дома и дополняемому в Ленинграде по ходу дела списку. Впечатление было одно из самых сильных, если не самое. Ей приспичило в уборную, но она попала в чулан и увидела сваленные в кучу книги, перетянутые ремнями черные иконы, прялку и ящик с подванивающими гнилью ананасами. И жизнь Б.Б. открылась ей, как на картине, которую она, Пимен, как будто сама писала. Б. Б. поставил для себя натюрморт, на свой вкус выбрал пейзаж, сел против зеркала для автопортрета, а она тем временем все это нарисовала. Вернувшись в комнату, она сказала: «Вы меняете вымысел-искусство на вымысел-деньги, да?» И тот, ухмыльнувшись, ответил: «Ну, более или менее». Тогда она спросила: «Вы, конечно, согласны, что педерастия, хоть и приблизительно, но все-таки точнее, чем соития разнополых, отвечает феномену вымысла?» — «Естественно — если про то, что всегда называлось противоестественным, можно сказать “естественно”». — «Так вы не гомосексуал?» Б. Б. посмотрел на нее внимательно и проговорил надменно: «Скорее нет».
Они вместе нашли старуху, у которой скопилась часть ахматовского архива предвоенных и послевоенных лет: кое-какие стихи того времени считались пропавшими, забытыми, уничтоженными. Позже выяснилось, что у нее и до них побывали такие же археологи, так что тексты уже были продублированы, но что-то они успели опубликовать первыми. Потом разошлись. У Б.Б. была еще дюжина той же важности, что Ахматова, интересов, и еще полдюжины гораздо более важных. Пимен же увязла в ней уже всеми коготками и обеими лапками с хвостиком, и видно было невооруженным глазом, что скоро всей птичке пропасть. Она ориентировалась, главным образом, на видения и озарения.
Анна говорила ей, где еще Пимен найдет ее неизвестные стихи, а если у той не получалось, то могла и продиктовать их. Во сне, в полусне, в трансе. Пимен прочитывала стершиеся карандашные черновики, почти не глядя на них. Возникали новые стороны ахматовской поэтики, иногда сомнительные, но никогда не не-ахматовские. И Анна была с ней откровенна, как ни с кем до сих пор, и, как будто они две девушки-наперсницы, рассказывала, кого, когда и как любила, кто и как любил ее и кто заставлял страдать.
У Пимена вышла книжка собственных стихов, потом еще одна. Сходство с поэзией Ахматовой было разве что в употреблении некоторых слов — «разлука», «пророчить», «горе», «опустелый», упомянутая «учтивость». А так — лексика, тропы, техника, градус — не то чтобы свои, а — ничьи. Как текст то-другое стихотворение попадалось даже и ничего: что называется, мысль, пафос, сюжет. Но ни одной строчки, задерживающей внимание, ну не поэт, нечего делать. Зато ахматовские стихи выныривали из нее безостановочно — и входящие в канонический корпус, которые она знала на память все и про каждое знала все; и те, что она «услышала». Б.Б. встретил ее на улице, она была в плохом виде: одутловатая, неопрятная, отсутствующая — оказалось, за несколько дней до очередного исчезновения. Но вдруг ясно, пронзительно посмотрела в глаза и произнесла: «Я сама не знаю, какие мои стихи, какие ее. И вообще: где я — я, а где я — она».
Лет через двадцать появилось полсотни новых стихотворений, отрывков, черновиков Ахматовой. Маленькими порциями их вводил в оборот коллекционер из Усть-Нарвы, до того никому не известный. Источником он называл архив все той же старой дамы, к этому времени уже умершей. Сундучок невежественные родственники хотели выбросить на помойку; чудом удалось спасти. Родственники вскоре переехали, куда — никто не знает. На его удачу две тетки из Академии наук выпускали в это время полное собрание Ахматовой, а заглянули в нее внимательно впервые только после того, как их на эту должность назначили. С такими dubia они могли открыть в одном из последних томов, и открыли, внушительный отдел — как любила говорить сама Ахматова, «как у больших». На его неудачу иовонайденные тексты оказались все рукописными. Бумага, карандаш, ласта авторучки, в нескольких случаях чернила — были «того времени», от 40-х до 60-х годов, но крошечные детали, связки букв, хвостики у «б» и «д» выдавали подделку. Проще было бы изготовить машинопись и кое-где внести правку от руки: Публичная библиотека и за то, и за то платила по сто долларов одна сторона листа, владельцы частных коллекций — в два-три раза больше. Но, видно, тот, кто писал, должен был быть — или не мог не быть —
самой Ахматовой. Среди экспертов, которых просили дать заключение, оказался и Б.Б. Его резюме звучало: «Если это подделка, то конгениальная». «Если подделка» — увидел я трепещущие ноздри Б.Б.
В нашу единственную встречу, в пору, когда этим и не пахло, Пимен сказала мне с внезапной гримасой боли на лице: «Ахматову будут подделывать. Она без присмотра, за нее никто не отвечает. И это совсем не трудно, она сама ясно сказала: я
научила женщин говорить. Что значит “женщин”? Женщин — значит, всех. Ну, женщин или тех, кто бывает как женщина. Они стали говорить
как она. Как попугаи, конечно, но им кажется, что так же. Кто-нибудь из них когда-нибудь захочет сделать это не как эпигон, а от первого лица — ее и своего. Так они будут думать. Но их первое лицо — всего лишь ее маска, понимаете? Они ее марионетки, они не знают, какова ее душа, ее
псише. Я только сею, собирать придут другие. Собирать ее пшеницу вместе с их плевелами. От одной этой мысли я схожу с ума, понимаете? Я не знаю, как ее защитить. Ахматоведы им только помогут. Вы бы видели, как они обращаются с ее словами. Они об них спотыкаются и пинают в сторону, они их перетряхивают, как сено,
пере-, как они говорят,
— лопачивают. Я работала с одним, для него что она, что
пастернак — знаете, есть такое огородное растение. Пастернак — и дикая роза! Искусство как вымысел — движитель жизни, но искусство как иллюзия — смерть!»
Тяга, уносившая Б.Б. из зоны, в которой все обладало качествами и требовало качеств от окружающего, даже если реальность этих качеств могла оказаться майей, — в зону намеренно ложного, поддельного, искаженного, не давалась ему даром, была иной стихии, нежели свет и воздух. Пимен знала разницу между поддельным и потусторонним. Умершее отнюдь не теряло прижизненных качеств, тень Ахматовой обладала явным могуществом. А и не обладала бы — такое, как Пимена, вмешательство в личную судьбу другого обязательно чревато гибельными последствиями. «Они будут продавать фальшивки, — сказала она тогда. — Как мертвые души. Но мертвые души просто грязь, полтора кило грязи с костями. Грязь в обмен на деньги — нормально: навоз и селитра. Вымысел в обмен на деньги — катастрофа». Посидела, помолчала и без всякой видимой связи членораздельно произнесла: «Хер — завился — колечком».
* * *
Шварц, если я правильно понял, это Штрайх, Виталий Штрайх, никакой не Валерий. Его и при жизни как только ни называли — Штраух, Шкранц, Штерн. В 80-е женился на немке и уехал в Германию. Германия большого интереса ни у кого не вызывала, не то что США, все как-то нутром знали, что ее-то мы всегда победим. Главное поэтому составляли наезды, поначалу на пару недель, позже на полгода, наконец переселился обратно, наезжал уже туда. Он был поэт. Был профессиональный — но и по призванию — врун: превращал всякого, о ком упомянет, в нечто абсолютно иное и, как правило, для упомянутого унизительное. Был — стал в 90-е — фигурой тусовки: его фото помещали среди пришедших на чей-то юбилей, на вернисаж, на митинг в защиту или против. У него было хорошее здоровье, так что он дожил до времени, когда забыли, кто он был, — помнили, что Шр-как-то, и всё. Он стал сперва семидесяти-, потом семидесятидевятилетним клоуном — как любимый им в молодости вития советского времени, чьего имени никто не помнит. Между тем поэт он был настоящий и при желании мог бы умирать, как Сологуб. Скажем так: умирать забытым, но умирать достойно. (Если такое бывает.)
Коноплянский-Потоплянский, судя по всему, Тополянский. Жив-здоров, ничего ему не делается, решает, как определила его тридцать лет назад некая прелестная отроковица, свои задачки.
Если бы история, рассказанная Андреем, могла случиться в действительности, Б.Б. вышел бы победителем потому, что у него не было нужды в том уходе за собой — после ухода, которого он потребовал бы от сокамерников, — от отсутствия которого Штрайх и Тополянский обречены погибнуть. Я сказал Андрею, когда он уже садился в машину: «Запертая дачка возникла из контаминации его рощинской виллы и лагерного барака на Чусовой: он и там, и там выжил».
По сути дела, самое (а если разобраться, так и единственное) неприемлемое (а если разобраться, то и отталкивающее) в нем было, что он выживал — когда по всему выходило, что не должен.
Солнечный полдень. На мне льняная рубашка без воротничка, итальянская. Рожь и лен — ветхозаветный пейзаж раннего христианства. Ставлю чай и мажу медом ломоть хлеба. Перед купаньем. Есть несколько человек, кому можно бы написать письма, даже позвонить из райцентра, а до райцентра всего-навсего два километра лесом и двадцать минут автобусом. Но не стану. Неохота.
И без писем, и без звонков полная ясность и завершенность. А честное слово, еще мог бы. Тому-то, тому-то, той-то. И тем, от кого ни слуха ни духа с самой молодости. Со средних лет. С недавнего времени. Да хотя бы Андрею этому. Андрею, хану Гирею и зимнему Борею. Да хоть Пимену. И др. Всем др. и пр., в которых рассосался Б.Б. Как сахар, как поваренная соль. Как яд. Как кровь подходящей группы.
1997–2001

Оглавление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Эпилог