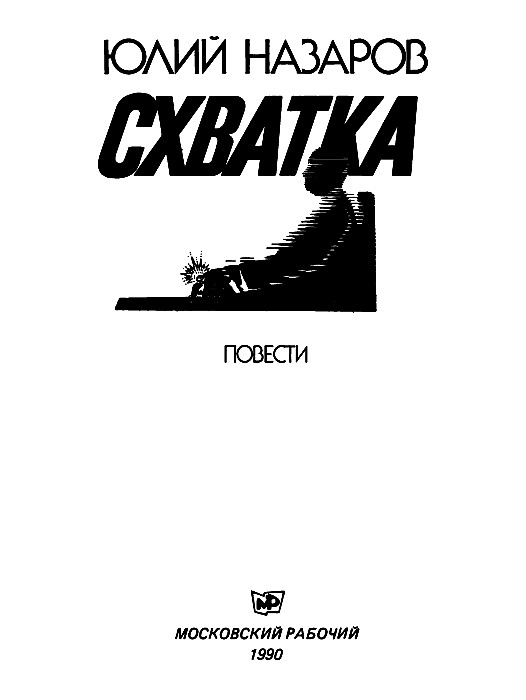Юлий Назаров
Схватка
Повести
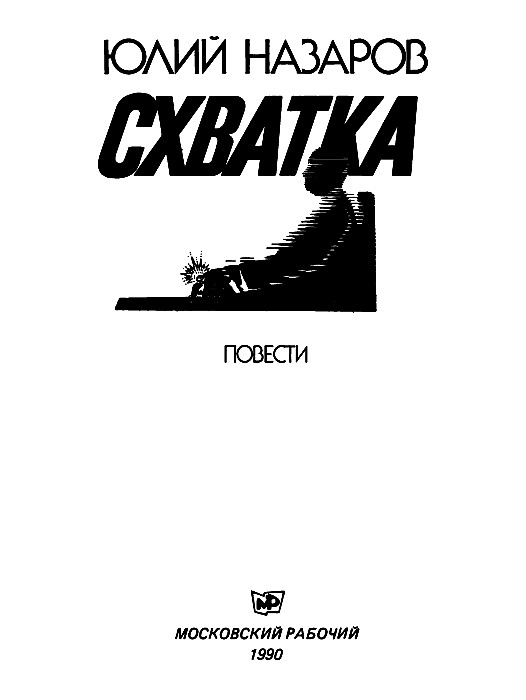
Срочный вызов

1
В это утро в зале дежурных Управления внутренних дел на Петровке, 38, как обычно, не умолкали телефоны.
На некоторое время наступила тишина, потом прозвучал голос диктора: «Начинаем производственную гимнастику».
Дежурный встал, потянулся, но на этом упражнение и закончилось. Новый телефонный звонок, взволнованный голос женщины: в соседней квартире несчастье: мать приехала в гости к сыну, открыла своим ключом квартиру, а он убит.
— Адрес?.. Так, ваш телефон и фамилия...
Дежурный вызвал по внутренней связи оперативную группу МУРа.
— Морозов слушает.
— В доме 13, квартира 121, по Харитоньевскому переулку — убийство. На выезд.
После этого дежурный сообщил о происшествии в прокуратуру и вызвал на всякий случай по указанному адресу «скорую».
«Везет мне на «тяжкие», — с досадой подумал Морозов, торопясь в машину, — с сентября не могу уйти в отпуск и опять, видно, надолго застряну».
Они подъехали к дому, свернули под арку... Искать квартиру не надо — добрая половина жильцов этого дома толпилась у подъезда. Один пролет лестницы — и оперативная группа у квартиры. Дверь открыта, жильцы из тех, кто посмелее, пытаются заглянуть внутрь.
— Товарищи, прошу не мешать, — сказал Морозов. — Все, кто может дать конкретные показания, пожалуйста, сообщите их инспектору уголовного розыска лейтенанту Козлову. Гена, действуй.
Трудно было ожидать, что после этого обращения все жильцы наперебой бросятся рассказывать о случившемся. Козлов знал, что найти настоящего свидетеля — дело нелегкое. Он внимательно оглядел своими черными, как угольки, глазами присутствующих и не спеша полез в карман за блокнотом.
— Товарищи, кто знал Подлунского, его семью, друзей, видел или слышал что-то подозрительное, прошу сообщить.
Толпа стала очень быстро редеть, все куда-то заторопились. С одной стороны — это хорошо, меньше праздных зевак, а с другой... Что-то малодушное, трусливо-безучастное просматривалось в этой сцене.
Морозов и эксперт-криминалист вошли в квартиру, кинолог остался на площадке. Рекс гавкнул, и любопытных как ветром сдуло.
В уютно обставленной комнате, опустившись на колени перед диваном, на котором лежало тело, склонилась убитая горем женщина. Лица ее не было видно. Рядом с ней хлопотала аккуратная старушка в пуховом платке. Инспектор подошел ближе.
— Старший инспектор Московского уголовного розыска Морозов, — представился он. — Вы мать убитого?
Женщина слабо кивнула:
— Да, я его мать, а это Володя, — она взглянула на тело сына, и ее красные заплаканные глаза снова наполнились слезами.
«Судя по трупным пятнам, смерть наступила давно», — отметил про себя Морозов.
— А я тетка Володи, Полина Григорьевна, — сказала старушка, нервно теребя конец своего платка. — Горе-то какое... Приехали с Женей навестить, а он...
Переливно гудя, подкатила «скорая».
«Много времени прошло, собака след не возьмет», — подумал Морозов.
Появились молодой врач и санитары, но их помощь потребовалась только матери.
— Полина Григорьевна, — обратился Морозов к тетке убитого, — как вы узнали, что совершено преступление?
— Женя мне позвонила, сказала, что хочет к Володе поехать. Он был такой внимательный, звонил ей каждый день, а тут пошел уже четвертый, а звонка все нет и нет. Я неподалеку от Жени живу, зашла к ней, мы собрались и поехали, ключ от его квартиры у сестры есть, и вот...
Полина Григорьевна всхлипнула, прижала руку к глазам. Морозов выждал и, стараясь говорить как можно мягче, спросил:
— Как вы думаете, кто мог его убить?
— Не знаю, ничего не знаю, он такой тихий, податливый, ни друзей хороших, ни врагов... Все только искусство, искусство, даже жениться не успел.
— А девушка была у него?
— Да если бы... Что-то он в них все время разочаровывался.
Вошел Козлов с блокнотом в руке.
— Как успехи? — спросил Морозов.
Геннадий развел руками:
— Глухо. Соседи словно сговорились. Все, кого опросил, только от души желают нам успешно отловить убийц.
До прибытия следователя прокуратуры Морозов осторожно осмотрел квартиру.
Маленькая прихожая, кухня, санузел, комната около двадцати квадратных метров. Все стены увешаны картинами. Справа от окна — стол с тяжелым старинным чернильным прибором, книжный стеллаж в полстены, журнальный столик и два кресла. Резной дубовый буфет и такой же платяной шкаф закрывали дальнюю стену. В углу, у окна, сверкал полировкой цветной телевизор. Пол был покрыт пушистым ковром.
Осторожно открыв дверь, Морозов вошел в кухню. Ее стены были расписаны под сад, потолок — под голубое небо. Манера, в которой все это было выполнено, напоминала детский рисунок и создавала странный, волнующий душу контраст с изысканной строгостью гостиной.
В квартире не было следов борьбы. Наверняка погибший не ожидал нападения. Значит, убийство было совершено не в результате ссоры, а преднамеренно. Подлунский, видимо, не курил, так как в пепельнице лежали... запонки. Однако на столе были видны следы пепла, а свою папироску или сигарету убийца предусмотрительно забрал. Чувствовалось, что он не торопился.
В квартиру вошел следователь прокуратуры Николай Николаевич Нарышкин, с которым Морозов уже не раз работал вместе. Плотный, коренастый, он энергично тряхнул Морозову руку:
— Здравствуйте, Борис Петрович, значит, снова в одной упряжке?
Он познакомился с остальными и попросил:
— Пошлите за понятыми и введите меня, пожалуйста, в курс дела.
Пришли понятые. Нарышкин объяснил им их обязанности.
Когда труп, обстановка квартиры и все, что могло представлять интерес для следствия, было сфотографировано, Нарышкин пригласил Морозова пройти в кухню.
— Мать убитого в таком состоянии, — сказал он, усаживаясь на табуретку, — что язык не поворачивается задавать ей вопросы, да и, судя по всему, ей ничего не известно о мотивах преступления. Живет на другом конце Москвы... Позовите к нам ее сестру и вызывайте «синий крест», надо отвезти тело в морг.
Полина Григорьевна тихонько вошла в кухню, молча, словно она была в пустой квартире, присела на стул, опустила голову. Остановила свой взгляд на ботинках Морозова, недоумевая, откуда такие здесь?
— Полина Григорьевна, — сказал Нарышкин. — Вы хорошо знали своего племянника?
— Конечно. У меня детей нет. Володя — как сын. Я у него часто бывала, убиралась.
— Скажите, все эти картины в гостиной — подлинники?
— У него только два оригинала, они очень ценные, и Володя больше всего на свете дорожил ими.
— А вы не знаете, где ваш племянник держал свои записные книжки?
— Книжка у него всегда лежала рядом с телефоном, вот здесь... в тисненом переплете... Нет? Странно!.. Значит, стащили.
— Интересно, кому она могла понадобиться? А много у него было знакомых, которые ходили сюда?
— Если б я знала! Когда собирается молодежь, старики только мешают. Я и Женя навещали его, когда он был один или болел.
Нарышкин, глядя на загрубелые, с увеличенными суставами пальцы женщины, суетливо перебиравшие края пухового платка, вздохнул:
— Так, так... Прошу извинить, что приходится беспокоить вас в такие минуты, поверьте, это вынужденная необходимость...
Было ясно, что получить какие-либо ценные для следствия показания от нее вряд ли удастся, по крайней мере, сейчас. Нарышкин огляделся: всюду шла работа. Дверные ручки, спинки стульев, пол, посуду, мебель сантиметр за сантиметром скрупулезно осматривал криминалист. Он искал хоть какие-нибудь следы или отпечатки, но тщетно: все предметы были тщательно протерты.
Поиски улик продолжались четыре часа. Труп давно уже увезли в санитарной машине. Наконец эксперту удалось при помощи ультрафиолетовых лучей своего портативного аппарата найти на вентиле кухонного крана следы смытой крови, а на массивной бронзовой чернильнице письменного стола — отпечатки пальцев.
...Прошло еще немного времени, и Козлов вдруг обнаружил в тетради Подлунского столбцы цифр. Они были расположены на трех страницах в две колонки, по шесть в каждой группе. Это походило на какой-то шифр.
— Интересно, — произнес Нарышкин, делая пометки в своем блокноте. — Пошлем на дешифровку.
Осмотр был закончен. Чернильный прибор, скатерть со следами пепла, фарфоровый вентиль крана были тщательно упакованы и отправлены на экспертизу.
Допрос соседей практически ничего не дал. Все уверяли следователя Нарышкина, что с пятницы не видели ни Подлунского, ни того, кто мог прийти к нему. Сосед за стеной не слышал подозрительного шума в его квартире, тем более что приемник Подлунского частенько был запущен на полную мощь. Правда, в эту ночь он не умолкал до утра, такого раньше не было.
Нарышкин попросил отвезти домой мать и тетку убитого, забрал документы покойного, семейный альбом, тетради зарисовок и опечатал квартиру. Протянул пакет Морозову:
— Борис Петрович, все это пока пусть будет у вас, может пригодиться.
Он пригласил Морозова и Козлова заехать к нему в прокуратуру, чтобы обсудить направление поиска.
По дороге, в машине, Нарышкин в свойственной ему манере быстро, по-деловому давал указания, советовал, в какой последовательности проводить экспертизу, как рассчитать время, как использовать изъятые предметы, и напомнил, чтобы после обработки документов Подлунского в НТО паспорт покойного немедленно вернули его матери.
Каждый раз, когда Морозову приходилось работать вместе с Нарышкиным, вернее, под его руководством, у Бориса всегда вызывали уважение скрупулезность в отработке, казалось бы, второстепенных мелочей и неукротимая энергия следователя. Николай Николаевич всегда исподволь, как бы боясь обидеть, многословно объяснял, что все бремя розыска ляжет на аппарат милиции, и на инспектора в частности. И никогда не подчеркивал, что решающее слово в ведении следствия принадлежит ему.
На случайного посетителя кабинет Нарышкина произвел бы унылое впечатление. Стол, на котором в выверенном годами порядке лежат папки с документами. Меняются их номера, цвета, но лежат они всегда вот так, аккуратным перпендикуляром к чернильному прибору. Продавленный, истертый стул, который ни один из хозяйственников, зная нрав следователя, не решается заменить на новый; пустой подоконник (цветов на окнах Нарышкин не признавал, считая это обременительной роскошью); серый, точно пропыленный, цвет стен.
Никакой лирики или юмора на работе он не признавал, перед задержанными никогда не играл добряка, пытаясь расположить их к себе. Допросы вел официально, сухо, подбирая такие профессионально-острые вопросы и так умело их перемешивая с «невинными», что даже видавшие виды рецидивисты пасовали и, сами того не сознавая, принимали его логику и приходили в конце концов к мысли о фатальной неизбежности расплаты, которая, как говорится, чем раньше наступит, тем лучше.
— Ну и интерьерчик у вас, — сказал Морозов, усаживаясь на жесткий стул для посетителей.
Нарышкин пригласил всех располагаться и устало сел за свой стол.
— Борис Петрович, каков, по вашему мнению, мотив преступления и кто мог его совершить?
— Давайте порассуждаем, — привычным движением руки Морозов поправил прядь светло-русых волос. — Судя по трем замкам, «глазку» в двери и цепочке, Подлунский был человеком осторожным. Телосложение имел далеко не атлетическое. Он чего-то опасался и вряд ли впустил бы к себе незнакомого человека. Да и записная книжка пропала. Она могла понадобиться преступнику только в том случае, если он был знаком с Подлунским и собирался воспользоваться в дальнейшем записанными там номерами телефонов. А может быть, наоборот, опасался, чтобы эти номера в ходе следствия не стали нашим достоянием.
— А если убийца стащил ее, чтобы сбить с толку следствие? — предположил Козлов. — Почерк-то профессионала.
— Возможно, и так, — согласился Морозов. — Судя по беспорядку в вещах, который преступник или преступники оставили после себя, можно сделать вывод, что убийство было совершено с целью ограбления, а о том, что Подлунский был человеком не бедным, можно судить по обстановке и по его сберкнижке. Очевидно, и дома он держал немалые ценности. Об этом кому-то могло быть известно.
— А вот ценнейшие картины, которые прямо перед глазами, преступник не взял, — как бы между прочим заметил Козлов.
— Преступник, по моему мнению, опытный уголовник, — продолжал Морозов. — Это видно из того, что действовал он очень расчетливо. На столе стоит недопитая бутылка коньяку, с нее и с рюмок стерты все отпечатки пальцев. Убийца, видимо, пришел к Подлунскому в пятницу вечером, включил приемник или усилил звук, незаметно взял с письменного стола массивную бронзовую чернильницу и проломил ею череп хозяину квартиры. Затем тщательно все обыскал, покурил, стряхнул упавший на стол пепел в руку и вместе с окурком убрал в карман. Он не торопился, видимо, знал, что никто не придет. Вытер полотенцем все те места, где, по его мнению, могли остаться отпечатки пальцев, забрал телефонный блокнот и скрылся.
— А убийство девушки в Дмитровском переулке тоже было совершено исключительно профессионально, — напомнил Козлов, — и тоже грешили на уголовника-рецидивиста, а им оказался преподаватель из детской музыкальной школы.
— Превосходный у вас оппонент, Борис Петрович, — сказал следователь, ритмично постукивая карандашом по столу. — Смотрите, как старается, чтобы доказать беспросветность этого дела и тем самым поднять свои акции.
«Вот сейчас Гена взовьется», — подумал Борис, взглянув на товарища, но Гена улыбался Нарышкину:
— Николай Николаевич, а мы просто таким методом добываем истину.
— Похвально, молодой человек, дерзайте.
Нарышкин откашлялся, включил настольную лампу. Косые лучи света высветили мешки под глазами, морщины, и Морозов отметил про себя, как сильно изменился, постарел Николай Николаевич за те полтора года, которые прошли после их последней встречи.
— Только ведь мы с вами в одной упряжке ходим, — продолжал Нарышкин, — и следствие почти не продвинется, пока не завершится розыск. Итак, Борис Петрович, я думаю, вам следует начать с уголовной регистрации, возможно, погибший уже находился в поле зрения милиции; поторопите криминалистов; я возьму на себя свидетелей по вашему списку: в общей массе они могли не решиться «вспомнить» то, что могут сказать с глазу на глаз. Ежедневно будем обмениваться информацией. Пока все, желаю удачи.
2
Морозов проверил сведения картотеки. Подлунский никогда не отбывал срока наказания, не находился под следствием, не попадал в вытрезвители и вообще, как говорится, был чист по всем статьям.
Борис понимал, что дело Подлунского — не из простых. Но особенно беспокоило то, что не было никаких наметок, никаких конкретных направлений, по которым он мог хотя бы медленно продвигаться вперед. То, что у убитого наверняка были какие-то знакомые, не вызывало сомнений, но как их найти, кто они? Даже мать, которую инспектор навестил на следующий день, не могла назвать фамилий друзей убитого или имени любимой девушки, если такая вообще была. Правда, можно было попробовать поискать знакомых Подлунского из числа выпускников Строгановского училища, которое он окончил более десяти лет назад.
Если организовать дежурство в его квартире и у телефона, то можно дождаться кого-то из знакомых погибшего, но на это нужно много времени.
У Морозова была надежда найти что-нибудь в журналах дежурных МУРа, где фиксировались происшествия.
— Что, совсем плохи дела, если к нам пришел? — спросил дежурный Морозова. — Ну-ка, дай на фото погибшего взглянуть.
Морозов показал ему фотографии, взятые из семейного альбома.
— Борис Петрович! — воскликнул дежурный, пристально вглядываясь в запечатленное на карточке лицо. — Не Подлунский он, а Петухов — тот самый больной, эпилептик, которого ограбили восьмого октября вечером! Я его еще со старшиной Сорокиным домой на машине отправлял.
Дежурный стал листать журнал, нашел запись и возбужденно, скороговоркой прочитал:
— «22 часа 5 минут. Телефонное сообщение гражданки Жуковой с Большого Козловского переулка...» Это совсем рядом. «Двое под ее окнами избили, ограбили и раздели человека...» А вот дальше: «Высланная оперативная группа преступников не нашла. Подобранный на месте происшествия и доставленный в управление назвался Петуховым Григорием Владимировичем, проживающим: Татарский переулок, 10, квартира 97. Проверка по ЦАБу подтверждает правильность показаний. Петухов факт ограбления отрицает, а свое пребывание на улице в дождь при нулевой температуре в одной рубахе объясняет эпилептическим припадком. На вопрос, как он оказался в Большом Козловском, ответить не может. В 23 часа 20 минут доставлен домой старшиной милиции т. Сорокиным И. Г. на оперативной машине...» Да Петухов это, Борис Петрович, его ни с кем не перепутаешь, к тому же всего прошло восемь дней.
И так как Морозов все еще продолжал смотреть на него с сомнением, он с обидой в голосе сказал:
— Если мне не верите, спросите у Сорокина, он сегодня тоже дежурит, наша смена совпадает.
— Да я верю, что он похож, такие совпадения на свете бывают. У близнецов, например, — предположил Морозов. — Но почему фамилии разные? Ладно, пригласите старшину.
Дежурный нажал на пульте кнопку и вызвал Сорокина.
Пока тот шел в зал дежурных, Морозов попытался осознать все услышанное. Восьмого октября в двадцать два часа в Большом Козловском, у дома номер три, гражданка Жукова видела, как ограбили человека. Но пострадавший Петухов проживает в Татарском переулке, десять, и это проверено через адресное бюро, а Подлунский прописан и убит в своей квартире в Харитоньевском переулке. Пока все оставалось неясным.
— Товарищ майор, прибыл по вашему приказанию! — доложил вошедший старшина.
— К нему, — кивнул дежурный на Морозова, продолжая записывать какое-то сообщение.
Морозов показал старшине несколько фотографий и спросил:
— Вам когда-нибудь приходилось встречаться с этим человеком? Только не торопитесь, приглядитесь внимательно.
— Так точно, на той неделе. Отвозил его домой. Эпилептик.
— Припомните, как он вел себя, о чем вы говорили по дороге?
— Не очень-то он разговорчив был, товарищ капитан. Сел на заднее сиденье, сказал адрес, стиснул голову руками да так и ехал всю дорогу. А когда остановились у дома...
— Дом десять, — подсказал дежурный.
— Да, он вроде как проснулся, наговорил благодарностей, обрадовался и юркнул в подъезд. Я тронулся дальше, а потом вспомнил, что по Ордынке одностороннее движение, развернулся и поехал обратно. Гляжу, а из подъезда, куда недавно скрылся Петухов, мелькнула белая рубаха. Вижу, мой пассажир выскочил из подъезда и бегом обратно по переулку, потом вдруг шмыгнул в калитку соседнего особняка, дом номер восемь. Я остановил машину и поспешил за ним. Кругом тихо, вдруг слышу резкий щелчок замка. Подбежал к калитке — никого. Подождал минут десять, думал, может быть, этот припадочный опять все забыл и дома перепутал? Но он так и не вышел из особняка. Вот и все. А я приехал в управление.
— Ну что ж, будем разбираться.
Морозов попросил дежурного отпустить Сорокина вместе с ним для опознания трупа. Вскоре они приехали в морг Института имени Склифосовского.
— Он это, Петухов, — подтвердил старшина. — За что его так?
— Пока неясно. Поехали обратно.
По дороге в управление Морозов все думал о том, зачем нужно было Подлунскому, если его на самом деле ограбили восьмого октября, выдавать себя за Петухова?
Морозов заехал в управление, еще раз проверил через адресное бюро местожительство Петухова, и ему подтвердили, что человек с такими данными проживает в Татарском переулке, дом 10, квартира 97.
Морозов пригласил Козлова отправиться с ним по этому адресу.
Дом, где был прописан Петухов, стоял по соседству с особняком, в калитку которого, по свидетельству старшины Сорокина, шмыгнул ограбленный. Дом как дом, ничем примечательным не отличался: серый, добротный, в подъезде пахнет кошками, едой, не работает лифт. Они поднялись по лестнице на пятый этаж, остановились перед обитой черным дерматином массивной дверью. Морозов нажал кнопку звонка.
Послышались тяжелые шаги. Щелкнул замок, и на пороге появилась внушительная фигура широколицего, бородатого, небрежно стриженного мужчины. Свободная тужурка, испачканная красками, замазанные брюки...
— Здравствуйте, нам нужен Григорий Владимирович Петухов.
— Это я. Чем обязан?
Морозов на какое-то мгновение растерялся. С Подлунским этот тип не имел никакого сходства.
Они с Козловым переглянулись.
— Вы разрешите войти? Есть разговор.
Петухов удивленно пробасил:
— Заходите, потолкуем.
В большой, заставленной картинами и мольбертами комнате Морозов предъявил удостоверение и спросил:
— В вашей квартире нет однофамильца?
— Я — единственный в своем роде. А в чем, собственно, дело?
Морозов коротко рассказал ему об ограблении.
— Кто из ваших знакомых мог выдать себя за вас?
Петухов задумчиво пожевал губами:
— Они что, ему мозги отшибли? И каков он на вид?
— Невысокий, худенький, с бородкой, тонкими усиками, волосы черные, глаза карие, овал лица узкий, вытянутый нос с горбинкой, уши немного оттопыренные, — Морозов почти процитировал протокол осмотра.
— Физиономия, что называется, стереотипная. Надо подумать. Знакомых бородачей у меня тьма, но кто? Оставьте на всякий случай ваш телефон. Вспомню, позвоню. Если у вас все, то прошу извинить, совсем не имею времени...
Он взглянул вперед и сделал такой жест руками, будто подталкивал к выходу надоевших посетителей.
— У нас его еще меньше, — сказал Морозов. — Последнее, о чем я прошу вас, напишите, пожалуйста, фамилии, имена и отчества ваших знакомых бородачей, примерный возраст, рост, адреса.
Взяв листок бумаги, Петухов быстро, размашистым почерком, заполнил его.
— Здесь все. Только не знаю, что вам это даст?
Морозов бегло пробежал глазами листок.
— А среди ваших знакомых есть вот этот — Подлунский Владимир Михайлович? — и он показал Петухову фотографию.
Тот внимательно осмотрел ее и вернул Морозову:
— Первый раз вижу. А кто он такой?
— Художник. И ваши пути, вероятно, переплетались.
— Возможно, нас ведь много, но среди моих знакомых такого нет.
Сотрудники попрощались с Петуховым и вышли на улицу.
— Такому палец в рот не клади, — делился впечатлениями Козлов, — глаза... Ты обратил внимание, какие у него глаза?
— Не ангела, — согласно кивнул Морозов. — Оставим его Нарышкину. Пусть допросит официально.
Они остановились около двухэтажного чистенького белого особняка, стоящего в глубине обнесенного глухим забором сада. Морозов обвел взглядом зашторенные кремовыми гардинами окна.
— Не хочется мне сразу заходить в эту «избушку». Давай сначала узнаем, кто в ней проживает? Чем занимается?
В жэке они встретили участкового инспектора милиции, тот сказал им, что хорошо знает этот особняк. Когда-то он принадлежал профессору экономики Лаевскому, который с первых дней Советской власти добросовестно работал экспертом в Совнаркоме и имел охранное свидетельство на земельный участок, особняк и прочее. Когда он умер, все это на правах наследства перешло в собственность к его сыну, художнику Лаевскому Владиславу Борисовичу. Ему за шестьдесят. В доме живут: старушка, дальняя родственница, и, без прописки, молодая женщина — Ирина Семеновна Берг. Сын Лаевского, Артур Владиславович, тридцати лет, проживает в Ленинграде.
Морозов решил зайти к хозяину особняка и переговорить с ним.
Калитка была не заперта. Морозов и Козлов по узкой асфальтированной дорожке подошли к дому. Дверь долго не открывалась: очевидно, не работал звонок. Пришлось стучать, и вскоре на пороге появился сутуловатый, худощавый, темноволосый мужчина с седыми висками. Морозов отметил, что выглядел Лаевский (а это был, несомненно, он) гораздо моложе своих лет. Пытливые глаза художника-профессионала цепко и внимательно осмотрели вошедших.
— С кем имею честь? — спросил он.
— Мы из уголовного розыска, — сказал Морозов.
Хозяин особняка покрутил в руках служебное удостоверение и, вернув его владельцу, сказал:
— Прошу вас в мой кабинет.
На втором этаже послышался легкий стук каблучков. Кто-то остановился на площадке у лестницы, ведущей вниз. Лаевский громко сказал:
— Ирочка, тут ко мне пришли... позвони, пожалуйста, Гришиным и скажи, что раньше, чем часам к восьми, не успеем. И еще, попроси Дашу принести нам что-нибудь согревающее.
— Это ваша жена? — спросил Морозов, когда они вошли в кабинет и Лаевский плотно закрыл за собой дверь.
— Пока нет. Чем обязан?
У Лаевского были карие живые глаза. На Морозова он смотрел дружелюбно, сразу признав в нем старшего.
— Хотелось бы немного побеседовать с вами, задать несколько вопросов, и думаю, что Ирина Семеновна нам не помешает, — сказал Морозов.
— В данном случае — наоборот.
— Не понимаю.
— Мы ей помешаем, — холодно улыбнулся хозяин дома. — Обычное явление: в гости идем, вот и прихорашивается.
— Владислав Борисович, скажите, среди ваших знакомых есть Петухов Григорий Владимирович?
— Петухов? — Лаевский сморщил лоб. — Простите, дай бог памяти... Как вы сказали, Григорий Владимирович Петухов?.. Нет, нет, не знаю такого.
— А Владимир Михайлович Подлунский?
— Тоже нет.
— А кто восьмого октября, вечером, примерно в одиннадцать часов, приходил к вам?
— Дайте вспомнить. Помилуйте, восьмого мы вообще никуда не выходили. Я всю неделю неважно себя чувствовал, сидел дома. Вечерами после десяти отключал телефон, а без звонка к нам никто не приходит. Здесь какое-то недоразумение.
— Может быть, Ирина Семеновна вспомнит? Пригласите ее, пожалуйста?
— При чем здесь она?! Вы что, сударь мой, считаете, что у меня полнейший склероз? Непостижимо! А в чем, собственно говоря, дело?
— Восьмого октября, примерно в двадцать два часа, был ограблен и раздет человек. По его просьбе мы доставили его сюда, и он вошел к вам в особняк.
— Странно. Ограбили какого-то бедолагу, он пришел ко мне... Защиты, что ли, искать? Но я же не милиция. И вообще, какое я имею к этому отношение? — Лаевский начал нервничать.
— Я полагаю, никакого. Просто потерпевший вошел к вам в дом и больше не выходил.
— Так, так... Ничего не понимаю. Значит, он вошел сюда и больше не выходил? Вы что-то путаете. Впрочем, человек, которого вы ищете, возможно, и заходил к нам во двор, звонил. Но наш звонок давно не работает, вы в этом убедились. Незнакомец мог переждать какое-то время, а может, даже и заночевать в собачьей будке. Но мы его не видели.
С подносом в руках, на котором стояли бутылки с вином и фрукты, неслышно появилась пожилая женщина. Мимо Морозова с Козловым она прошла так, словно не видела их вовсе, поставила поднос на столик и неслышно удалилась.
— Спасибо, Владислав Борисович. Очень рады были с вами познакомиться.
— Нет-нет, так я вас не отпущу. — Лаевский подошел к столику. — Я вас угощу напитком собственного изобретения. Язык проглотишь.
— Нельзя, служба, Владислав Борисович. Пожалуйста, извините, что мы отняли у вас немного времени. Вы ведь, кажется, торопитесь в гости? — Морозов пожал протянутую руку Лаевского. Ладонь была влажная, горячая, пальцы едва заметно подрагивали.
— Да, один из способнейших моих учеников приглашает на день рождения. Спешу поздравить. Счастливо. Заходите.
3
Массивная дверь особняка захлопнулась с характерным щелчком замка, и Морозов вспомнил показания старшины, который тоже обратил внимание на этот резкий звук. При свете уличных фонарей был виден небольшой чистенький дворик, обнесенный глухим двухметровым забором. Газоны, клумбы, аккуратные дорожки, несколько старых фруктовых деревьев, зеленая беседка — все было ухожено, чувствовались чьи-то заботливые трудовые руки.
«Почему же все-таки потерпевший назвался Петуховым и скрыл факт ограбления? — думал Морозов. — Зачем обманул дежурного по управлению? Наверное, понимал, что его показания в милиции легко могут перепроверить через адресный стол, поэтому назвался не вымышленным именем, а именем человека, которого хорошо знал и был уверен, что тот по каким-то причинам не выдаст его».
— А что, если Петухов на самом деле не был знаком с Подлунским? — произнес Козлов, словно прочитав мысли Морозова.
— Возможно. Если Петухов — знаменитость, то в профессиональных кругах его знают все, а о своих коллегах помельче он мог и не слышать.
Они сели в машину и поехали в управление. Каждый из них молча анализировал слова, детали, факты, пытаясь воссоздать реальную цепь событий и построить свою версию.
«Итак, что же получается? — думал Морозов. — Подлунский хорошо знал Петухова, а тот или не догадывался о его существовании, или не хочет называть его своим товарищем. Далее, можно предположить, что Подлунский знал Лаевского, так как после ограбления пришел именно к нему. Лаевский говорит, что своего соседа Петухова не знает, хотя между ними много общего: оба художники; обоих подозрительно мало интересовали подробности ограбления. Возможно, им стало известно про убийство Подлунского, и, чтобы не ввязываться в это дело, они решили отрицать всякое знакомство с погибшим».
Проводив незваных гостей, Лаевский вернулся в свой кабинет, в раздумье опустился в кресло.
Тихо вошла Ирина в новом вечернем платье, которое только вчера принесла от портнихи, и застыла в позе манекенщицы.
Лаевский вздрогнул, рассеянно улыбнулся:
— А, уже при параде?! Я тоже надеваю галстук, и едем.
— Как!.. Ты ничего мне не расскажешь?
— Я еще сам ничего не понимаю. Пришли милиционеры, стали допрашивать, словно я какой-то злоумышленник.
— А что им нужно?
— Я не понял, — ответил Владислав Борисович, завязывая галстук. — Служба у них такая. Нашли дурацкий предлог и ходят, вынюхивают, как мы живем, на какие доходы. Я готов. Поехали.
Возле квартиры Гришиных Владислав Борисович секунду помедлил и сказал:
— От этих непрошеных гостей остался какой-то неприятный осадок. Пожалуйста, не говори никому ни слова об этом милицейском «визите вежливости».
— A-а, наконец-то! — радушно улыбаясь, приятным баритоном пропел хозяин дома Анатолий Прокофьевич. — Проходите, проходите, пожалуйста. Кларочка, встречай долгожданных гостей!
В прихожей моментально появилась хозяйка. Высокая, в черном декольтированном платье, плотно облегающем полную фигуру, она выглядела воистину царственно.
Пиршество началось. Посыпались тосты за здравие юбиляра, за его спутницу Клару Ильиничну, их дочь Веронику, в которой «сочетаются редкие организаторские способности и художественный талант отца с женственностью матери».
— Браво! — воскликнул быстро захмелевший зять Гришина Рудик. — Ника заслуживает большего. Предлагаю усилить этот тост фужером водки и пить до дна.
Гости продолжали улыбаться, однако на их лицах отразилось некоторое замешательство. Одни потянулись к бутылкам, другие недоуменно переглядывались.
— Мой зять от природы очень веселый человек, — сказал Анатолий Прокофьевич. — Беда только в том, что подчас от его юмора хочется плакать. Но дети есть дети... За них!
Ира посмотрела на иконы, висевшие на стене, и улыбнулась своим мыслям: Анатолий Прокофьевич как две капли воды походил на классический образ Иисуса Христа, если бы не хищный блеск, рождающийся порой в его глазах.
Гришин пригубил рюмку.
— Друзья мои, — обратился он к присутствующим. — Сегодня, вспоминая свое прошлое, я спрашиваю себя, кем я был? Инженером, неудачником, каких много. Так бы и прозябал всю жизнь, если бы восемнадцать лет назад не встретил Владислава Борисовича, который открыл мне дверь в идеальный, возвышенный мир творчества и красоты. Я словно заново родился, и с этого момента веду свое летосчисление. Так что сегодня, дорогие мои сверстники, мне исполнилось восемнадцать.
Захмелевшие глаза Гришина сверкали.
— За здоровье Владислава Борисовича!
Вероника попросила мужа включить магнитофон и предложила гостям потанцевать.
Анатолий Прокофьевич незаметно пригласил Лаевского выйти в мастерскую, благо она размещалась в соседней квартире. Их ухода никто из гостей не заметил. В мастерской было тихо, пахло краской, в черных квадратах рамы незашторенного, во всю стену окна отражались картины.
— Ученик такого знаменитого художника-реставратора всегда остается учеником, даже если он с такой, как у меня, бородой, — улыбаясь, сказал Анатолий Прокофьевич и попросил Лаевского взглянуть на одно из полотен.
— Где приобрели?
— Как обычно, в комиссионном. Вероника старается. Иной раз такую мазню притащит...
Владислав Борисович надел очки и начал внимательно изучать картину. Достал лупу, вгляделся.
— Вы еще не колдовали над этим? — спросил он и, перевернув картину, стал рассматривать фактуру холста. — Похоже, середина девятнадцатого века, подписи совсем нет, странно. Но, по-моему, это не репродукция, а подлинник.
— Вот и я так думаю, — оживился Гришин, — в каталогах ничего похожего не встретил, а судя по игре красок, одухотворенности и...
— Постойте, постойте! По манере письма — это Юлий Клевер... А может быть, это то самое произведение Коровина?..
— Что вы имеете в виду?
— Однажды к молодому Коровину пришел его богатый приятель, купец, и попросил помочь достать для своей коллекции какое-нибудь полотно известного и модного в те времена художника Юлия Клевера. Коровин пообещал купцу упросить Клевера продать ему одну из картин. А сам за сутки в манере Клевера написал картину. Называлась она, дай бог памяти, «Оранжевый закат в зимнем лесу».
— Неужели?!
— Да, представьте себе. Коровин мастерски подделал стиль и подпись, а когда на следующий день к нему пришел заказчик, он поставил перед ним картину. Восторженный почитатель таланта Клевера не усомнился в подлинности этого произведения, полез за бумажником и стал спрашивать, сколько оно стоит. Коровин вообще был великим оригиналом, не знал цены деньгам и считал за счастье доставить радость ближнему. Он смыл поддельную подпись и просто подарил картину этому ценителю. Ну а так как она не была на выставке, то, следовательно, ее нет и в каталогах. И через комиссионный магазин, точнее через вашу дочь Веронику, какой-нибудь ничего не понимающий праправнук продал ее вам за жалкие бумажки. Ведь это — легенда, сама история. Это, конечно, только предположение, но если оно верно, то картине цены нет. Вижу, ваша фирма «Гришин и Кº» растет и крепнет.
Гришин, пряча улыбку, развел руками:
— Что вы, дорогой Владислав Борисович! Я только на магазин могу рассчитывать. Это ведь у вас полно старых связей и других возможностей.
— Возможность не есть действительность... — вырвалось у Лаевского. Разговор начал раздражать его. А Гришин, кажется, только вошел во вкус:
— Ой ли! Это изречение не для вас. Я знаю своего учителя не только как непревзойденного мастера реставрации, но и как отличного организатора по части приобретения и сбыта.
«Эх, Гришин, Гришин, похоже, что ты сегодня крутишься вокруг да около и никак не осмеливаешься выяснить то, ради чего пригласил меня», — думал в этот момент Лаевский.
— Интересно устроен человек, — продолжал Анатолий Прокофьевич. — Вот мы с вами имеем уже достаточно денег и ценностей, можем безбедно прожить до конца дней своих, и правнукам останется, ан нет, все ищем, где бы достать материал для работы да провести над ним бессонные ночи? Вас-то ждут, поди, очередные полотна?
— Нет, я пас, годы не те, — ответил Владислав Борисович и про себя усмехнулся: «Слаб ты выуживать, дражайший. Ты еще подумать не успеешь, а я уже знаю, о чем хочешь услышать. Что мне известно про ограбление? Спроси. А сам я ничего не расскажу».
— Владислав Борисович, не могу поверить. Вас ожидает множество старых, обветшалых и потрескавшихся картин, которые просто не смогут обойтись без вашей помощи.
«Да, милейший, такое упрямое повторение одной и той же темы превращается в глупость. Мне стыдно за такого ученика, я лучше уйду», — решил Лаевский.
— Нельзя объять необъятное, — сказал он, выходя из мастерской. — Ну что ж, спасибо за гостеприимство, нам с Ирой пора.
4
Морозов ехал в троллейбусе на работу, изредка поглядывая в окно и любуясь тем, как солнечные лучи разукрасили бульварные скамейки, поблекшую землю, деревья, зажгли золотом уцелевшие листья.
У остановки афиша звала болельщиков на матч между командами «Спартак» и «Динамо». И как-то сразу подумалось, что в последнее время он слишком редко стал посещать секцию самбо.
«Скоро соревнования, — подумал Борис. — Надо как-то выкроить время для тренировок, походить на «открытый ковер», помериться силами с незнакомыми борцами, иначе не выстоять». Любое поражение — тема для острых шуток и насмешек, а Морозов по отношению к себе ничего подобного не допускал. Но где взять время? Его всегда не хватает.
Подходя к своему кабинету, Морозов услышал настойчивый телефонный звонок, быстро открыл дверь, схватил трубку.
— Борис Петрович, наконец-то! — услышал он голос Нарышкина. — Весь день вчера пытался с вами связаться, хотел уж объявить розыск.
— Объявить-то просто, а вот искать, сидя у себя в кабинете, я еще не научился.
— Я ведь не упрекаю и свой «кабинетный метод» не навязываю, просто хотел сообщить вам фамилию и другие данные убийцы, посоветоваться, как его задержать. Может быть, подъедете?
Борис даже подскочил на стуле:
— Как?
— Да так.
— Конечно же еду!
Морозов знал, что расспрашивать по телефону Нарышкина бесполезно.
И снова мрачный кабинет, стол, заваленный делами, документами, папками.
— Итак, Борис Петрович, по данным дактилоскопической лаборатории, отпечатки пальцев принадлежат некоему уголовнику-рецидивисту Монетчикову Ивану Андреевичу, 1940 года рождения, дважды судимому за воровство икон и драгоценностей у церковнослужителей. Проживает в Ленинграде. Но едва ли он ждет нас дома, вероятно, скрывается и будет в бегах до тех пор, пока не убедится, что опасности нет.
Рассказ о результатах посещения Петухова и Лаевского Нарышкин слушал, по привычке что-то записывая и подчеркивая карандашом в своем блокноте. Морозов, чувствуя внимание к своему сообщению, увлеченно продолжал:
— Из бесед с ними очень трудно понять истину и определить мотивы преступления. Круг художников очень тесен, но Петухов, например, утверждает, что не знаком с Подлунским. По оперативным соображениям я пока никому не сообщал об убийстве. Лаевский тоже уверяет, что знать не знает Подлунского, а вот старшина Сорокин заявляет, что видел, как после ограбления тот потихоньку пробрался в особняк, и слышал характерный щелчок замка.
— Петухов действительно мог не знать какого-то Подлунского, — размышляя вслух, произнес следователь, — а вот Лаевский что-то темнит. Доставьте-ка его сегодня ко мне на допрос. И его, и всех, кто проживает в особняке, и обязательно — Ирину.
— Хорошо.
Нарышкин стал выписывать повестки, потом, на минутку о чем-то задумавшись, спросил:
— А вы уверены, что тот, ограбленный, и Подлунский — одно и то же лицо? Проведите-ка официальный допрос Жуковой и опознание трупа, а то как бы не было курьеза.
Вскоре Морозов вернулся в управление и зашел в кабинет. Козлов кончил писать.
— Борис Петрович, ориентировку я составил, только никак еще не могу постигнуть премудрости казенного слога, все как-то по-домашнему получается.
— Оставь, я потом посмотрю. Зайди к Черкасову, его группу нам в помощь выделили. Быстро на их машине сгоняй в особняк к Лаевскому и доставь всех на допрос к Нарышкину.
— Вот это конкретно, это по делу! А то кропаю, как школьник сочинение.
Козлов ушел.
Морозов быстро пробежал глазами его черновик, улыбнулся, поставил двойку с плюсом, быстро напечатал на машинке нужный документ и положил его в папку. Затем он позвонил дежурному по управлению и, выпросив у него машину, поехал к свидетельнице Жуковой.
Она оказалась дома, приходу Морозова не удивилась и, как бывает иногда у одиноких пожилых женщин, была словоохотлива.
— Я подошла к окну, — наконец перешла она к главному, — хотела открыть форточку и увидела троих мужчин. До них было метра три-четыре. Высокий — в шляпе и в темном плаще — стоял ко мне лицом. Одной рукой он держал мужчину за воротник, а в другой у него сверкал огромный нож. Второй грабитель вырывал у прохожего портфель, тот не отдавал, тогда высокий так сильно стукнул его кулаком в лицо, что бедняга свалился. Они сорвали с него плащ и пиджак. Я бросилась к телефону и позвонила вам. Когда снова подбежала к окну, то увидела, что парень в белой рубахе сидит на том же месте. Потом он встал, пошел в сторону Харитоньевского и скрылся из виду. А куда эти бандиты ушли, я так и не видела.
— Мария Ильинична, как выглядел ограбленный?
— Худощавый, волосы темные, лохматые, с бородкой, пониже вас. Нос у него длинный. Вроде бы все.
— Понимаете, недавно при странных обстоятельствах убили человека, очень похожего на него. Не могли бы вы съездить со мной в морг, опознать его?
— Ой, что вы, нет, нет — я покойников боюсь! — Жукова вскинула руки, занервничала.
— Зачем бояться? Нам, живым, надо долг свой исполнять. Безнаказанность создает условия для новых преступлений. Да вы что, Мария Ильинична? Вот уж непохоже, что вы из робкого десятка.
Нехотя она согласилась. Морозов облегченно вздохнул, и они поехали в Институт имени Склифосовского.
В сопровождении двух санитаров они спустились по бетонной лестнице и вошли в покойницкую. Лицо Жуковой покрылось красными пятнами, она шла, стараясь не смотреть по сторонам. Ей повезло: тело Подлунского лежало на втором столе. Она сразу узнала его.
— Он, он, — тихо сказала Мария Ильинична и, не дожидаясь Морозова, не оглядываясь, пошла к выходу. Ей было дурно.
В кабинете врача Морозов быстро составил протокол опознания.
Тем временем Козлов, подъезжая на оперативной машине к Татарскому переулку, увидел, как из-за угла с большим футляром-тубусом вышел Лаевский. Такси ждало его почему-то на соседней улице. Он украдкой
обернулся и торопливо сел в машину.
— Разворачивайся, и за ними, — сказал Козлов водителю.
Таксист резво вел свою «Волгу», лихо закладывал виражи, с ходу проскакивая перекрестки. Выехав на Большую Ордынку, он обогнал поток машин, свернул в Пыжевский переулок и на некоторое время исчез из-под наблюдения. Когда же Козлов увидел знакомый номер такси в Лаврушинском переулке, Лаевского в машине уже не было. Пришлось остановить такси и расспросить водителя, где он высадил пассажира. Тот, не выказывая особого удивления, охотно все объяснил.
Подъезд, где скрылся Лаевский, оказался проходным. Козлов вышел через него в какой-то переулок. Вдруг, метрах в семидесяти от него, из подъезда шестиэтажного дома появился Лаевский. На этот раз к нему подкатил роскошный «мерседес» с дипломатическим номером. Он быстро сел в него, и машина исчезла за поворотом. Козлов даже не успел разглядеть номерной знак. Он бросился обратно в Лаврушинский переулок, где ждала оперативная машина. Но время было упущено, разыскать «мерседес» так и не удалось.
Козлов с досады чертыхнулся, прикурил у водителя сигарету и задумчиво спросил:
— Как ты думаешь, зачем Лаевскому потребовалось выйти из такси в Лаврушинском и дворами петлять до Толмачевского?
— Ежу понятно — следы заметает. Ясно, что у них здесь заранее обусловленная встреча. Скорее всего, продает владельцу «мерседеса» какой-нибудь антиквариат.
— Это хорошо, когда все ясно да светло. А по мне, здесь тьма-тьмущая... Ладно, поехали обратно в Татарский, вызовем на допрос остальных.
Интуиция подсказывала Козлову, что дело с ограблением может оказаться сложным или даже очень сложным по методике расследования и до обидного малозначительным по результатам. Например, ночное происшествие могло быть местью бесчестному человеку за недостойную выходку, о которой знают и Петухов, и Лаевский, но по этическим соображениям не считают нужным предавать ее огласке. А убийство, возможно, к ограблению не имеет никакого отношения.
Но та же интуиция подсказывала ему, что именно от Лаевского тянется ниточка, которая может привести к истокам преступления.
Дверь особняка Козлову открыл невысокий молодой человек с окладистой бородой и запорожскими усами. Хмуро уставился на визитера:
— Вам кого?
— Я из милиции, кто дома?
— Никого, хозяин уехал и будет нескоро, его... племянница ушла, Даша — в магазине. А в чем, собственно, дело?
— Я по поручению следователя прокуратуры Нарышкина. Мне приказано срочно пригласить к нему на допрос всех проживающих в особняке. Машина у калитки. Сделаем так. На тех, кого нет, оставим повестки, — Козлов протянул их мужчине, — а как ваша фамилия?
— Рогов Модест Матвеевич.
— Вы положите, пожалуйста, повестки на видное место, Модест Матвеевич, и, если располагаете временем, прошу проехать со мной.
Рогов немного растерялся, хотел возразить, но потом, видимо, подумал, что от поездки он ничего не потеряет, зато будет в курсе какой-то тайны, о которой пока ничего не слышал. Он вдруг оживился и даже стал как будто повыше ростом, приосанился.
— Я готов, едемте.
По дороге Рогов попросил Козлова ввести его в курс дела, но Геннадий объяснил, что не уполномочен что-либо пояснять.
В прокуратуре он попросил Рогова посидеть в коридоре, вошел к Нарышкину.
Следователь нехотя оторвался от бумаг:
— Ну что ж, пригласите свидетеля.
Еще с порога Рогов разочарованно оглядел небогатое убранство кабинета и сел на предложенный ему стул с видом человека, который никогда не ломает голову над пустяками. Козлов занял место у окна.
— Вы не возражаете, — начал допрос Нарышкин, — если я сначала узнаю, кто вы, каким образом оказались один в особняке художника Лаевского?
— Извольте, я к вашим услугам, — театрально кивнул головой Рогов. — Если коротко... Я его ученик.
Нарышкин попросил Рогова рассказать о себе, и тот поведал свою незатейливую биографию. Родился после войны, учился в школе, потом окончил Строгановское художественное училище, взял свободный диплом, помыкался с ним года два, случайно познакомился с Лаевским, стал его учеником и теперь почти каждый день ходит к нему в особняк, где ему отведена студия. Он учится искусству реставрировать старые полотна, помогает Лаевскому. На штатной работе не состоит. Проживает вместе с матерью на улице Алабяна, 13, в отдельной двухкомнатной квартире, холост.
— Модест Матвеевич, вы четко излагаете свои мысли, две минуты — и все о вас ясно. — Нарышкин сказал это просто, и Рогов слегка покраснел, сделал отстраняющий жест рукой: полноте, мол... Нарышкин продолжал: — Что греха таить, следователю чаще приходится общаться с уголовниками и их окружением, чем с миром искусства. Скажите, ваши знакомые, наверное, из числа творческой интеллигенции?
— Да... в основном, да.
— Пожалуйста, назовите их по именам.
— Это что, проверка моей памяти или допрос?
— Ну что вы, Модест Матвеевич, пока мы просто беседуем, я даже не делаю никаких записей. И поверьте, что в моих вопросах совсем нет праздного любопытства.
— Извольте. — Рогов внимательно посмотрел в глаза Нарышкину. — Первым назову очень хорошего художника-иллюстратора Юрия Белого. — Последовала небольшая пауза, и Рогов добавил: — Это порядочный во всех отношениях человек, и, если вас интересует, я могу рассказать о нем больше.
— Нет, вы просто перечислите, пожалуйста, имена, отчества и фамилии своих знакомых, — попросил Нарышкин.
На лице Рогова без труда можно было прочесть немой вопрос: кем же заинтересовалась милиция?
Он припомнил еще десяток своих товарищей и сказал, что перечислил всех.
— Не всех, вы не назвали Подлунского.
Рогов округлил глаза:
— Но он, скорее, не мой знакомый, а Владислава Борисовича.
— Вы смогли бы описать черты его характера?
Рогов улыбнулся и пожал плечами:
— Поистине интересный экзамен-экспромт, ну что же, попробую. Так вот. Подлунский — человек незаметный, скромный, педант, характер уравновешенный... обычно. Внешне он спокоен, но в его глазах нередко светится какая-то затаенная тревога. Он остроумен, всегда готов разразиться веселым смехом, но внутренняя застенчивость удерживает. Ему лет тридцать, но он остается холостяком, правда, у него есть особые причины: маленький рост, большой нос, слабое здоровье. Одевается элегантно, даже, можно сказать, роскошно, очень следит за собой, носит усы и бороду, как у Василия Ивановича Сурикова.
— Спасибо, Модест Матвеевич, теперь перейдем к официальной части. Я вынужден допросить вас в качестве свидетеля по делу об убийстве гражданина Подлунского. Предупреждаю, что по статье 181 Уголовного кодекса вы несете ответственность за дачу заведомо ложных показаний.
— Господи, да о чем вы?! Кто же и когда мог его убить? — кажется, Рогов искренне испугался, вскочил со стула, снова сел.
— Я далек от желания шутить на подобные темы. Итак, первый вопрос: были ли вы в особняке Лаевского восьмого октября?
— Да, был до семнадцати часов примерно, потом уехал домой.
— Что вы можете сказать об ограблении Подлунского около двадцати двух часов восьмого октября в Большом Козловском переулке?
— Я впервые слышу об этом. А он что, нес Лаевскому какие-нибудь полотна?
— Модест Матвеевич, здесь вопросы задаю я или — с моего разрешения. Вы знаете Монетчикова Ивана Андреевича?
— Что-то не припомню такого. Он тоже художник? О, простите, не могу без вопросов, — Рогов прикусил губу.
Наблюдая за ним, Козлов подумал, что тот относится к разряду людей, которые на допросах держатся естественно, но эта естественность особого рода: так, должно быть, ведет себя актер, вживаясь в ситуацию. Нарышкин повторил вопрос:
— Итак, знаком вам Монетчиков Иван Андреевич?
— Нет, даже не слышал о нем.
— Вы сказали, что Подлунский был больше знакомым Лаевского, чем ваш.
— Да.
— А что их связывало? На чем, так сказать, основывалась дружба?
— Они ведь одним музам служили, а подробнее, вероятно, может сказать теперь только Владислав Борисович.
— С кем еще был в хороших отношениях Подлунский?
— Этого я не знаю. Да и видел я его всего лишь раза два на каких-то юбилеях у Лаевского.
— А кто еще был на этих юбилеях?
— Народу бывало много. С некоторыми Лаевский меня знакомил, но скорее из вежливости, я даже имена их перезабыл.
— Кто такой Гришин?
Рогов задумался. Его смущал не столько следователь, сколько Козлов, который, сидя в сторонке, внимательно следил за ходом беседы. Рогов боялся наговорить лишнего. Ведь если Лаевский что-то хочет скрыть, а он проболтался, то учитель не похвалит.
А этот въедливый следователь шаг за шагом, не спеша все пытается что-то выудить из него. Вот ситуация! Рогову не терпелось как можно скорее выбраться из этого кабинета, который он уже мысленно окрестил «казематом».
— Гришина я знаю мало, скажу только, что он тоже был учеником Лаевского, сейчас работает самостоятельно.
— Как вы считаете, чем мог так не угодить своим знакомым Подлунский, что его решили убрать?
— Ума не приложу... А может быть, это чистая случайность?
— У вас есть вопросы, Геннадий Прохорович? — повернулся Нарышкин к Козлову.
— Охарактеризуйте, пожалуйста, насколько осведомлены Ирина Берг и Дарья Степановна о делах Лаевского.
— По-моему, они так же далеки от его дел, как мы от тундры.
— Что вы имеете в виду? — поднял брови Нарышкин.
— Я ничего не имею, я считаю... Просто они женщины, и их удел — кормить и ублажать.
Нарышкин попросил Рогова прочитать протокол, расписаться на каждом листе и предупредил:
— Вам, Модест Матвеевич, придется хранить в тайне материалы допроса, за разглашение тайны следствия вы можете понести наказание по статье 184 Уголовного кодекса.
Рогов прочел, расписался и медленно прошел к выходу.
— Интересно, на какой скорости он сейчас помчится назад, — весело заметил Козлов, обернувшись к Нарышкину, но тот уже снова копался в бумагах, словно ничего не произошло и не было никакого допроса, а Козлов только-только вошел в кабинет и пытается оторвать его от срочных дел. Геннадий усмехнулся и мягко закрыл за собой дверь.
5
...Лаевский не спал почти всю ночь. Из головы никак не выходила страшная новость, сказанная Роговым эзоповским языком вчера вечером по телефону.
«Видимо, здорово запугал его следователь, если этот не в меру разговорчивый субъект побоялся рассказать о всех подробностях беседы», — думал Лаевский, не зная, что же все-таки тот наговорил на допросе. И хотя Рогов утверждал, что «был нем, как печка», отделывался ничего не значащими фразами, Лаевский не очень-то ему верил. Так, в сомнениях и догадках, он промучился всю ночь и лишь к утру забылся тяжелым сном.
В восемь утра Даша разбудила его. Лаевский попросил:
— Приготовь мне что-нибудь в дорогу, еду в Киев на похороны друга детства.
Лаевский умылся, заказал такси и почувствовал, что возвращается к обычному для себя деятельному состоянию. Когда он вышел к завтраку, Ирина уже сидела за столом.
— Может быть, и меня возьмешь с собой? — спросила она, рассеянно листая журнал.
— Я думаю, что тебе не будет там интересно, все-таки похороны не карнавал. Но если ты хочешь... — Лаевский сделал многозначительную паузу, глядя, как Даша с невозмутимым видом разливает кофе.
— Ты прав, не стоит.
— Теперь об этих повестках. Хотя я ни разу и не привлекался к судебной ответственности, даже не представляю себе, как нынче выглядит зал суда, все-таки убежден, что быть даже свидетелем на процессе — это чертовски гнусное занятие. Поэтому хочу дать вам обеим совет: вы ничего и никого не знаете, никого и ничего не видели и не слышали. Тогда, естественно, в вашей помощи следствию никто не будет заинтересован.
Обе женщины кивнули в знак согласия.
Лаевский отсутствующим взглядом смотрел на еду: аппетита не было, кофе и тот глотался с трудом. Он вытер салфеткой рот, встал из-за стола.
— Я очень сожалею, но трагические обстоятельства не позволяют мне прийти на рандеву к блюстителю закона в день и час, указанные в бумажке, так что... В общем, вы знаете, о чем и как сказать.
К одиннадцати часам Ирина и Дарья Степановна пришли к Нарышкину, объяснили, что Владислав Борисович вынужден был срочно уехать.
— Хорошо, — сказал следователь. — Начнем, так сказать, по старшинству. Ирина Семеновна, я попрошу вас подождать в коридоре.
Ирина вышла, и Нарышкин приступил к допросу Дарьи Степановны. Объяснил ее права и обязанности, предупредил об ответственности за дачу ложных показаний, записал по стандартной форме протокольные данные и про себя отметил, что она держится уверенно, просто, свободно. Нарышкин объявил, что пригласил ее в качестве свидетеля по делу об убийстве гражданина Подлунского Владимира Михайловича, который неоднократно посещал их дом. Дарья Степановна поджала губы:
— Милый мой, я-то тут при чем, мало ли кто к нам ходит, я никого не знаю; изготовь, подай, прими — и все.
— Давайте с вами договоримся, вы будете называть меня гражданин следователь, я для вас официальный представитель власти, а не «милый мой», — улыбнулся Нарышкин. — И второе, постарайтесь отвечать поконкретнее на вопросы.
— Угу, — кивнула головой Дарья Степановна, беззастенчиво рассматривая Нарышкина.
— Итак, как часто Владимир Михайлович Подлунский приходил в гости к вам в особняк?
— Я такого не знаю.
— Согласен, фамилии гостей вы действительно можете не знать, но их имена, лица должны остаться в памяти. Давайте проведем официальное опознание.
Нарышкин вышел в коридор, пригласил двух понятых из числа посетителей, разъяснил обязанности, заполнил протокол опознания, разложил на столе пять фотографий, на одной из которых был снят Подлунский.
Все это время он незаметно наблюдал за Дарьей Степановной. Она с любопытством оглядела кабинет, по-своему оценив небогатое его убранство. Все остальное время терпеливо сидела на стуле, всем своим видом как бы говоря: «Ты не стесняйся, милок, делай свое дело, а я свое тоже знаю».
— Прошу вас, Дарья Степановна, внимательно посмотрите эти снимки и скажите, кого из этих людей вы видели в гостях у Владислава Борисовича.
Она не торопясь осмотрела фотографии и ответила:
— Никого я из них не видела, да и больно-то мне нужно на гостей глаза пялить. Мое дело: не облей, подай, прими и посуду убери. А много знать мне не полагается.
Нарышкин понял, что продолжать допрос бесполезно. У Дарьи Степановны, судя по ее крепко сжатым губам и по прямому, не знающему смущения взгляду, не то что копейка, каждое слово на учете, а к Лаевскому у нее, видимо, особая привязанность.
Быстро закончив все формальности, следователь пригласил в кабинет Ирину Берг. На пороге женщины встретились.
— Так я ждать тебя не буду, Иришенька, мне еще по магазинам побегать надо. Господи, сколько времени зазря потратили, — сокрушенно сказала Дарья Степановна, направляясь к двери. — Ты уж меня, товарищ следователь, больше не вызывай, а то ведь я в этих бумагах-то не понимаю. Тебе что, написал целый короб, а меня потом по судам затаскают.
Когда дверь закрылась, Нарышкин извинился, что заставил Ирину ждать, и, отодвинув все бумаги в сторону, сказал:
— Пока не для протокола. Дарья Степановна всегда такая недоверчивая?
— Я не знаю, что вы имеете в виду, только ведь и вы не очень-то доверяете людям, иначе не заставляли бы расписываться за каждое слово. А так получается — говори, да оглядывайся. Я слушаю вас.
Нарышкин вздохнул, пододвинул к себе свой неизменный блокнот.
— Я должен допросить вас в качестве свидетеля по делу об ограблении, а затем и об убийстве Подлунского. Итак, кем вам доводится Владислав Борисович?
— Друг покойного отца... Неоднократно делал мне предложение стать его женой.
— Ну и как?..
— Никак, — она открыла перед ним пустую страничку в паспорте. — И давайте к делу.
— Когда к вам в последний раз приходил Подлунский?
— Лично ко мне — никогда. У Лаевского я видела его в гостях месяцев пять-шесть тому назад.
Она села поудобнее, положила ногу на ногу, легким движением головы откинула за спину черные как смоль волосы и, слегка прищурив большие глаза, стала не мигая смотреть на следователя. Сама независимость.
Нарышкин предложил ей закурить, она отказалась.
— А вы не припомните, какова была цель этого визита?
— Просто он пришел в гости к Владиславу Борисовичу. Посидели за столом, выпили, закусили, поговорили.
— О чем?
— Не помню.
— У Лаевского и Подлунского наверняка были какие-то общие интересы по работе. В чем они заключались?
— К сожалению, они меня никогда ни во что не посвящали.
— Ирина Семеновна, у меня такое впечатление, что вы просто не желаете помочь следствию. О чем бы я ни спросил, вы ничего не знаете. Ведь не может же человек не слышать, если он не глухой, не понять, если изъясняются в пределах его словарного запаса. И вообще, как известно, нам значительно труднее забыть услышанное, чем постараться запомнить что-то. Что же за человек, которому забывать нечего? Или для вас общечеловеческий долг — ничто, а идеалом является мещанское поведение вашей Дарьи Степановны, — он кивнул в сторону двери, — и в этом плане вы не хотите от нее отстать?
— Забывать мне нечего, — Ирина нервно усмехнулась. — Нет, вы лучше объясните, что это за трагикомедия, при чем здесь Лаевский и убийство? Да он такой человек, что мухи не обидит. Владислав — честнейший, благороднейший человек, и он всегда идет навстречу тому, кто попал в беду, нуждается в помощи. Люди этим пользуются, чуть что — к нему. А вы про какое-то ограбление, убийство. Не там вы ищете, вот что я вам скажу!
Она раскраснелась. Поискав глазами отложенную Нарышкиным в сторону пачку сигарет, сама потянулась к ней, закурила. Потом, спохватившись, попросила разрешения.
— Курите, курите. А с чего вы вообще взяли, что мы подозреваем Лаевского в причастности к ограблению или к убийству?
Ирина по-детски сморщила рот и молча отвернулась к окну.
Не мог же Нарышкин сказать ей, что следствие пока не располагает информацией о знакомых Подлунского и то, что он может услышать от нее, — единственная зацепка, с помощью которой они надеются узнать хоть что-то. Такая откровенность допустима, когда доподлинно известно, что свидетель не имеет никакой другой заинтересованности, кроме как помочь в раскрытии преступления... В памяти мелькали факты: нежелание Лаевского признаться в знакомстве с Подлунским, неявка по повестке, конспиративная встреча с дипломатом... Возможно, что и отъезд в Киев выдуман. Столько завязок, а где искать концы?..
И вдруг Нарышкин удивил Ирину. Он отложил в сторону бумаги и посмотрел на нее грустно, будто сожалея, что вот при каких обстоятельствах довелось им встретиться.
— Ирина Семеновна, процесс расследования убийства очень серьезный и многосторонний, поэтому нас интересуют все нюансы жизни покойного, и мы всегда рассчитываем на помощь его знакомых, тем более близких знакомых. Ведь восьмого октября, когда Подлунский был ограблен, он прибежал за помощью или излить душу не к кому-нибудь, а именно к Владиславу Борисовичу. Так?
— Вот этого я не знаю. Он разве приходил к нам? Во сколько?
— В начале двенадцатого ночи.
— Возможно, в это время я всегда у себя в комнате на втором этаже, могла и не слышать.
— Хорошо. Больше у меня вопросов нет. Прочтите и распишитесь на каждом листе. Вот мой телефон, запишите и передайте Лаевскому: пусть позвонит мне сразу, как только вернется домой. Кстати, а какие у вас отношения с его сыном, Артуром Владиславовичем?
— Какие могут быть отношения, — улыбнулась Ирина, — если он смотрит на меня, как на злодейку, словно я собираюсь завладеть богатым наследством его отца. Ладно, извините, если что не так, я пошла.
Она вопросительно посмотрела на Нарышкина, тот согласно кивнул: на сегодня достаточно. Глядя ей вслед, он катал по столу карандаш и думал, что, допросив ее и Дарью Степановну, он ничего нового не узнал. Единственное, в чем он теперь не сомневался: женщины преданы Лаевскому, в курсе событий и что-то скрывают. Значит, есть что скрывать, есть чего бояться...
6
Нарышкин попросил начальника отдела МУРа принять его, чтобы посоветоваться и решить, как вести поиск дальше. Дроздов пригласил на совещание Морозова и Козлова.
Нарышкин рассказал собравшимся о результатах последних допросов и вынес на обсуждение следующую версию:
— Подлунский нигде не работал, жил случайными заработками. Как следует из показаний соседей по дому, часто со спортивным чемоданом и тубусом уезжал, как они выражались, в командировки. Называли даже примерные даты этих командировок. Я сопоставил их с вкладами на сберкнижке Подлунского и сделал вывод, что они пополнялись обычно после его возвращения из поездок. Всего на сберкнижке числится девятнадцать тысяч двести рублей. Как видите, для тунеядца сумма немалая. У меня есть все основания предполагать, что деньги он приобретал преступным путем и только по этой причине не заявил восьмого октября об ограблении. После этого события, очевидно, между членами группы, занимающимися незаконными сделками, произошел конфликт, который привел к таким печальным последствиям.
Нарышкин откашлялся, обвел глазами присутствующих:
— Итак, в первую очередь необходимо сосредоточить усилия на розыске и задержании Монетчикова, тогда многое прояснится. Параллельно надо продолжать собирать сведения о деятельности Лаевского. Чувствую, что все дороги ведут к нему. Неплохо поработать с его учеником Гришиным. На Рогова тратить времени не стоит. В завершение хочу сказать, что вся эта компания «от искусства», как мне кажется, занималась, да и сейчас продолжает заниматься, видимо, спекуляцией художественными ценностями. Вероятно, здесь имеют место особо крупные злоупотребления. Деньги в этих сделках немалые, страсти разгораются огромные, и, как говорится, было бы болото, а черти напрыгают. Думаю, что разгадка убийства Подлунского тесно связана с вопросами, каким путем, где и через кого достают они картины.
— Послушаем мнение нашего главного сыщика, — сказал Дроздов. — Прошу, Борис Петрович.
Морозов встал. Он понимал, что пока все сказанное Нарышкиным — только догадки, предположения, но, высказанные вслух, они обретали силу официальной версии.
— Я согласен с предположениями Николая Николаевича, — начал Морозов. — Кстати, у нас сейчас нет пока и возможностей изменить направления поиска. Главное — задержание Монетчикова. Я сориентировал ленинградских товарищей, они, безусловно, его найдут. Это вопрос времени. Далее, по неписаному закону убийца часто возвращается к месту преступления. Мне кажется, что три-четыре человека из дома, где жил Подлунский, должны узнать из «достоверного источника», что преступник задержан и, хотя в убийстве не сознается, против него есть веские улики и свидетели. Через два-три дня эта новость облетит весь квартал и каким-нибудь путем дойдет до Монетчикова и успокоит его. А если эту весть продублировать через болтуна Рогова, то, вполне возможно, она подстегнет Лаевского побыстрее вернуться, если он в чем-то замешан.
— Ну что ж, согласен, — подвел итог Дроздов. — Только я бы посоветовал вам, Борис Петрович, разделить с Козловым сферы деятельности. Вы сами возьмите Лаевского и его окружение, а Козлов займется Гришиным и грабителями Подлунского. Может статься, что они из одной компании с Монетчиковым. Все. Желаю успеха.
Морозов основательно изучил дело Монетчикова и был уверен, что тот всегда ходил на кражи в одиночку, усвоив воровскую истину: «Больше народу — быстрей попадешься, а с группой удвоишь свой срок».
Что касается грабителей Подлунского, то Морозов считал, что они новички в уголовном мире. Перед совещанием он просмотрел всю уголовную регистрацию по Москве и области за текущий год, но ничего подходящего под описание преступников и их почерка не встретил.
7
За окном кабинета рождалось новое осеннее утро. Холодное, в сизой дымке.
Морозов вспомнил про участкового инспектора, который неплохо знал, как принято говорить, оперативную обстановку, созвонился с ним и на управленческом «Москвиче» приехал в жэк, где тот вел плановую проверку.
Участковый сразу узнал Морозова и поинтересовался, чем на этот раз он может быть полезен.
— Пока хочу узнать, как часто бывал в особняке вот этот человек, — Морозов показал фотографию Подлунского. — Приходил ли он налегке или с тубусом в руках? Один или с кем-то еще?
— Я лично его не видел, но можно спросить дворника Ахмета. Он давно работает, всех знает, все видит и умеет молчать. Кстати, по договору Лаевского с жэком он обслуживает уборочную территорию у особняка.
Морозов согласился, и они вышли на улицу. Ночью прошел дождь, и на асфальте стояли большие зеркальные лужи. Ветер сгребал в них мусор, сгонял в кучи золотистые осенние листья, наметая их в самые неожиданные места.
Ахмета ни во дворе, ни на улице не было.
— Дома, наверное, сидит, — предположил инспектор.
И действительно, Ахмета они застали в его квартире, у телевизора. Он увлеченно смотрел повторение вчерашней премьеры телефильма. Ему очень не хотелось отрываться, осталось минут десять до конца серии, поэтому встретил он гостей нелюбезно. Даже проворчал что-то непонятное на своем родном языке.
— Мы не торопимся, Ахмет, — сказал участковый. — Если разрешишь, мы посмотрим вместе с тобой.
Дворник гостеприимно пододвинул им стулья.
Передача закончилась. Ахмет сел к столу. На его смуглом худом лице было написано нетерпение и любопытство: что случилось, чего от него хотят?
Морозов достал три фотографии и протянул их дворнику.
— Вы никого из этих людей не видели? — спросил он.
Ахмет долго рассматривал каждое фото, потом вернул их, снова взял снимок Подлунского.
— Был тут недавно, похож вот на этого. Два дня курит и курит, всю подворотню заплевал. Я уберу, он опять. Смотрю, профессор выходит, а этот носатый бросил курить и за ним. Такси поймал.
— А кто такой профессор?
— О, большой человек! Как праздник, он мне — десять рублей... В особняке живет.
— Так, — протянул Морозов, — а во что «носатый» был одет?
— Такая куртка, весь из мягкий кожа, этот... замш. На голове блин, брюки темные с полосками.
«Все сходится, Подлунский ходил в берете, замшевая куртка и брюки в полоску у него тоже были найдены в квартире. Выходит, после ограбления он стал тайно следить за Лаевским».
— Я потом профессора видел, — продолжал Ахмет, — говорил ему, нехороший человек за ним следит. Он мне двадцать пять рублей дал, молчать велел. Я ему все говорил, и номер машины, на которой парень за ним поехал.
— А номер вы записали?
— Зачем записал, так помню: МОЛ 40-08.
— А машина что, его дожидалась?
— Нет, он на все машины как чумовой кидался.
— А когда это было?
— Одиннадцатого курил. Двенадцатого за машиной бегал. Потом перестал ходить. Увидел, как я смотрю, испугался.
Поблагодарив Ахмета, Морозов с участковым пошли по Татарскому переулку. Морозов расспрашивал инспектора, кто еще ходит к Лаевскому, знает ли он Петухова.
— Нет, не знаю, я же не дворник, и в участке у меня несколько тысяч душ. А вот Ирину Лаевского знаю, красавица! Кстати, вот она из особняка вышла.
Морозов поблагодарил инспектора и заспешил к своему «Москвичу», не выпуская Ирину из виду.
Она явно никуда не торопилась, шла, посматривая на окна домов; вернее, на собственное отражение в окнах, легким взмахом руки поправляя волосы, и было видно, что она привыкла ловить на себе взоры прохожих. Вот и сейчас, будто почувствовав на себе изучающий взгляд Морозова, девушка обернулась, скользнула взглядом мимо его лица.
Что-то в этой фигурке, хрупкой, ладной, вызывало жалость и было знакомо. Неужели это она? Женщина, за которой он сейчас следил, была удивительно похожа на школьную, тайную его любовь. И даже ситуация, в которой они сейчас встретились, очень напоминала прежние времена: она опять его не замечала.
Морозов обогнал Ирину, притормозил, спросил первое, что пришло в голову: «Как проехать на Большую Ордынку?» — И по ее реакции понял, что она его не узнала.
— Девушка, простите, — прервал он ее объяснения. — Вы случайно не в 334-й школе учились?
Ирина с удивлением взглянула на него.
— И вас зовут Ирой. Извините, если я ошибся, прошло столько времени.
— Да, но я вас совсем не помню!
Борис улыбнулся, развел руками:
— Немудрено, вас недаром дразнили «Шамаханская царица».
— Как? — молодая женщина изумленно взглянула на Бориса. — Меня так звал только один Олег Бобырев. Вы знали его?
— Да, когда-то. А сейчас могу и не узнать.
— Вот и я вас совсем не помню.
— Садитесь, пожалуйста, — Борис шире открыл дверцу машины. — Естественно, что не помните. Я ничем особым не выделялся, перешел к вам в школу в десятый класс, а вы тогда учились, кажется, в восьмом «А». А классным руководителем у вас была Ольга Георгиевна, такая строгая, серьезная.
— Да, мы ее классной дамой звали.
— Я ее недавно встретил, тоже на улице. Постарела, поседела, но так же высоко держит свой курносый нос.
Ира рассматривала Морозова, все еще надеясь вспомнить.
— А как ваше имя?
— Борис Морозов.
— Кажется, припоминаю, застенчивый мальчик из десятого «А».
— По-моему, вы куда-то хотели ехать, и я могу довезти вас.
Было видно, что ей и хочется сесть в машину, и неловко. Наконец она решилась и села рядом.
Морозов не спеша вел свой «Москвич», искоса поглядывая на Ирину. Теперь ему хотелось не только с профессиональной точки зрения узнать, как у нее сложилась жизнь. Подталкивало что-то из прошлого, где все было безмятежно чисто, по-дружески. Неужели эта та самая девочка, в артистическое дарование которой верили не только влюбленные в нее сверстники, но и преподаватели? И казалось, она сама не сомневалась в своем необыкновенном будущем... А вот как все обернулось... Нигде не работает, никем не стала, особняк, старик Лаевский.
— Вы давно за рулем? — спросила Ирина.
— Третий месяц.
— Поедемте в парк Горького, — предложила Ирина, — я так давно не была там. У вас есть время?
— Немного.
— У меня тоже немного.
— Муж будет беспокоиться?
— Я не замужем. Но, чтобы не было недоразумений... — Ирина сделала паузу, — у меня есть Владислав. Самый умный и добрый человек.
— А кто он по профессии?
— Художник, притом очень знаменитый.
— Если знаменитый, значит, немолодой.
Ирина искоса взглянула на Бориса, как бы говоря: «А вам-то что за дело? И вообще, по какому праву...»
— Борис, а вам не кажется, что вы слишком любопытны?
Он промолчал. Говорить ей о том, как она заблуждается в отношении Владислава, было бы преждевременно. «Самый умный и добрый»... Интересно все-таки: что заставляет ее так относиться к Лаевскому? Наивность или что-то другое?
...Они доехали до парка культуры и пошли по центральной аллее. Ирина стала рассказывать, как еще девчонкой приходила сюда гулять с подругами. Здесь готовилась к экзаменам в театральное училище, прошла два тура, а на третьем завалилась. Два года работала в театре на разных работах. Потом ей дали возможность участвовать в массовках. Она решила снова держать экзамены в театральное училище и успешно сдала их.
Ирина вдруг погрустнела и замолчала.
— И что же дальше? — озабоченно спросил Морозов.
Они медленно шли под облетевшими кронами лип. Она дернула плечом:
— Теперь все это не имеет никакого значения.
Они взошли на мостик, перекинутый между двумя прудами, и остановились. Внизу, величаво изогнув шеи, плавали лебеди.
Ирина облокотилась на перила. Она вдыхала сырой, с грибным терпким запахом воздух и подумала вдруг, что ей хорошо и надежно рядом с этим чужим человеком, так хорошо, как давно уже не было.
— Ира, — спросил Морозов, — вы на каком курсе театрального?
— Уже ни на каком. Я вынуждена была уйти.
— И снова работаете в театре?
— Да нигде я не работаю!
Они побрели по аллее дальше. Несколько минут прошли в молчании. Ирина, опустив голову, шагала по опавшим кленовым листикам, словно по камешкам. В ее движениях, в облике был какой-то надлом. И, хотя профессиональная осторожность всегда заставляла Морозова проверять свои первые впечатления, на этот раз он был почти уверен, что девушка попала в руки мошенников и об этом не ведает.
— Знаете, Ира, запишите мои телефоны и, если у вас будут какие-нибудь трудности, звоните в любое время суток на работу или домой, я всегда помогу вам.
Он протянул ей листок из блокнота.
— Не надо, я запомню. Да и какие особые трудности у меня могут быть?..
Они быстро ехали по улицам и переулкам Москвы. Ирина поглядывала на Бориса и втайне любовалась его мужественным лицом, точными движениями сильных красивых рук. Он, несомненно, отличался от многих мужчин, с которыми ей приходилось общаться.
За один квартал от особняка они остановились.
— До встречи! — мягко сказала Ирина и вышла из машины.
Борис смотрел ей вслед. У перекрестка она обернулась, легонько помахала рукой.
Скорее на работу! День прошел удачно, он узнал что-то новое, но, как ни странно, напряжение не спадало. Он говорил себе: ну, подумаешь, школьная симпатия. Но, как ни старался он отделиться от прошлого, оно имело над ним какую-то власть, он чувствовал свою причастность к судьбе Ирины, хотел помочь ей выбраться из той среды, в которую она попала.
Вскоре вернулся Геннадий Козлов.
— Все, Борис Петрович, устал как собака и есть хочу как волк и семеро козлят. Может, пообедаем?
Морозов внимательно посмотрел в глаза друга.
— Ну что?.. Ничего интересного не разузнал на Харитоньевском?
Геннадий почесал затылок:
— Нашел я одного пенсионера, я ему посоветовал в цирке выступать, память — как у слона! Он гулял с собакой и даже запомнил номер такси, на котором тринадцатого октября, в день убийства, примерно в десять вечера, прямо к подъезду Подлунского подъехал незнакомец! Этот номер 17-17, вот только буквы он не запомнил.
— Ну, Гена, это уже, кажется, началась поклевка! А ты говоришь обедать. Небольшой перекус, и вперед. Вот тебе еще один номер машины, разыщи обоих водителей. Надо будет расспросить, что помнит таксист об этой поездке и куда возил двенадцатого октября Подлунского владелец «Москвича» МОЛ 40-08.
Козлов весело отчеканил «есть» и, осчастливив Морозова своей знаменитой, до ушей, улыбкой, отправился выполнять задание. Борис Петрович подумал, что у Геннадия все-таки счастливый характер: умеет радоваться, даже если везет всего лишь в мелочах. А может, предчувствует удачу?
Ленинград. Ранним пасмурным утром старый рецидивист Монетчиков не спеша шел к своему дому. Серый туман, разорванный порывами ветра, лизал стены домов, арки, мосты, гранитные набережные каналов и пронизывал прохожих холодной сыростью.
Монетчиков остановился недалеко от своего дома. Вот уже второй день он присматривается к нему, не решаясь подойти ближе. Обычно в это время возвращалась с ночной смены пожилая чета, его соседи по квартире, которые работали в порту.
«Надо встретить их здесь и расспросить, не интересовались ли мной», — подумал он. Ждать пришлось недолго. Вскоре он увидел соседку, которая, прихрамывая, направлялась в его сторону.
— С добрым утром. А где супружник?
— Здравствуй, не узнала тебя, богатый будешь. Захворал он, дома лежит. А ты что здесь стоишь, мокнешь?
— Увидел вас и дожидаюсь. Как тут, никто меня не спрашивал?
— Нет, никто. Да кому ты нужен?
— Двинул я тут одному стервецу в морду, а теперь душа болит, как бы не навестила милиция.
— Все-то у тебя только в морду да в морду. Где пропадал-то?
— Нашел одну с Невского. Хочу жениться. Поживу пока у нее.
— Как говорится, господи благослови. А свадьба когда?
— Когда будет, приглашу.
Монетчиков позвонил в дверь и на всякий случай встал за спиной соседки. Открыла какая-то незнакомая молодая женщина.
«Это еще откуда взялась? Неужели «кукушка» из милиции?» — подумал он, и кровь бросилась в голову.
— Здравствуйте! А вы к кому? — женщина приветливо смотрела на него.
— Да это сосед наш вернулся, Иван Андреевич, — пояснила соседка.
Появление симпатичной незнакомки насторожило Монетчикова. И, прежде чем войти в квартиру, он долго тер ноги о половик, прислушивался, приглядывался. А женщина все смотрела на него и мило улыбалась.
«Неужели эту птаху подсадили, чтобы поймать меня? — думал Монетчиков. — Значит, она должна как-то сообщить о моем появлении».
— А вы кто будете? — спросил ее Монетчиков, переступив порог квартиры, но от двери не отходя.
— Теперь соседка ваша, снимаю угол.
— Понятно, — пробурчал он. Торопливо отперев замок, он проскочил в свою комнату, чувствуя, как сильно колотится сердце.
— Я собираюсь в магазин, вам купить что-нибудь? — довольно громко спросила незнакомка соседку.
— Спасибо, милочка, я сама схожу.
Не раздумывая, Монетчиков лихорадочно стал собирать все необходимое в дорогу, бросая вещи в открытый чемодан.
«Ты одеться не успеешь, как меня здесь не будет», — проворчал он и вдруг услышал легкие шаги по коридору. Взглянув за дверь он изумился: незнакомка уже успела сменить свой домашний халат на спортивный костюм и в любую минуту могла выскочить на улицу.
— Не очень торопитесь, вместе пойдем, — с явным злорадством попросил ее Монетчиков.
— С удовольствием, только я... мне нужно еще минут десять, чтобы собраться.
«Ты у меня сейчас получишь удовольствие — финку в бок», — злясь, распалял себя Монетчиков.
И, чтобы незнакомка не смогла незаметно уйти из квартиры, пошире открыл свою дверь. Он уже собрал все необходимое, но ждал ее.
Теперь его беспокоила только одна мысль: куда лучше поехать, где понадежней спрятаться? Чтобы остаться на свободе, он готов был убивать каждого, кто мог выдать его или помешать. Терять ему было нечего.
Монетчиков осмотрел финку и сунул ее в карман пальто.
— Я пошел! — громко сказал он.
— Возьмите меня с собой, я уже почти собралась, — кокетливо попросила незнакомка.
И в это время из ее комнаты вышел молодой рослый мужчина и встал на его пути к двери. На мгновение Монетчиков растерялся. Но по опыту он знал, что если не удастся сбежать сейчас, то потом, из тюрьмы, — и подавно. По-бычьи нагнув голову, он ринулся к выходной двери.
— Назад! — крикнул мужчина. — Руки вверх!
Монетчиков вцепился в замок, но тот не поддавался. Через секунду с заломленной за спину рукой он оказался прижатым к полу.
— Все, сдаюсь! — кряхтя от боли, прохрипел он и увидел под самым носом жуткий зрачок пистолета, который твердою рукою держала незнакомка.
— Убери «пушку», дура! — неистово заорал он и подставил вторую руку для наручников.
Раздался звонок. Подоспела бригада сотрудников милиции. Лицо Монетчикова моментально покрылось красными пятнами.
— Что-то вы напутали, начальник. Извиняться придется, — поднимаясь с пола, зло сказал он.
8
На следующий день Монетчиков был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор.
Морозов сообщил об этом Нарышкину.
— Молодцы! — воскликнул следователь. — Честное слово, не верил, что ленинградцы так быстро его схватят. Минут через двадцать буду.
Взаимоотношения следователя и инспектора часто бывают сложные. Но Морозов и Нарышкин давно научились понимать друг друга. Обсудив тактику допроса, они вызвали арестованного.
Монетчиков вошел в сопровождении конвоира и остановился рядом со столом.
Нарышкин не спешил. Борис молча оглядел внушительную фигуру Монетчикова. В глаза бросились оттопыренные уши арестованного — они были без мочек и сливались с овалом лица. Живот подтянут, руки непомерно длинные, грудь широкая, и, хотя рост его равнялся ста семидесяти пяти сантиметрам, весил он примерно девяносто килограммов.
— Следователь прокуратуры города Нарышкин, — представился Николай Николаевич и, показав рукой на Бориса, прибавил: — Сотрудник МУРа Морозов. Прошу садиться.
Монетчиков сел.
— Ну, что на этот раз хотите мне клеить, гражданин начальник?
— Я не собираюсь ловить вас на словах. Мне известна ваша биография, вы дважды были судимы за хищение больших ценностей из церквей и у священнослужителей. Последний раз с применением насилия. Пять лет назад вы были освобождены, вернулись в Ленинград, там встретились с гражданином Подлунским. Скажите, где, когда и при каких обстоятельствах произошло это знакомство?
— А если я вообще не помню никакого Подлянского!
Нарышкин положил перед ним три фотографии, взятые из альбома убитого. Монетчиков долго крутил их в руках и наконец сказал:
— Что-то не припомню я этого молодца. Может быть, сидели с ним вместе?
— Он москвич. Адрес — Харитоньевский переулок, дом тринадцать.
— Живет в Москве? Ну а я в Ленинграде.
— Сколько дней назад вы были у него в гостях?
Монетчиков с недоумением посмотрел на присутствующих:
— Каких дней? Начальник, я уже несколько лет нигде не маячу.
— Где вы были в пятницу, тринадцатого октября? — спросил Нарышкин.
— А я даже не знаю, какое сегодня число. Зачем вам?
— Вы подозреваетесь в причастности к убийству Подлунского Владимира Михайловича, и поэтому придется вспомнить, где вы находились в этот день.
Монетчиков не торопился с ответом, внимательно вглядываясь в лица допрашивающих.
— Придется вспомнить. Ага, в пятницу, тринадцатого? Днем тосковал по работе, я сейчас временно не у дел. Ну вот, вечером встретил одну... Риту или Раю, не помню. Я их всех лапочками зову. Сходили в «Якорь», крепко поддали, потом я завалился к ней на хату.
— Назовите адрес этой женщины, — попросил Нарышкин.
— Вот чего не могу, того не могу, грешен, надрался я сильно. Помню, раздухарился на соседа, «пошутил» он меня с лестницы. Проснулся под забором, карманы наизнанку...
— Нарисуйте план зала ресторана «Якорь» и расположение столика, за которым вы сидели, — попросил Морозов.
— Это можно, — согласился Монетчиков и принялся коряво чертить карандашом на листе бумаги. — Вот здесь, второй от угла. Там я еще официанта запомнил, высокий, черный, худой, с родинкой на щеке, ему лет тридцать, кажись. Димой зовут.
— И давно вы его знаете?
— Ай, начальник! А говорили, что не будете на слове ловить, нехорошо. Я ведь вам помочь хочу,
чтобы вы на мне зря время не гробили. Попа пошарить — пожалуйста, а мокрыми делами не занимаюсь, профессия не та, сами знаете. И вас очень прошу, свяжитесь с этим, из «Якоря». Ну как вспомнит меня, вот вам и алиби. А пока, может, выпустите под «бобочку»
[1], не дурак ведь, не сгину.
— До «бобочки» не дойдет, слишком четкие отпечатки пальцев вы оставили на чернильнице.
И следователь положил перед ним заключение дактилоскопии.
Монетчиков не спеша прочел написанное.
— Ладно, все, что мы здесь говорили, — блеф, — сказал он. — У меня с годами сложились свои понятия — уходить подальше от ваших дел. Потому я и решил наврать. Ну, раз мои пальцы там были, пишите: приходил к Владимиру в пятницу, должок забрать.
— В какое время вы были у него? — спросил следователь.
— Днем, часа в два.
— О чем вы с ним говорили? — спросил Морозов.
— Получил с него двести пятьдесят дубов и отчалил.
— За какие услуги он передал вам эту сумму?
— Кореши мы с ним. Был он в Питере, зашел ко мне месяца два назад и попросил в долг до октября.
— Как вы с ним познакомились? — продолжал допрос Нарышкин.
— Случайно. Он холостяк и я. Вместе пили, гуляли.
— Я думаю, нам хватит слушать этот лепет? — сказал Морозов, обращаясь к Нарышкину, и тот в знак согласия кивнул головой. — Дело в том, — продолжал Борис, переведя взгляд на Монетчикова, — что мы располагаем свидетельскими показаниями водителя такси 17-17 ММТ, на котором вы примерно около двадцати одного часа подъехали к дому Подлунского. А вышли вы от него в двадцать три часа, примерно через тридцать минут после убийства. Час смерти официально зафиксирован заключением судебно-медицинской экспертизы, вот оно передо мной. Не торопитесь, у вас хватит времени не только прочесть все, но, при желании, выучить наизусть обвинительное заключение. Я думаю, суду будет ясно, что человек, не совершивший убийства и не знающий ничего о нем, не станет готовить себе алиби и подговаривать официанта засвидетельствовать его пребывание в ресторане вечером тринадцатого октября. Я уверен, что ваши действия расценятся как злонамеренные, заранее подготовленные, со всеми отягчающими последствиями. Теперь вы понимаете, что вас ждет?
— Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло.
— Нас интересует истинная причина этого тягчайшего преступления. Возможно, вы совершили его по чьей-то указке, специально уничтожили человека, который много знал и был опасен вашим соучастникам по махинациям с картинами?
— Напрасно собираетесь мне клеить сто вторую. Сто четвертую — пожалуйста.
— Гражданин Монетчиков, — обратился к нему следователь, — я вам советую во всем признаться, рассказать, как и за что был убит Подлунский, кто причастен к этому?
Монетчиков сидел, опустив голову, и молчал.
— Мы вас не торопим, — сказал Морозов, — можете поразмыслить, вина ваша доказана, от ответственности не уйти, и лучше облегчить свою участь признанием сейчас, чем позже, когда ваша помощь не потребуется.
— Курите, — следователь положил пачку папирос перед Монетчиковым.
Тот взял одну, закурил, жадно затянулся и сказал:
— Черт с ним, откроюсь! Только пока не для протокола. Я снюхался с Подлунским в кафе после освобождения из заключения. Душевный он был тогда. Я спьяну рассказал, что отсидел шесть лет за иконы. Вовка назвал это мелочью. Можете не торопиться, я скажу вам, когда нужно строчить... Ну а коли не терпится, пишите: шестого октября я дал ему четыре картины, что на них намалевано, не разбираюсь, не специалист. Они были мои, достались по наследству. Вовка обещал мне выслать через два дня три косых, а сам сгинул, ни слуху ни духу. Я — в Москву. Разыскал его хату и завалился часов около девяти вечера. Как порядочный взял для разговора бутылку коньяку, может, думаю, заболел человек, оттого и денег не шлет. А он жив, здоров и даже пускать меня не хотел. Ну, уж за свои кровные я горло перегрызу. Спрашиваю, где должок? Говорит: «Ограбили». Я ему предложил выпить, успокоиться, а он даже за стол со мной не хочет садиться. Дернул я стаканчик без закуски, а Подлунский, голубая кровь, злобствует, не желает по душам говорить. Посмотрел я вокруг, прикинул, живет богато, врет, что денег нет. И так это меня злость разобрала, думаю, не нужны мне твои башли, гнида несчастная, врезал ему по темечку чернильницей, обшарил все, что было, наскреб по сусекам две тысячи с небольшим, картин своих не нашел, все прибрал и смылся. Больше я ничего не знаю, хоть режьте, клянусь матерью.
— Он что, кричал на вас, оскорблял или силой пытался выгнать?
— Что вы, гражданин начальник, силой! Меня обглодать вздумал!
— Если я не ошибаюсь, вы шли к Подлунскому не убивать, а забрать у него деньги за картины, переданные ему вами?
— Вот, правильно.
— Значит, убийство было не преднамеренным, а произошло по какой-то причине? Постарайтесь объяснить ее более конкретно, изложите обстоятельства, как все получилось?
Монетчиков задумался:
— Черт его знает, как получилось? Чувствительный я, когда выпью. А он на меня: «пошел прочь», «пьянь», «не до тебя», командовать вздумал: «Приходить запрещаю». Строит пахана, а я у него вроде шестерки. У-у, козел!.. Взял я чернильницу да врезал ему промеж рог.
— А потом?
— Уж больно дергался он, хрипел, бился. Придушил я его немножко, чтобы не мучился. Чего зазря корчиться, все одно не жилец.
— Где вы достали те картины, которые продали Подлунскому?
— Деталями интересуетесь, гражданин начальник? В чулане валялись. Небось с дореволюционных времен там пылились.
Добиваться от Монетчикова других, более реальных показаний, не имея улик, было бессмысленно.
— Ну что ж, я думаю, на сегодня хватит? — сказал Нарышкин.
Морозов согласился. Они вызвали конвой и отправили арестованного в камеру.
— Мне кажется, в его рассказе есть реальные факты, — предположил Морозов. — Может быть, действительно между Лаевским и Монетчиковым нет сговора? А Подлунский за три дня до смерти активно следил за Владиславом, потому что считал именно его организатором ограбления. Ведь только Лаевский знал, когда и какие картины привезет ему Подлунский.
Николай Николаевич встал, протянул руку Морозову:
— Согласен с вами. Мне пора к себе. По двум делам выходят сроки, надо успеть сегодня хотя бы по одному написать обвинительное заключение.
Следователь ушел. У обоих было хорошее настроение, основной фигурант по делу арестован, признался в убийстве, а это — победа! Трудно передать словами ощущения, когда на смену тяжелому нервному напряжению и иссушающей душу усталости вдруг приходит невиданный прилив сил, желание как можно быстрее распутать весь этот преступный клубок, изобличить виновных, реабилитировать остальных. Ведь в каждом нормальном человеке природой заложено чувство великого торжества справедливости.
Вдруг зазвонил телефон. Морозов взял трубку.
— Здравствуйте, говорит Лаевский. Прошу извинить, но я не мог явиться по вашему вызову. Только что приехал, устал и плохо себя чувствую.
— Владислав Борисович, и тем не менее нам очень нужно допросить вас.
— К вашим услугам, но только после выздоровления, а пока, не обессудьте, еле ползаю.
«Лаевский все же появился, — думал Морозов, — значит, предположение, что он скрывается от следствия, — неправильно. Еще одну догадку долой».
Морозов взялся за телефон:
— Николай Николаевич, Лаевский вернулся. Я с ним только что разговаривал по телефону.
— Вы на колесах?
— Как всегда.
— Тогда не будем терять времени, заезжайте за мной, я выхожу, сгоняем к Лаевскому, допросим.
Морозов подкатил к прокуратуре. Нарышкин уже немного замерз, нахохлился и пританцовывал, ожидая, пока Морозов откроет дверцу.
В машине было тепло, уютно, и, что очень понравилось Нарышкину, Морозов вел ее не торопясь, и можно было согреться.
— Есть некоторые сведения о Гришине, — сказал Морозов. — Сам он по профессии инженер-механик, но в тридцать шесть лет стал художником-реставратором, хотя никакого художественного образования не имеет. Его дочь, Вероника Золотарева, до недавнего времени работала секретарем в торге и вдруг, не без помощи отца, стала заместителем директора комиссионного магазина антикварных и художественных ценностей.
— Интересно.
— Туда ежедневно приносят на комиссию картины, и, бывает, попадаются очень стоящие произведения. Но в этом магазине свои порядки. Оценку проводит Золотарева. Картины известных мастеров после скупки на прилавок не попадают, да и оценивает она их преступно дешево, обычно ссылается на то, что холст старый, краска потрескалась, автор, мол, неизвестный, а подпись, дескать, любую можно сотворить, и определяет стоимость в семьдесят, в сто рублей, редко — больше трехсот. Затем она звонит отцу, тот приезжает и покупает их прямо в подсобке. Странно только другое. У меня есть сведения, что Вероника не только отцу, но и Лаевскому иногда предлагает картины.
— Ничего удивительного. Отец, видимо, ее только хвалит по-родственному за усердие, а Лаевский платит наличными, и это идет непосредственно в ее карман.
— Живут Гришины в кооперативном доме, имеют две квартиры, одна из них оформлена как художественная мастерская. У него «Волга», дача, катер. Одним словом, есть все, кроме птичьего молока.
Морозов остановил «Москвич» недалеко от особняка Лаевского. Дверь открыла Даша, окинула их сумрачным взглядом, поджала губы и, ни слова не говоря, пошла по коридору, то ли приглашая следовать за собой, то ли приказывая стоять на месте.
— Кто там, Даша? — раздался сверху голос Лаевского.
— Энти опять пришли, — процедила она, небрежно махнув рукой.
На лестнице раздались торопливые шаги, и навстречу им вышел сам хозяин особняка.
На этот раз он показался Борису особенно сутулым и удрученным. Но вот плечи его распрямились, и на лице появилась улыбка.
— Здравствуйте, здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Наконец-то я вас дождался! Значит, все решилось положительно? — спросил он, пропуская в кабинет гостей.
Морозов и Нарышкин переглянулись. Хозяин явно путал их с кем-то.
— Владислав Борисович, вы, очевидно, меня не узнали. Я — сотрудник МУРа Морозов, а это — следователь прокуратуры города Нарышкин.
Лаевский вздернул брови вверх, взглянул на одного, на другого.
— Да, теперь вижу, обознался. Что делать, как говорится, и на старуху бывает проруха. Проходите, садитесь, ради бога простите старика, я принял вас за представителей Министерства культуры. Так чем обязан?
По лицу Лаевского трудно было определить, действительно он не узнал пришедших или ведет хитрую, хорошо продуманную игру.
Нарышкин достал бланк протокола допроса, предупредил об ответственности за дачу ложных показаний и, заполнив анкетные данные, задал первый вопрос:
— Вечером, в воскресенье, восьмого октября вас посетил некий гражданин Подлунский Владимир Михайлович и имел с вами беседу. А четырнадцатого октября к вам пришел сотрудник уголовного розыска Морозов, расспрашивал вас об этом визите, но вы скрыли этот факт. Что заставило вас пойти на обман?
Лаевский невинно улыбнулся:
— Один мудрец сказал: если вы не хотите, чтобы вас обманывали, никогда не задавайте вопросов.
— Владислав Борисович, я ценю ваш юмор, но протокол допроса — не сборник афоризмов. Если вас смущает домашняя обстановка, мы можем продолжить нашу беседу в более официальном месте.
— Признаю, поступил неэтично, — но что мне было делать? Я пообещал Владимиру Михайловичу молчать. Ему очень не хотелось, чтобы его таскали в милицию, грабителей ведь все равно не найдут, а времени на разные протоколы да опознания потеряешь уйму.
— Он вам рассказал, что отобрали у него?
— Да, четыре холста. Он вез их мне.
— Как часто он продавал вам картины?
— Всего один раз, да и то, как видите, неудачно.
— А что они собой представляли и где он их достал? — спросил Морозов.
— К сожалению, я не мог их увидеть! Владимир Михайлович по своим делам часто ездил в Ленинград, у него там был большой круг знакомых. Кто-то продавал четыре старых холста, он позвонил мне из Ленинграда и предложил их купить. Но увы...
— Эти картины могут быть крадеными?
— Конечно, нет, что за вопрос! Да и зачем ему воровать? Кстати, Ленинград — это ведь все же бывший Питер, столица. Там жили богатые вельможи, дворяне, меценаты. Многие имели роскошные частные коллекции. Картины по наследству или другими путями и до сих пор переходят из поколения в поколение. Я их покупаю, реставрирую, сдаю в музеи или продаю знакомым, любителям живописи.
— Какую примерно прибыль вы получаете от своего труда?
— Это невозможно подсчитать! А теперь я вообще не буду иметь никакой выгоды. Я написал прошение в Министерство культуры, хочу безвозмездно передать государству свои картины и даже дом, чтобы его переоборудовали в музей, а меня бы утвердили смотрителем. Когда я увидел вас, то подумал, что вы из министерства, пришли составить смету, и, как видите, ошибся. — Лаевский, сидевший до этого в неудобной позе на диване, встал, начал ходить по комнате, переставляя попадающиеся на пути стулья, задевая расшитые пуфики.
Морозов чувствовал, что волнение его искренне, и подосадовал на Нарышкина: уж очень сухо, протокольно ведет он допрос. Лично ему Лаевский не был и не мог быть симпатичен, но последнее сообщение удивило и обрадовало, и даже закралась мысль, не влияние ли это Ирины?
— Мы понимаем и ценим ваш благородный поступок, но тем не менее нам нужно выяснить еще ряд вопросов, — продолжал Нарышкин по-прежнему ровным, ничего не выражающим голосом. — Каким образом вы узнали о дне и часе приезда к вам Подлунского с картинами?
— Он позвонил мне из Ленинграда и сказал, что ему посчастливилось достать подлинники, кажется, Роджерса, Курбе, Тициана и кого-то еще. Я очень обрадовался удаче и просил его не задерживаться. Он обещал прилететь вечером восьмого октября, а девятого утром привезти их мне.
— Скажите, кто слышал этот разговор? Может быть, Рогов или кто-то другой?
— Нет, Рогов уже ушел. Правда, в тот день моим гостем был Гришин...
— Кто такой Гришин, его имя, отчество, чем он занимается?
— Анатолий Прокофьевич, мой бывший ученик, коллега, тоже художник-реставратор, и, хотя он в какой-то степени и мой конкурент, я не могу, не имею права подозревать его в таких грехах. Это благородный человек, просто нелепо думать, что он мог кого-то ограбить.
— А ему известно было, что именно везет Подлунский, время его прибытия в Москву, домашний адрес?
Лаевский кивал в знак согласия:
— Да, но я повторяю — это мой коллега.
— В каком смысле вы называете его конкурентом? — задал вопрос Нарышкин.
Владислав Борисович усмехнулся и сказал:
— Что греха таить, все мы охотники за старыми мастерами. Когда-то я познакомился с одним директором магазина, и он звонил мне, если к нему поступало то, что могло меня заинтересовать. От этого и ему было хорошо — товар не залеживается, и тому, кто продал, — быстрее деньги получит, и мне — зря не гонять попусту туда и обратно в поисках. А теперь одна из двух дочерей Гришина стала заместителем директора этого магазина, их фирма крепнет, а мне... что мне, я уже стар, да и глаза не те, — усмехнулся Лаевский, — вот даже вас не разглядел.
— Когда вы в последний раз разговаривали с Подлунским?
— Восьмого, — напряженно глядя на Нарышкина, ответил Лаевский.
— Но, может быть, потом он связывался с вами по телефону?
— Да, звонил на следующий день. И мне было очень неприятно... Одним словом, он обвинил меня в организации ограбления и грозил сообщить в прокуратуру, если я в двадцать четыре часа не верну ему эти холсты или деньги. Я пытался объяснить, что здесь какое-то недоразумение, а он повесил трубку.
— Сколько вы обещали ему за холсты? — спросил Нарышкин.
— Я никому ничего не обещаю, не увидев произведения. И прошу вас, давайте поговорим о чем-нибудь еще. Мне ужасно тяжело говорить о Подлунском, к тому же я только что вернулся с похорон друга детства.
Лаевский закурил, пальцы его дрожали.
— Как это ни тяжело, Владислав Борисович, но я вас прошу взять себя в руки и продолжить разговор, ради которого мы здесь. Итак, убийца найден и во всем признался, — сказал Нарышкин. — Это — Монетчиков Иван Андреевич. Вы не смогли бы его опознать?
Следователь положил несколько фотографий перед Лаевским.
Владислав Борисович внимательно просмотрел их и, потерев платком лоб, сказал:
— Впервые вижу. Кто из них убийца?
«Судя по поведению, Лаевский или на самом деле его не знает, или великолепный актер. А ведь память на лица у него должна быть неплохая — вон какой цепкий, все подмечающий взгляд», — думал Борис.
— Я прошу вас учесть, что Подлунский был неуравновешенным человеком. Решил, что эти разбойники ждали именно его, а раз только один я знал, какие шедевры он привезет, значит, кроме меня, по его разумению, никто не может быть инициатором ограбления.
— А почему он решил, что грабители ждали именно его?
— Да потому, что один из них, видите ли, по его мнению, якобы проговорился, произнес «наконец-то»...
— А может быть, у него были основания подозревать, что ограбление все же не случайное, ждали именно его?
— Господи, ну ему простительно, он душевнобольной, а в вашем-то ведомстве, надеюсь, таких не держат! Бред какой-то. Ведь он настолько подозрительный, что даже за мной следил. Обычная мания преследования. Ну, подумайте сами, зачем мне, имеющему огромные деньги, идти на бессмысленный риск, не спать, волноваться, и все ради того, чтобы прибавить к своему богатству столь мизерную толику? Мне теперь не о деньгах, а о душе думать пора, милые вы мои! Я даже те ценности, что имел, передаю государству в дар, безвозмездно...
— Пожалуйста, прочтите и распишитесь на каждом листе, — сказал Нарышкин. — И у нас к вам просьба, до окончания следствия никуда не выезжайте, вы можете понадобиться. Теперь бы нам хотелось побеседовать с Ириной Семеновной. Пожалуйста, попросите ее сюда.
Лаевский молча вышел из комнаты.
— По-моему, действительно у него нет и не может быть ничего общего с Монетчиковым, — тихо сказал Морозов.
— Может быть, может не быть... — пробормотал Нарышкин, вздергивая вечно сползающие очки на переносицу. — Вот только не слишком ли напирает он на эту безвозмездную передачу картин в дар государству?
Вошли Ирина и Лаевский.
— Я буду на втором этаже, — предупредил Владислав Борисович и, закрыв за собой дверь, медленно пошел наверх по скрипучим ступенькам.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал Борис Ирине и слегка улыбнулся, увидев ее удивленный взгляд.
— Прежде всего хочу извиниться перед вами за вторжение, — сказал Нарышкин, — и, хотя Борис Петрович говорил мне о вас только самое хорошее, я должен все же взять показания и у вас.
На лице Ирины появилась злая улыбка, теперь она смотрела на Бориса, как бы спрашивая: «Ах так, говорили обо мне хорошее? Да как вы вообще смели обо мне кому-то болтать? Представляю, что вы тут без меня наплели. А я-то, я-то думала!..»
Борису стало смешно: она явно себя переоценивала. Вероятно, она еще пребывала в том далеком школьном прошлом, когда от одного ее капризного взгляда мальчишки готовы были на все, чтобы заслужить «прощение».
— Ирина Семеновна, пожалуйста, не волнуйтесь, — попросил Нарышкин, почувствовав что-то неладное. — Прошу вас, успокойтесь. Я разделяю ваше настроение, но задержание убийцы не означает, что все остальные сразу становятся реабилитированными. Причины преступления полностью не выяснены. И у нас все же остается предположение, что оно совершено в интересах лиц, желающих убрать опасного свидетеля.
— А какие у вас основания подозревать Лаевского?
— Видите ли, — сказал Нарышкин, — каждый, на кого падает такое тяжкое обвинение, обычно пытается представить дело так, что убийство было совершено не преднамеренно, а сгоряча, в состоянии сильного душевного волнения. Кстати, это уже другая статья Уголовного кодекса, и меньше наказуемая. Нас же интересуют истинные мотивы преступления и, естественно, круг лиц, причастных к нему. И, уверяю вас, Лаевского в этом плане мы уже не подозреваем. Но любая, хотя бы косвенная, причастность любого к потерпевшему может пролить свет на это дело. От вас нам бы хотелось тоже кое-что услышать. Например, какие мотивы побудили Лаевского передать свои картины в дар государству? Как давно он вынашивает или обсуждает эту идею, с кем советовался?
Ира не знала, что ответить, и долго молчала, собираясь с мыслями. Наконец она сказала:
— Я впервые слышу об этом.
— Вот и нас это его сообщение поразило не меньше. Думаю, что к такому решению человека могут подтолкнуть не менее чем чрезвычайные обстоятельства. Вы согласны со мной?
— Но я не знаю никаких чрезвычайных обстоятельств. И вообще не понимаю, зачем ему что-нибудь скрывать от меня...
— Седьмого октября Подлунский позвонил из Ленинграда Лаевскому и сообщил, какие картины он достал. Как реагировал на все это Гришин?
— По телефону Владислав Борисович говорил кратко. Я поняла только, что Подлунский должен прилететь восьмого вечером. А потом Анатолий Прокофьевич подробно стал расспрашивать у Лаевского, где и что достал ему Подлунский.
— Что за человек этот Гришин?
— Очень скользкий. По-моему, даже Лаевский побаивается его.
— Чем же Гришин так грозен?
— Очень жадный, хотя внешне на редкость милый, добрый. Владислав Борисович как-то сказал мне: «Господь создал и сам заплакал». Может быть, я не права. Это только мои впечатления, эмоции, и ничего конкретного.
— Где работает муж дочери Гришина, Вероники?
— Рудик нигде не задерживается больше месяца. Сейчас он оформлен где-то на мебельной фабрике.
— Подлунский был с ним знаком? — спросил Нарышкин.
— Да, в прошлом году они встречались у Владислава Борисовича на дне рождения и домой поехали вместе на такси.
— Борис Петрович, я думаю, мы поблагодарим Ирину Семеновну за сообщение и на этом закончим?
Ирина ничего не отвечала и, казалось, не слышала вопроса.
Морозов подошел к ней ближе и тихо сказал:
— Пожалуйста, не забывайте мой телефон и наш уговор. Не обижайтесь. У каждого своя работа.
Ира так же тихо ответила ему:
— Мне просто очень плохо сейчас. Что-то происходит вокруг меня, но я не понимаю что...
9
...В переулке было свежо и прохладно. После душного, прокуренного особняка чистый воздух казался опьяняюще приятным. Нарышкин и Морозов остановились.
— Да, чего-то мы еще не знаем, — с сожалением произнес Нарышкин.
— Николай Николаевич, давайте поступим так. Я постараюсь осторожно собрать сведения о комиссионном магазине. Думаю, следует обратить особое внимание на те полотна, которые долго не залеживались. Ну а заодно проверю, что собой представляет этот Рудик, зять Гришина.
— Что ж, план действий обещающий, — кивнул Нарышкин. — Мне всегда нравилось работать с вами, Борис Петрович, всегда нравилось... — Он замедлил шаг, потянул носом воздух и как-то по-домашнему сказал: — А теперь, знаете что, давайте пошлем всех к этим, которые с хвостиками, и дружно перекусим. Вот же шашлычная напротив, я сюда еще студентом любил хаживать.
И он молодой рысцой, не сомневаясь, что Морозов последует за ним, направился к дверям. Сейчас, в этот момент, он поразительно напоминал счастливого, беззаботного, изголодавшегося студента.
10
Тянулся на редкость нудный, дождливый и неудачный день, о котором можно было бы умолчать, если бы не звонок Ирины в конце работы.
— Борис, мне необходимо с вами встретиться.
— Что-нибудь случилось?
— Ничего, просто неудобно говорить по телефону. Я минут через сорок-пятьдесят буду около дома, и, если у вас есть время, можете встретить меня у продовольственного магазина.
— Хорошо. Обязательно буду.
Профессиональная потребность все сопоставлять, анализировать, чтобы найти истину или предвидеть событие, заставляла Морозова еще и еще раз воспроизводить в памяти ее слова, взволнованный голос. Он понимал, что ей необходимо было сообщить ему какую-то новость. Но какую?
К магазину он подъехал немного раньше срока. Чтобы скоротать время, вышел из машины и стал прогуливаться по переулку.
Скоро в конце квартала появилась Ирина, и он пошел ей навстречу. Вдруг с противоположной стороны переулка ей наперерез двинулись два высоких парня. Вот они остановили ее. Она попробовала обойти их, но те снова встали на ее пути. Справиться с этими молодчиками не составит труда, вот только шума поднимать не хотелось.
— Ребята, я уже дошла, оставьте меня, у меня муж очень ревнивый, — услышал Борис.
Она увидела его, и в ее глазах мелькнула радость.
— Все, хлопцы, проводили, и счастливо, — сказал Морозов, подходя сзади.
— Саша, ты видишь, кем она нам грозила?
— Точно, сосиска, а строит из себя ливерную колбасу.
— Ладно, мо́лодцы, — примирительно сказал Борис, — ни к чему все это.
— Постой! — остановил его Саша. — Что мы, задаром оберегали твою птичку? Давай десятку — и в расчете.
— Нет.
— Тогда пятерку.
Борис оценивающе осмотрел обоих. Они были рослые, сильные, наглые, и это придавало им храбрости.
— У, гад! — крикнул Саша и, размахнувшись, ударил Морозова в лицо, но кулак его еле коснулся щеки — Борис резко отпрянул в сторону. В ту же секунду Саша получил сильный удар ребром ладони и, пошатнувшись, рухнул на тротуар. Второй нападающий бросился на Бориса, но тут же скорчился от сильного удара ногой. В следующее мгновение передней подсечкой Борис бросил его на асфальт и завернул руку за спину. Хулиган затих, потом вдруг резко рванулся, пытаясь освободиться. Борис прижал его всем телом к мокрой, грязной мостовой, но и сам в кровь ободрал колено об асфальт. Боль смешалась со злостью, на какое-то мгновение сдержанность покинула Бориса, и парень взвыл от страшной боли в плече. Морозов обыскал его. Ножа в карманах не оказалось, зато там были документы, которые Морозов взял себе. Второй пришел в себя, медленно поднялся с тротуара и, не желая связываться с таким опасным противником, молча вывернул карманы и покорно протянул свой пропуск на мебельную фабрику. Морозов положил его в карман и спросил:
— Где прописаны?
— Ордынка, пять, сорок седьмое отделение.
— Вот туда завтра и придете за документами. А теперь чтобы духу вашего здесь не было.
И незадачливые «ухажеры» без лишних слов удалились.
— Вот ведь ситуация, — с досадой сказал Борис, — приходится прощать такое хулиганье. Не до них сейчас.
— Все произошло так молниеносно, что я до сих пор не могу опомниться. Спасибо, что выручили. Теперь я ваша должница.
— Ну, не выдумывайте, я не хочу вас закабалять. Лучше расскажите, что случилось?
— Давайте сядем в машину, а то здесь как-то неуютно, — предложила она.
Они устроились на заднем сиденье.
— Вы не обиделись на меня за то, что я так себя вела на допросе?
— Нет, конечно.
— А я вот плохо спала и места себе сегодня не находила. Боялась, что вы подумаете, будто я охочусь за наследством Владислава.
— У меня и в мыслях такого не было.
— Спасибо. Если честно, я ведь на самом деле его очень уважаю. Он хороший, добрый, и живу я у него как-то по инерции, из уважения к нему, немного из жалости, немного из корысти. А теперь, после встречи с вами, и особенно после вчерашнего допроса, я по-иному взглянула на себя. Кто я? Как живу? И мне стало тоскливо и горько. — Она замолчала, глядя прямо в глаза Морозову.
— Ну что ж, откровенность за откровенность. Когда я увидел вас, я возмутился: такая молодая девушка, вместо того, чтобы полноценно жить, любить, иметь семью, детей, променяла все на роскошь, лень, безделье. Но вскоре случай помог мне познакомиться с вами ближе, и я увидел, что вы действительно запутались. Знаете, — Морозов усмехнулся и украдкой взглянул на застывшую рядом фигуру, — я даже интереса ради пытался представить супружескую жизнь с вами на одну только свою зарплату рядового труженика, которая, наверное, раза в три меньше, чем вы обычно шутя берете у Лаевского на карманные расходы.
Это было точно удар наотмашь: тонкие брови надломились, на глаза навернулись слезы, задрожали уголки губ.
— Ира, — тронул он ее за руку, — поверьте, я не хотел...
— Нет! — резко дернула она плечом. — Договаривайте! И вы, конечно, решили, что я бы извела вас своими претензиями? Да мне жить надоело, не могу больше! Брошу все и уйду, в чем пришла...
— А потом изведете этой жертвой своего супруга, даже если он и не услышит ни одного упрека в адрес своего безденежья! — в тон ей сказал Морозов.
— А вы так усердствуете, точно боитесь, что я посягаю на вашу свободу. И вообще все, о чем мы сейчас говорили, — это несерьезно.
— Жаль, а я говорил совершенно серьезно. Нельзя же всю жизнь быть при ком-то, надо и самой кем-то стать.
Несколько мгновений Ирина еще сидела рядом с ним (казалось, коснись — и током ударит), а потом быстро вышла из машины, бросив на ходу:
— В вас прямо-таки погибает школьный учитель. Вы и молодым-то, наверное, никогда не были. — И, не оборачиваясь, легкой походкой направилась в сторону особняка.
«Интересно, что же в ее понимании означает «быть молодым»? Бездельничать, прожигать жизнь, жить за чей-нибудь счет? — думал Борис. — Но ведь совсем недавно она говорила, что тяготится своей жизнью. Значит, она не безнадежна. И все-таки она сейчас по ту сторону. Пассивно, но своим бездействием соучаствует преступлению». Борис чувствовал, что обязан вырвать ее из особняка, помочь ей начать жизнь сначала.
11
Зима уже где-то совсем рядом. Все грязно, мокро. То дождь со снегом, то снег с дождем.
Борис вошел в свой кабинет. По полу гуляет сырой сквозняк, холодно, как на улице.
Ох уж эта тетя Тоня! Подметет с вечера и оставляет все помещения проветриваться до утра...
Он захлопнул форточку, потрогал радиатор отопления — горячий, сделал несколько приседаний — стало теплее. Зажег настольную лампу.
Он раскрыл первый альбом Подлунского с эскизами, набросками. На нем и под рисунками стояли даты десяти и девятилетней давности, по которым можно было судить, что автор только еще учился, с энтузиазмом брался за большие проблемы, за сложные композиции и, видимо, обладал хорошей фантазией и незаурядными способностями. Просмотрев еще несколько альбомов, Борис почувствовал — в Подлунском что-то ломалось. Работал он так же много, вроде плодотворно, но, видимо, не находил возможности по-новому, самобытно высказать то, что его волновало. Он делал много зарисовок, зачеркивал или просто не заканчивал их, снова искал и, не найдя, переходил к новым замыслам. И чем дальше смотрел Морозов на его труды, тем сильнее было ощущение, что перед ним живые свидетели становления и краха художника как личности. Здесь было все: и перепады настроений, и смены позиций, обольщения и разочарования. И где-то в шелухе случайного, в отходе от своей темы, в поисках модных, шаблонных линий крылась истинная причина отхода Подлунского от высокого искусства, таилась трагедия слабого, не сумевшего выпестовать свой талант человека.
В последнем альбоме внимание Морозова привлекли эскизы голов, сделанных карандашом в профиль и в фас. Видимо, автор искал сходства с оригиналом и, найдя его, нарисовал четко и ясно. Холодные, надменные глаза смотрели на Бориса.
«А что, если это и есть грабители? — подумал он. — Ведь те, по описанию Жуковой, тоже были один в шляпе, другой — в кепке».
Что-то знакомое было в этих лицах. Борис напряг память и вдруг чуть не вскрикнул от неожиданности: да ведь это же те самые хулиганы, которые навязывались в провожатые к Ирине! Но, по описанию свидетельницы Жуковой, один из грабителей был высокий, другой — пониже, а те, с которыми схватился Борис, были одного роста. И все-таки они очень похожи! Невероятно! А что, если Жуковой показалось, что один из грабителей поменьше? Ведь тот, кто нагнулся и вырывал портфель, был ближе к окну. Она смотрела сверху, и таким он ей запомнился. Так или иначе, нужно срочно заняться ими. Ему не терпелось показать Жуковой зарисовки. Если его предположение правильно, то дело можно считать почти завершенным; будут известны грабители, из-за которых все началось. Ну а найти, задержать и изобличить их — большого труда не составит.
Жукова была дома, и Морозов попросил ее прийти к нему.
«А вдруг она уже позабыла лица грабителей?» — с волнением думал Морозов, дожидаясь ее прихода.
По опыту он знал, что нередко сомнение, ложная жалость или просто боязнь мести удерживают некоторых свидетелей от объективных и правдивых показаний. Но, кажется, Мария Ильинична была не такой.
Жукова пришла довольно быстро. Морозов пригласил понятых и, соблюдая все формальности, вручил ей последний альбом Подлунского.
— Мария Ильинична, посмотрите, пожалуйста. Не найдете ли вы здесь знакомые лица?
Свидетельница внимательно перелистала все листы и задержалась на последней странице.
— Да, пожалуй, это они, — задумчиво произнесла Жукова. — Вот этот, в кепке, сильно похож на того, что пониже ростом, — и нос мясистый, и рот губастый.
— Спасибо, Мария Ильинична. Возможно, через несколько дней мы пригласим вас для их опознания.
12
Наступала та особая, напряженная пора завершения дела, которая требует величайшей собранности, предусмотрительности. Любая оплошность может дорого обойтись. Морозов мало спал, много работал и усталости не замечал. Козлов сегодня тоже пришел на два часа раньше.
— Вчера до вечера просидел в Управлении жилищного хозяйства, — доложил он Морозову. — Просмотрел почти все балансовые отчеты и наконец нашел, где загородная вилла Гришина.
— Очень хорошо! А сегодня тебе предстоит съездить на мебельный комбинат. Там работают Александр Жигарев и Федор Гладков, мои старые знакомые, я тебе о них рассказывал. У меня есть все основания предполагать, что это они ограбили Подлунского. Раздобудь их фотографии и попробуй осторожно узнать, в каких отношениях они с Рудиком Золотаревым, он работает там же.
— Все понял.
— И второе. На обратном пути заедешь в Министерство культуры, там заявление Лаевского с просьбой основать в его доме музей. Нам нужно проверить, действительно ли оно датировано следующим днем после официального допроса. Привези перечень картин, которые он отдает государству. По приблизительной оценке нашего эксперта, все переданные «шедевры» в основном не имеют большой исторической и художественно-эстетической ценности.
Вошла секретарь отдела и вручила пакет от дешифровщика.
Подлунский шифром собственного изобретения записывал названия произведений, фамилии авторов, покупателей, даты покупок и продаж. Последние тринадцать картин он достал с помощью Монетчикова. Это число действительно стало роковым. Почти все картины, а их насчитывалось около сорока, были проданы Лаевскому.
Морозов связался по телефону с Нарышкиным, сообщил ему это интересное известие и предложил провести допрос Лаевского.
— Пожалуй, самое время, — согласился Нарышкин. — Только сделаем так: приглашать его буду не я, а вы, и не по обычной схеме — повесткой на завтра, — а на машине немедленно. Я сейчас к вам приеду.
Морозов позвонил Лаевскому.
— Мое почтение, — сухо ответил Владислав Борисович. — Когда, наконец, оставите меня в покое?
— Нам необходимо встретиться с вами и переговорить. Я вышлю машину, сотрудник проводит вас к нам.
На какое-то время возникла пауза. Борис даже представил себе, как замер Владислав Борисович. Беззвучно шевелит губами, лихорадочно соображая, что кроется за этим приглашением.
— Хорошо, — раздраженно бросил Лаевский в трубку.
Через несколько минут Морозов и Нарышкин уже сидели вместе и обсуждали план допроса. Долго ждать им не пришлось. В кабинет постучали.
— Разрешите? К вам гражданин Лаевский, — доложил сотрудник.
— Пропустите.
— Добрый день! — любезно улыбаясь и сняв берет, приветствовал их Владислав Борисович.
— Прошу садиться, — сказал следователь и показал на стул.
Нарышкин молча стал заполнять протокол допроса.
— Скажите, пожалуйста, а что, убийца уже сознался в преступлении? — спросил его Лаевский.
— Да, но мы вас пригласили, чтобы поговорить о другом, — сказал Нарышкин, внимательно взглянув на него через сползшие на переносицу очки.
— Я — весь внимание.
— В каких отношениях Подлунский был с Монетчиковым?
— Я уже говорил вам в прошлый раз, что никакого Монетчикова я не знаю.
— Знакомы ли были Подлунский с Гришиным?
— Да, они раза два встречались у меня в гостях на каких-то торжествах.
— Восьмого октября, вечером, после ограбления, Подлунский пришел к вам. Что он рассказал по поводу этого случая?
— Ну, что он мог рассказать? Его избили, отобрали огромные ценности. Он вез их мне, то есть человеку, которому больше всего на свете хотел сделать приятное. Когда у него отнимали картины, он негодовал, когда били и оскорбляли — ненавидел. Затем допрашивали в милиции, это тоже все на нервах, но он держался. Наконец он попадает ко мне. Истерзанный, подавленный. У него хватило сил только на то, чтобы сообщить, как подгулявшие хулиганы лишили его всего, кроме жизни, уж лучше бы они отняли и ее. Я стал успокаивать его, и тут наступила разрядка... Вы извините, я слишком затянул...
— Продолжайте.
— Подлунский на самом деле был психически неуравновешен, а тут такое! Вы не представляете, каково мне было, старику, всю ночь уговаривать и утешать его. Слезы, истерики, валидол... Под утро он успокоился, я отправил его на такси домой. И только щадя его нервы, ведь я уже сказал, что он был психически неуравновешенным, я ничего не сообщил тогда Борису Петровичу.
Морозов и Нарышкин переглянулись: слишком уж настойчиво их подводили к мысли о психической неуравновешенности Подлунского.
— Что именно Подлунский рассказал вам о преступниках? Как получилось, что они поджидали именно его? Кто они? Как выглядели? — Вопросы звучали один за другим. Лаевский начал нервничать:
— Не знаю, мы с ним об этом не говорили. Да и зачем? Ведь картины не вернешь, что с возу упало, то пропало.
— Мы убеждены, что убийство Подлунского произошло в результате конфликта между ним и его соучастниками в деле приобретения картин преступным путем, — продолжал следователь. — Не могли бы вы помочь нам найти те тайные каналы и тех лиц, с которыми был связан Подлунский? Вы не спешите, подумайте. Может быть, вам удастся припомнить какие-нибудь нюансы, которые помогут нам напасть на след?
С минуту Лаевский задумчиво смотрел в окно, потом сказал:
— Помню, года три назад он часто встречался с каким-то Левоном из Армении. Но какие у него с ним были дела? Не знаю.
— Подлунский уже года три занимался реализацией похищенных Монетчиковым картин. Скажите, почему вдруг он решил отказаться от прежней клиентуры, если такая была, и предложил свои услуги вам?
Лаевский закусил губу, в глазах его мелькнула растерянность. Он помедлил и наконец сказал:
— Он не предлагал мне никакие такие услуги. Я ведь, кажется, говорил, что последние годы мы с ним редко встречались.
— Сколько всего картин продал вам Подлунский?
— Ни одной. В знак благодарности, как учителю, он когда-то подарил мне пять или семь обветшалых картин, не помню. Память, знаете ли... Да и зачем? Все они включены в опись произведений, подаренных государству. — Последнее было сказано с особым нажимом.
— Как часто вы бывали в гостях у Гришина? — спросил следователь.
— Раньше, лет десять назад, мы навещали друг друга довольно часто, но теперь если раз или два в году увидимся, то хорошо.
— Из первой беседы с вами мы поняли, что вы и Гришин, образно говоря, конкуренты, — подключился к допросу Морозов, — но непонятна одна деталь: почему его дочь помогает вам в приобретении через комиссионный магазин дорогостоящих картин?
— Да, я действительно просил ее звонить мне, если в продажу поступит определенная интересующая меня картина. За эту маленькую услугу дарил ей коробку конфет — она ведь сластена. Отцу, очевидно, шли от нее более ценные поступления. Но какое отношение это имеет к делу Подлунского?
— Косвенное, конечно, — пояснил Морозов. — Подлунский был связан с Гришиным, подробности их взаимоотношений мы пока не будем вам объяснять.
— Владислав Борисович, — продолжил Нарышкин, — мы уверены, что вы, как старый художник, как приватный эксперт в Министерстве культуры, как человек с богатым жизненным опытом и, наконец, как хороший знакомый вашего ученика и коллеги Гришина, не можете не знать способы всевозможных махинаций, которые применяют те, кто подделывает картины. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Мм... Стало быть, рассказать? А потом вы кого-нибудь арестуете? Мои друзья отвернутся от меня, и я на весь цивилизованный мир прослыву доносчиком. Нет уж, увольте.
— Владислав Борисович, получается некоторое несоответствие: вы, честный, порядочный и бескорыстный человек, миритесь с тем, как другой безнаказанно занимается мошенничеством, — сказал следователь. — В одной беседе с нами вы пытаетесь изобразить Гришина дельцом, в другой — выгораживаете. Может сложиться впечатление, что вы ведете себя непоследовательно, а ваш благородный поступок с передачей картин в собственность государству — это ход конем, чтобы сбить с толку следствие.
— При чем тут следствие! Просто не верится, что мой ученик, коллега... Впрочем, он всегда скрывал от меня свои отношения с Подлунским, — Лаевский стал заметно волноваться. — А может быть, я вообще в нем ошибался...
— Мы слушаем вас.
— Ладно, что ж поделаешь, — сказал Лаевский и, разгоняя дым от своей только что раскуренной сигареты, пододвинувшись поближе к столу, очень тихо стал рассказывать: — Всего существует менее десятка методов подделок картин. Гришин как-то говорил мне, что он признает только три из них. Когда ему удается приобрести репродукцию с малоизвестной картины именитого художника, выполненную учеником последнего, то он просто смывает подпись, подделывает автограф и выдает холст за оригинал, конечно, при условии, что картина не экспонировалась на выставках. Сбывал он такие подделки обычно своим богатым знакомым, а иногда даже и музеям, если знал, что подлинник утерян.
— А кому он продавал и что конкретно, вы не могли бы назвать?
— Ну что вы, это его самая большая тайна. Теперь второй метод:
разрезание полотна на две части с тем, чтобы получились две самостоятельные картины другого формата.
— Непонятно, зачем ему это нужно?
— Видите ли, этот метод применим чаще всего к пейзажам. Например, вы достали через Подлунского произведение какого-нибудь известного автора, ну, скажем, «Утро в горах». Картина числится в каталогах, и со временем пропажу могут найти. Тогда Гришин меняет формат, разрезает полотно и «создает» две картины — «Восход солнца над Саянами» и «Косогор». Затем ставит в углу одной из них (на другой она уже есть) подпись знаменитого пейзажиста и получает два новых шедевра. Ну а как втереть очки и продать — этого умения Гришину не занимать.
«Очень важно выяснить, случайные или подлинные названия он дает? Опять он подсказывает, какие именно картины надо искать», — отметил про себя Морозов и спросил:
— А зачем ему нужно менять форматы и названия картин?
— Чтобы замести следы, потому что в каталогах кроме фамилий авторов и всего прочего картины регистрируются и по размерам. Ведь ни у кого, кроме как у Васнецова, вы не встретите картину «Три богатыря». Если увидите «Корабельную рощу», то автором ее обязательно окажется Шишкин. Но в каталогах учитываются только те произведения классиков, которые демонстрировались на выставках. Но ведь у непризнанных тоже бывают талантливые работы. И вот, скажем, Гришину удалось найти одну такую под названием «Пурга», он немного ее подправит, поставит в нижнем углу подпись «Ф. А. Васильев» или «Куинджи», назовет соответственно «Метель» или «Поземка», подгонит под формат и выдаст за одну из ранних затерянных работ маститого художника. Это третий метод подделки. И нужно быть очень крупным специалистом в области живописи, чтобы докопаться до истины.
«Очень откровенные подсказки», — снова отметил про себя Морозов и быстро записал названия холстов и фамилии авторов.
— Неужели в наше время есть еще картины известных художников, которые не учтены в каталогах? — спросил Нарышкин.
— Господи, да сколько угодно! Возьмите, к примеру, Верещагина, ведь он писал свои произведения в действующей армии, на полях сражений, за тысячи верст от родного дома и отсылал свои зарисовки на родину с интендантскими обозами, с разными оказиями. Естественно, что он потом недосчитался множества своих работ. А сколько ценнейших картин, как говорится, «пропали без вести», гуляют по свету, разбросанные войнами?
— Как вы считаете, — обратился Морозов к Лаевскому, — бывают такие случаи, когда картины знаменитых художников прошлых столетий, таких, как Репин, Иванов, Васнецов, Верещагин и другие, от наследников или от кого-то еще попадают в комиссионный магазин?
— Таких случаев сколько угодно!
— А наша ревизия показала, что за очень редким исключением на протяжении последних лет магазин оценивал и скупал полотна по очень низким ценам. Произведения великих мастеров называли подделками, ставили под сомнение работы известных авторов, считая их неизвестными, и предлагали за них две-три сотни рублей.
— Да, к сожалению, магазин при теперешнем своем штате не в состоянии проводить экспертизу, — вздохнул Лаевский.
— А следовательно, и нести ответственность за оценку? Ловкая отговорка. А какой еще метод подделки?
— Можно подешевле купить старый-престарый холст с какой-нибудь зарисовкой неизвестного любителя и смыть краску. Здесь для экспертизы важен возраст холста. Затем умелой рукой можно написать на нем любую репродукцию или экспромт и выдать за подлинник классика, но этот путь слишком трудоемкий, и Гришин им не занимается. Вот и все.
— Очень хорошо, — сказал Борис. — У нас к вам большая просьба: опишите, пожалуйста, подробно все методы подделок Гришина. Для нас это будет справочным материалом. Последнее — о нашей беседе никто не должен знать: ни ваши знакомые, ни родственники, ни тем более Гришин.
— Обещаю.
Допрос решили на этом закончить.
Морозов отпустил Лаевского, проводил Нарышкина и вернулся к себе в кабинет.
Прошло около часа. Борис изучал показания. Вдруг раздался телефонный звонок.
— Борис Петрович, это Рогов, мне очень нужно с вами переговорить, я здесь у вас, в бюро пропусков.
Морозов заказал пропуск. Приход Рогова выглядел несколько неожиданным. Почему он приехал без звонка?
Рогов вошел в кабинет и опустился на стул с таким измученно-вопросительным выражением лица, словно не он, а Морозов собирался сообщить ему нечто важное.
— Добрый день, Борис Петрович. Меня привело к вам чувство долга. После нашей с вами беседы я не мог понять, зачем вы вызывали меня? Не хочу пересказывать всего, что пришлось передумать за эти дни, но ваше недавнее посещение моего учителя, Владислава Борисовича, подсказало мне, что вы в чем-то подозреваете его. Правильно?
— Можно подумать, что вы пришли взять у меня интервью.
— О, простите, вы не так меня поняли. Дело в том, что после беседы с вами я ко всему стал внимательно присматриваться. Извините за откровенность, мне, право, очень неудобно, но я подслушал ваш допрос Лаевского, когда вы были в особняке.
— Как это получилось?
— Случайно, через приоткрытую дверь. Я видел, когда вы в прошлый понедельник пришли к нему. Мне так хотелось узнать, в чем дело! Я потихоньку вошел в соседнюю с кабинетом комнату и слышал весь ваш разговор с Владиславом Борисовичем. Делайте со мной что хотите, но я теперь в курсе событий.
— Неужели было так хорошо слышно?
— Просто я приложил к стене кружку, прижался к ней ухом... Уверяю, очень хороший способ, проверен еще с детства. А когда вы стали предупреждать Владислава Борисовича о неразглашении, я понял, что беседа заканчивается, и быстро ушел в мастерскую.
— Хорошо, что вы признались, но все это сильно осложняет положение... Вы хотели нам что-то сообщить?
В кабинет заглянул Козлов. Морозов жестом пригласил его присутствовать.
— Да. Мне кажется, что вы идете по неверному пути. Видите ли, Лаевский по своей сути очень хороший, очень добрый и благородный человек, — начал рассказывать Рогов, мельком взглянув на вошедшего. — В его особняке никогда не запираются комнаты. Я не сын его, даже не родственник, а чувствую себя там как дома, мы вместе обедаем. Но это детали.
— Если я не ошибаюсь, вы пришли сюда, движимый желанием расхвалить своего учителя и рассеять все наши подозрения?
— Да, но я не все сказал.
— Главное — суть...
— Вот именно. Понимаете, Владислав Борисович так воспитан, что ни за что не донесет на своего коллегу. После вашего ухода из особняка он долго ходил из угла в угол в своем кабинете. Затем зашел ко мне в мастерскую, посмотрел на мою работу отсутствующим взглядом и, ни слова не сказав, начал бродить по студии. Такого я еще за ним никогда не замечал.
— И что же дальше?
— Наконец он на что-то решился и пошел в свой кабинет. Я услышал звонки в параллельном аппарате, что стоит в студии, и, пренебрегая всеми нормами этики, снял параллельную трубку. Таким образом я оказался незримым свидетелем интересного разговора.
Рогов взглянул на Козлова и, немного помолчав, продолжал:
— Владислав Борисович, видимо, заподозрил, что ограбление Подлунского — дело рук Рудика Золотарева, и решил проверить, как будет реагировать его тесть, то есть сам Гришин.
— Это интересно! — сказал Морозов, обменявшись с Геннадием одним им понятными взглядами — начинается главное.
— Вы знаете, во время этого разговора я восхищался артистическими способностями моего учителя. Не хочу пересказывать вам содержание диалога с Гришиным, у меня все равно не получится так красиво, просто и, я бы сказал, ловко.
Морозов слушал Рогова и старался понять, сам или по просьбе Лаевского он пришел к нему.
— Короче говоря, — продолжал тот, — Владислав Борисович сообщил Гришину, что их общий знакомый, Подлунский, убит. Гришин страшно испугался! Понимаете, он не сожалел, не скорбел, а просто испугался. Владислав Борисович еще подбавил страху, сказал, что к нему уже приходили из прокуратуры и милиции. Потом Владислав Борисович вдруг неожиданно спросил, где был его зять вечером восьмого октября. Гришин даже заикаться начал, ответил, что не помнит, и, запинаясь, стал спрашивать: «Надеюсь, вы не выдали им, что я некоторым образом тоже немного был знаком с Подлунским?» Владислав Борисович по-дружески успокоил его. И снова, как бы между прочим, сказал, что уголовный розыск наверняка скоро навестит Гришина, ведь в записной книжке Подлунского есть его адрес и телефон.
— А откуда ему это известно?
— Я не знаю. Вы не представляете, что тут было! Бедного Анатолия Прокофьевича чуть кондрашка не хватила. «Это вы, вы их надоумили!» — закричал он. Но Владислав Борисович опять успокоил его. Он говорил, что в такое время надо держаться собранно, спокойно. Гришин поддакивал, соглашался, и, что самое странное, когда Владислав Борисович посоветовал ему помочь зятю придумать алиби, Гришин в тон ему сказал: «Да, да, обязательно», а потом вдруг опомнился и стал оправдываться, говорить, что все это ни к чему, и повесил трубку.
— Спасибо за информацию, Модест Матвеевич, мы постараемся учесть и проверить ваши предположения.
— Я весьма признателен вам за внимательное отношение. Искренне буду рад, если хоть чем-нибудь сумел вам помочь.
— До свидания, всего хорошего! — пожелал Морозов и проводил Рогова до двери. — Если соскучитесь, телефон знаете, буду рад поговорить с вами. Всего наилучшего... Как тебе нравится эта новость? — спросил Борис Козлова, проводив гостя.
— Засуетились реставраторы... Но действуют оперативно.
— Лаевский наверняка давно хочет избавиться от такого сильного конкурента, как Гришин, — задумчиво произнес Морозов. — Сначала он намекал нам, где и что искать, но мы все это вроде как-то пропустили мимо ушей. А сегодня, когда мы его вызвали на допрос, он, видимо, решил действовать напрямую и выдать властям своего соперника с помощью Рогова. Этим маневром Лаевский пытается убить двух зайцев: избавиться от конкурента и направить наши силы на Гришина, чтобы отвести удар от себя. Но ему неизвестно, что у нас в руках шифр Подлунского...
13
Несмотря на все старания Клары Ильиничны, завтрак не понравился Анатолию Прокофьевичу: салат показался несвежим, хотя он только что был приготовлен; жаркое — недосоленным и даже бутерброды с икрой и семгой, к которым он не имел претензий, не вызывали у него аппетита и остались нетронутыми.
— Спасибо. Я пошел трудиться, — сказал он, выходя из-за стола.
— Господи, да что с тобой происходит?! Или я разучилась готовить? Да ни в одном ресторане так вкусно...
Но Гришин уже не слышал слов супруги. Он захлопнул дверь квартиры, пересек лестничную площадку и пошел в свою мастерскую. Здесь он раздвинул шторы и сел к окну.
С тех пор как Лаевский сообщил об убийстве Подлунского, Анатолий Прокофьевич словно лишился чего-то главного, на чем основывалась его обычная самоуверенность. И как ни пытался он взять себя в руки, восстановить прежний ритм жизни, ничего не получалось: пропали сон и аппетит, мучили предутренние кошмары, появились нервозность, апатия.
На лестнице послышались легкие шаги. Гришину показалось, что кто-то подошел и остановился у двери с той стороны. Он моментально на цыпочках подкрался к ней и прислушался. Все было тихо. Прошло немного времени, и вдруг ему почудилось, что он слышит дыхание человека, стоящего на лестничной площадке. Гришин осторожно подошел к телефону и позвонил к себе в квартиру.
— Клара, немедленно зайди в мастерскую, — зашептал он.
— Толик, что с тобой?! Что случилось?
— Ну, быстро!
Он снова подкрался к двери, с силой распахнул ее и чуть не ударил собственную жену.
— Что произошло?
Вместо ответа он шагнул на площадку, подошел к лестнице, посмотрел вверх, вниз, прислушался, обернулся, встретил недоуменный взгляд жены.
— Ты никого не видела? — спросил Гришин, закрыв за собой дверь мастерской. — Мне показалось, что за мной следят, кто-то стоял там и подслушивал.
— А, перестань, как можно подслушивать, если ты один? Ты что, сам с собой теперь разговариваешь? Нельзя так много работать. Ты переутомился. Тебе надо отдохнуть, развеяться. Пойдем прогуляемся.
— Господи! До чего ты беззаботна! Никогда нельзя всем уходить из дому, тем более сейчас, после этого загадочного убийства Подлунского. Ради таких ценностей, как у нас, они пойдут на все.
Клара ушла в квартиру, а Анатолий Прокофьевич остался в мастерской. Но успокоиться он не мог весь день.
Наступил вечер. Первым пришел домой Рудик. Обычно он возвращался значительно позже, и разница была лишь в степени опьянения, но сегодня он был трезв, возбужден, и это обстоятельство снова заставило Гришина насторожиться.
— Что-то ты рано. У тебя всё в порядке? — спросил он зятя.
— Если бы всё...
— Что-нибудь случилось?
— Куда-то деньги задевались, наверное, кто-то стащил.
— Несчастный. Поменьше в рюмочку будешь заглядывать.
— А я ведь и из горлышка умею, Анатолий Прокофьевич. Что-то вы стали придираться ко мне по пустякам. А напрасно. Нас ведь сам черт связал веревочкой.
— Мне жаль тебя. Если ты будешь и впредь якшаться со своими дружками-алкоголиками, это плохо кончится. Как тебе не противно смотреть на эти морды уголовников? Я на твоем месте давно избавился бы от таких приятелей. Иначе: «Встать! Суд идет!» Тебе этого хочется?
— Бог не выдаст, свинья не съест, — беспечно отозвался Рудик, прислушиваясь к ароматам из кухни. — А от свининки я не откажусь.
Хлопнула входная дверь.
— О чем шумите, мальчики? — снимая шапочку и модный импортный плащ, кокетливо спросила Вероника. — Какие вы все серьезные! Хотелось похвастаться, а вы сидите как оштрафованные, даже неинтересно.
— Ну, разряди обстановку, — попросил Рудик.
— Слушайте, — торжественно произнесла Вероника. — Позавчера у нас в магазине произошел инцидент, международный скандал. Один иностранец решил купить роскошную статуэтку какого-то знаменитого мастера. Пока он смотрел ее, другой гражданин быстро сориентировался, выбил чек и, как только иностранец выпустил ее из руки, чтобы заплатить в кассу, купил эту безделушку. «Импортный» поднял скандал, я вышла уладить дело, пригласила его в кабинет. Мы беседовали с ним минут двадцать — милейший человек! Я предложила ему кое-что, он пришел в восторг, потом сказал: «За хороший гешефт я будет давать хороший презент». У них в посольстве, оказывается, в среду выходной день, и он обещал звонить мне раз в неделю. А вот и первый его «презент».
Она вышла в прихожую и вернулась в светло-коричневой дубленке на белом меху, повертелась и застыла, наблюдая, какое впечатление она производит.
Гришин молчал. Его глаза, глядевшие на Веронику, стали вдруг пустыми, лицо побледнело. Беззвучно шевеля губами, он жестом попросил принести ему воды.
— Что с тобой, папочка?
Несколько секунд Гришин молча смотрел в одну точку на стене, потом перевел взгляд на зятя, на дочь и тихо произнес:
— Дубина! Ты что, смерти моей хочешь! Госбезопасности на тебя не хватает? С иностранцем связалась. Ты что, в игрушки играешь?.. В следующую среду познакомишь его со мной, и чтобы больше никаких звонков и встреч с ним! За что он подарил тебе дубленку?
— Один пьяный старикашка привез на продажу фамильный сервиз князя Львова на двадцать четыре персоны.
— Вот и думай теперь, что ты умная!
Гришин встал, махнул рукой и пошел в свою комнату.
14
Рабочий день закончился. Жигарев и Гладков, старые закадычные друзья, направились домой вместе, Рудик Золотарев последнее время стал избегать их чересчур шумную компанию. За проходной они прикинули свои возможности: на четыре кружки пива хватало, и они решили отправиться в излюбленную «стекляшку». Как хозяева улицы, вразвалку, задевая прохожих, шагали они своим знакомым маршрутом.
Впереди остановился микроавтобус, из него выходили люди. Их бы растолкать да обозвать, чтобы не мешались на дороге, но те все сами молодые и здоровые.
— Жигарев и Гладков, — буднично сказал один из них, и те вздрогнули от неожиданности. — Уголовный розыск, вы арестованы, прошу в машину.
Бежать или сопротивляться было поздно, да и бесполезно. Сильные руки умерили строптивость ребят, и те сели на предложенные места.
Машина моментально сорвалась с места и, набирая скорость, помчалась по направлению к центру.
— Вам запрещается переговариваться или подавать друг другу какие-либо знаки, — сказал Козлов, предъявляя свое удостоверение.
Вскоре микроавтобус въехал в ворота Управления внутренних дел.
Задержанных развели по камерам-одиночкам. Часа через два на допрос к Нарышкину был доставлен Жигарев. Глаза его были красными. «Ну, с этим долго возиться не придется» — отметил про себя Нарышкин, разбирая бумаги.
— За что вы меня?
— Гражданин Жигарев, вы обвиняетесь в групповом ограблении гражданина Подлунского, совершенном восьмого октября в двадцать два часа. Вы узнаете этого человека?
Следователь протянул Жигареву несколько фотографий Подлунского, взятых из альбома убитого.
— Нет! — резко ответил Жигарев.
— Советую не торопиться с ответами. Ложные показания только усугубят вину. А теперь взгляните на эти снимки. Они сделаны экспертом-криминалистом через пять дней после ограбления.
Нарышкин положил перед задержанным несколько фотографий трупа Подлунского.
Жигарев взглянул на них, сразу побледнел и, как бы ожидая удара, немного втянул голову в плечи.
— Вы что?.. Зачем вы все это мне показываете?! — испуганно спросил он.
— Чтобы вы поняли, как далеко зашли ваши сообщники. Упорствовать и покрывать их — значит быть заодно. Итак, второй вопрос. Назовите имя человека, который предложил вам ограбить Подлунского.
— Я ничего не знаю.
— Тем хуже для вас. Начнем по порядку. Где вы были восьмого октября вечером?
— Не помню.
— Учтите, это третий вопрос, на который вы не решаетесь дать ответ. Ваша вина бесспорна. У нас имеются свидетельские показания граждан, под окнами которых вы ограбили Подлунского.
Нарышкин снял трубку и попросил сотрудников зайти к нему. Вошли четверо в штатском и встали вдоль стены. Следователь предложил Жигареву занять любое место среди присутствующих, затем пригласил понятых и Жукову. Разъяснив ее обязанности и предупредив об ответственности, он предложил ей указать человека, который участвовал в ограблении.
Жигарев замер.
Жукова молча оглядела всех и остановила свой взгляд на нем. Он побледнел.
— Да вот он, и фуражка его. Это тот, кто отнимал вещи.
— Спасибо, Мария Ильинична, распишитесь, пожалуйста, в протоколе. Товарищи, и вы тоже, — обратился он к понятым.
Когда процедура опознания была закончена, сотрудники, свидетельница и понятые ушли, Нарышкин продолжал допрос:
— Теперь вы признаете себя виновным?
Жигарев молча отвернулся. Он все еще стоял в той неестественной, вытянутой позе, в которой застал его взгляд свидетельницы.
— Есть и другие улики, — продолжал следователь, — вы не учли, что покойник был художником и сразу после ограбления очень точно запечатлел ваши лица в своем альбоме. Об этом свидетельствует и дата под его рисунками. Как видите, для того чтобы передать дело в суд, есть все основания. Но мой долг предложить вам возможность облегчить свою участь, я хочу услышать от вас фамилию, имя и отчество человека, который толкнул вас на преступление. Имейте в виду, что это признание больше пригодится вам, чем нам.
Жигарев пожал плечами и сказал:
— Мне как-то все равно.
— Ну, если вы такой отчаянный, будем заканчивать. И поверьте на слово, если завтра вы решитесь рассказать правду, будет уже поздно. Прочтите и распишитесь.
Жигарев молча уставился на придвинутый Нарышкиным лист бумаги, где были записаны его слова. И оттого, что теперь они как бы принадлежали не ему и могли сыграть в его судьбе роковую роль, Жигареву стало страшно. Он даже инстинктивно потянулся к этому листу, словно желая его схватить, уничтожить, но, сообразив, где находится, обмяк всем телом и глубже осел на стуле.
— Наивно считать, что кто-то из ваших соучастников останется на свободе и будет аккуратно возить вам передачи. Завтра же доставим сюда остальных. Вы боитесь их мести?
— Никого я не боюсь. Ладно, пишите, — Жигарев помедлил и, не поднимая головы, стал рассказывать: — Восьмого октября, вечером, это было воскресенье, мне позвонил по телефону Рудик Золотарев и пригласил нас с Гладковым в шашлычную за свой счет. Ну, мы — всегда пожалуйста. Выпили прилично, потом он и говорит: «Один хмырь женился на моей знакомой, обобрал до нитки и отвалил. Теперь подкатывается к сестре. Сегодня вечером он должен привезти ей картину». И Рудик стал просить нас набить ему морду и отобрать футляр. За это он пообещал нам по пять красненьких. Посоветовал еще снять с него пиджак, так как этот хлюст всегда при деньгах, в милицию не заявит, потому что картина, говорит, ворованная.
— Что было дальше?
— Приехали мы втроем в Козловский, зашли в какой-то подъезд и стали ждать. Замерзли, хотели уж уходить, как вдруг Рудик увидел его и показал нам. Мы догнали этого жулика, ну а остальное вы знаете. Вот и все.
Нарышкин вызвал конвой и отправил арестованного в камеру.
Допрос Гладкова ничего нового не дал, но подтвердил показания Жигарева. Пока все шло по плану.
* * *
Наступил второй день операции.
Этим утром в квартире Гришиных первым, как обычно, встал Рудик. Покончив с завтраком, он осторожно тронул Веронику за плечо:
— Никочка, проснись, открой глазки.
— Ну что тебе?
— Дай рублей десять.
— У тебя своих денег больше чем нужно.
— Понимаешь, так получилось... Одним словом, я их проиграл.
— Как! — Вероника моментально вскочила. — Три тысячи!
— Не пыли, легко достались, легко и расстались. Мне нужно расплатиться с друзьями, я брал в долг.
— Ничего, перебьются, меньше пить будут.
Он смотрел, как она нежится под мохеровым одеялом, и злился. В этом доме у всех, кроме него, есть деньги, и каждый, кроме него, имеет свой сейф и свою сберкнижку.
— Никочка, пойми, я же слово дал, что верну долг сегодня.
— Вернешь в получку, дай поспать!
— Черт возьми, у всех жены как жены, а я даже завтрак сам себе должен готовить!
— Слушай, Рудик, ты мне надоел, как осенняя муха. Жужжишь, жужжишь, все равно ведь бесполезно.
— Ну вот, уже двадцать пять девятого, теперь придется ехать на моторе.
Она взглянула на часы и сказала:
— Сам виноват.
— Ладно, выгонят с работы, отосплюсь за твой счет... Ну, дай хоть на такси, опаздываю, — энергично попросил Рудик.
Вероника сунула ему пять рублей и уткнулась в подушку.
На улице было зябко, пасмурно, но в кармане хрустела пятерка — на бутылку хватит.
Завернув за угол, он встретился с двумя рослыми мужчинами.
— Золотарев Рудольф Кириллович? — спросил один из них.
— Никакой я не Рудольф Кириллович. Вы кто? Что вам нужно?
— Жаль, вы на него очень похожи. Придется доставить вас в отделение для выяснения личности. Уголовный розыск. Прошу в машину.
И тут же рядом с ним остановилась «Волга», дверца открылась.
— Это произвол, вы пожалеете! — закричал Золотарев, садясь в машину. Потом, поняв, что сопротивление бесполезно, деланно-вежливо спросил: — Может быть, вы все же объясните, что происходит?
— С арестованными разговаривать запрещено.
Эти слова сразили его, слезы жалости к самому себе навернулись на глаза.
Минут через двадцать после ареста Золотарев был помещен в камеру предварительного заключения. Голые дощатые нары, маленькое окошко за решеткой и резкий запах карболки. Он сел на нары и тупо уставился в стену. Вдруг ему стало мерещиться, что из темного угла злорадно усмехается тесть: ну, допрыгался?
— А, поди ты... — он длинно, зло выругался и откинулся на спину.
* * *
Директор комиссионного магазина уже около месяца был болен. Его заместитель Золотарева быстро освоилась с обязанностями руководителя. Ей очень нравилось чувствовать себя опытным физиономистом, психологом. Она играла всегда: и когда перед ней появлялся солидный мужчина, принесший на комиссию тяжеленную картину, и когда какая-нибудь старушка предлагала на продажу невзрачную акварель.
«Такова жизнь», — любила говорить она себе, обманув очередную жертву.
До открытия магазина оставалось несколько минут. Вероника уже причесалась и надела свой изящный халатик. В дверь кто-то постучал, вошли сразу двое.
— Вероника Анатольевна Золотарева? — спросил один из них.
— Да, в чем дело?
— Уголовный розыск. Вы арестованы, вот санкция прокурора.
— Ну что вы, — попыталась улыбнуться она, — здесь явное недоразумение.
— Собирайтесь.
— Я же исполняю обязанности директора, мне надо сообщить руководству.
— Это пожалуйста.
Она набрала номер телефона.
— Папа, у меня просьба, в десять часов позвони в торг, передай, что меня арестовали.
...Гришин давно был готов ко всяким неожиданностям. Но это сообщение словно парализовало его, ноги стали как ватные, сердце сжалось, затрепетало.
«Да что же это со мной? — с ужасом подумал Гришин. — Дорога каждая секунда, а я...»
Он пошарил дрожащей рукой в кармане и бросил под язык сразу две таблетки валидола.
* * *
Морозов и Козлов сидели в одной из двух оперативных машин недалеко от дома Гришина — ждали команду с поста наблюдения.
— Что-то Гришин время тянет, — нарушив молчание, сказал Морозов.
— А если среди соседей у него есть единомышленники или сообщники, о которых мы не подозреваем? — размышляя вслух, произнес кинолог. — Гришин сейчас перетаскивает к ним свои ценности, а мы сидим здесь как глупенькие и чего-то ждем?
По рации сообщили, что Гришин вынес чемодан, футляр и сел в машину. Затем выехал со двора и помчался в сторону Ленинградского шоссе. Отпустив его на некоторое расстояние, Морозов дал команду следовать за ним.
Гришин свернул на кольцевую дорогу. Вот он затормозил недалеко от указателя «На Дмитров» и стал ждать.
Морозов издали наблюдал в бинокль за поведением Гришина и не торопился. Наконец тот снова поехал по кольцевой дороге. Этого и следовало ожидать, уж слишком он был осторожен, чтобы удовлетвориться такой простенькой проверкой. У следующего удобного перекрестка он на большой скорости влетел по виражу на мост и остановился, изучая дорожную обстановку. Было ясно, что Гришин повернет обратно и помчится к Дмитровскому шоссе. Видимо, он держит путь на дачу и нервничает. Морозов видел машину Гришина на мосту и решил перехитрить его: спустившись в низину, они пересекли разделительную зеленую полосу дороги, незаметно свернули в лес и стали ждать. Через несколько минут Гришин на огромной скорости промчался мимо.
Теперь за ним снова ехала «Волга» Морозова. Вскоре все увидели, что их подопечный действительно свернул на Дмитровское шоссе.
Он выжимал из своей машины все возможное, только шины визжали на поворотах. Через полчаса гонка кончилась.
В динамике прозвучало сообщение из первой машины, что Гришин встал у поворота к своему дому.
Морозов приказал всем остановиться. Дорога в поселок была без покрытия, и на разбухшей от дождей почве легко можно будет определить, куда ведет след от машины — на дачу или в лес. Морозов и Козлов пешком пошли по следу. Когда они приблизились к забору участка Гришина, тот уже спускался с террасы. Морозов взглянул на часы и тихо сказал:
— Он здесь всего одиннадцать минут. Неужели за это время успел заглянуть в тайник?
— Не исключено.
Они неторопливо подошли к калитке.
Гришин сел в машину и стал подруливать по участку к воротам. Он видел, как вдоль забора в его сторону не спеша шли два человека. Вот они открыли его калитку. Предчувствие катастрофы охватило Гришина.
— Что вам здесь нужно?
Борис подошел к машине, заглянул в нее и буднично ответил:
— Прошу заглушить двигатель.
— Да кто вы такой? — взвизгнул Гришин. Он окончательно потерял самообладание: щеки тряслись, глаза остекленели от ненависти и страха.
— Старший инспектор уголовного розыска Морозов, — и он предъявил удостоверение личности.
Немного нагнув голову, обращаясь к своим невидимым помощникам, Борис поднес к губам микрофон и скомандовал:
— Нахожусь на территории дачи, все ко мне.
— Бандиты!!! — не помня себя закричал Гришин и нажал на педаль газа. «Волга» уперлась в добротно сделанные ворота и забуксовала на мокром грунте. Секунду-другую она месила грязь, потом рванулась назад и с разбегу вышибла ворота, разворотив столбы, помяв облицовку и капот. Навстречу, загородив дорогу, уже спешили две автомашины. Гришину пришлось затормозить, он выскочил из кабины и, замахав руками, стал просить о помощи и защите от бандитов.
— Гражданин Гришин, кончайте комедию, прошу следовать за нами.
Хозяин дачи нехотя вернулся обратно на участок.
— Нам необходимо произвести у вас обыск, — обратился к нему Морозов, — и изъять ценности, нажитые преступным путем. Вам предлагается добровольно, до решения суда, передать их в руки государства. Вот санкция прокурора.
— Да что вы, с ума сошли?
— В таком случае, не будем терять времени даром. Приступайте, — обратился Морозов к собаководу.
Проводник дал собаке понюхать одежду Гришина и повел ее к дому.
Вскоре один из сотрудников привел понятых, сторожа и коменданта поселка.
Морозов бегло осмотрел все шесть комнат дачи, две террасы, кухню и санузел.
— Скажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали сюда? — спросил он хозяина дома.
— Это мое личное дело.
— Вы сегодня спускались в погреб?
— Да. Я привез и поставил туда банку с олифой — в погребе всегда постоянная температура, и она не испортится.
— Ясно, но, конечно, не только ради этого пустякового дела вы неслись сюда со скоростью свыше ста километров в час?
— Разумеется, но это опять же вас не касается.
— А куда вы дели вещи, которые погрузили в Москве в машину?
Гришин на мгновение растерялся, затем, что-то прикинув в уме, усмехнулся:
— Мне неудобно говорить об этом.
— И все же?
— Право, как-то неловко... Одним словом, у меня привычка: избавляться от хлама таким неэтичным способом — выбрасываю по дороге в кювет или в речку. Так и сегодня я поступил со своим старым чемоданом, а футляр, пойдемте в другую комнату, я вам покажу, он пустой.
— Давайте лучше взглянем на банку с олифой, которую вы сегодня привезли.
— Сделайте одолжение.
Они вошли в бревенчатый сарай, зажгли свет и спустились в люк. Погреб представлял собой добротное кирпичное сооружение с железобетонным перекрытием площадью примерно десять квадратных метров и около трех метров глубиной. По одной стене в три ряда стояли аккуратные полки, на них — разные банки из-под красок. Пол цементный, на потолке плафон с яркой лампочкой. Видно было, что хозяин не скупился.
— Лезьте сами, мне там делать нечего, — сказал Гришин.
Борис осмотрел погреб. По контуру пыли на полке и на банках было ясно, что они стоят здесь давно.
Вышли на воздух. Гришин хотел повесить замок, но Морозов попросил его погреб не запирать, тем более что ценных вещей там никаких нет.
— Просто люблю порядок.
— Нам надо металлоискателем и еще кое-какой аппаратурой проверить ваш погреб, — пояснил Морозов.
— A-а, пожалуйста. Только побыстрее, у жены больное сердце, и долго задерживаться я не могу.
— Именно поэтому вы так долго кружили по дорогам, экономили время?
Гришин ничего не ответил и зашагал по направлению к дому.
Морозов руководил обыском, давал указания, где посмотреть, на что обратить внимание.
Время шло. Сотрудники последовательно прошли все помещения дачи, но найти ничего не удавалось. В одной из комнат паркет был щитовой. Это показалось Морозову подозрительным, и он приказал вскрыть пол в углу. Услышав об этом, Гришин даже задохнулся от возмущения, опередил всех и встал на это место.
— Я не допущу произвола! Вы все готовы разрушить, только потом виновных не найдешь.
— Гражданин Гришин, свои действия я оговариваю в протоколе, а копия будет у вас.
Из подвала вместе с понятым пришел Козлов и вполголоса доложил:
— Стены и перекрытия — бетон-монолит. Внешне осмотрели, а металлоискатель не берет, арматура мешает.
— Какая жалость, — иронически произнес Гришин.
— Анатолий Прокофьевич, советую вам оставить этот тон.
— Вы вот что, Морозов, кончайте мудрствовать от лукавого, пора и честь знать. Копаетесь уже пятый час, весь дом перевернули, клумбы и те исковыряли. Имейте в виду, я этого так не оставлю. Вы мне за все ответите!
Он помял папироску, закурил, вытер платком пот, сел.
«Ничего, — думал Морозов, наблюдая за ним, — расслабляйся, скоро финал».
Он кивнул Козлову, тот ушел. Через несколько минут с улицы послышался его громкий голос:
— Здесь!
Гришин оказался у окна, быстро взглянул на погреб, потом поймал на себе внимательный взгляд Морозова и сказал:
— Борис Петрович, мне надоело ваше самоуправство. Я решительно заявляю свой протест на продолжение обыска. У меня жена при смерти, поймите вы это, наконец! Ей нельзя волноваться, вы же убьете ее.
— Если ваша жена при смерти, зачем вы оставили ее одну?
— Убирайтесь вон! — закричал Гришин вне себя от ярости. — Это убийство!
— Не надо так шуметь... Нам осталось еще осмотреть погреб, пройдемте туда.
— Я в дурацкие игры не играю. Разрешаю вам заниматься ими без меня!.. Господи, да будьте вы благоразумны! — он патетически воздел руки к небу и снова обратился к Морозову: — Вы же нормальные, симпатичные люди, а копаетесь в грязи, в подвалах, на помойке, перемазались, извозились, словно черти. Неужели вам не противно?
Морозов пожал плечами и вышел на улицу. Вернулся он минут через десять.
— Внимание, товарищи, обыск здесь можно прекратить, понятых и вас, Анатолий Прокофьевич, прошу со мной.
Затем, обратившись к одному из сотрудников, тихо попросил его приготовить нашатырный спирт.
Гришин скорее догадался, чем расслышал слова Морозова. Его словно взорвало.
— Гады!.. Ненавижу!.. — прохрипел он. — Не нуждаюсь я в вашей помощи!
И, расталкивая присутствующих, он устремился к погребу. За ним, не отставая, шли Морозов, понятые, сотрудники. Влетев в сарай, он увидел, что все вещи переставлены. Быстро нагнувшись и заглянув в погреб, бросив взгляд на сотрудника с наушниками и металлоискателем в руках. Затем резко повернулся назад и, зло глядя на Морозова, выкрикнул:
— Ну, где же ваше золото или что там вы мне хотели подсунуть? Давайте, провокаторы несчастные!.. — схватившись рукой за грудь, он пошатнулся, два сотрудника взяли его под руки и вывели на свежий воздух.
— В какое место он посмотрел, когда открыл дверь в сарай? — спросил Борис оперработника, который специально следил за взглядом Гришина.
— Вот сюда, на пол, чуть правее люка.
— Отбросьте этот хлам и разгребите опилки на этом месте, — попросил Морозов.
Другой сотрудник сказал, что Гришин оглядел правую стенку погреба.
— Все ясно.
Морозов сам принялся за работу. Один из кирпичей удалось приподнять с помощью отвертки. Под ним оказались два мощных болта со стопорными гайками. Вероятно, здесь и была разгадка: болтами Гришин затягивал и стопорил дверь-стену, сделанную из кирпичей на стальной раме.
— Борис Петрович, Гришин просит вас на переговоры, — войдя в сарай, доложил ему один из сотрудников.
Хозяин дачи сидел в своем кресле под охраной двух оперработников.
— Слушаю вас, — обратился к нему Морозов.
— Мне нужно переговорить с вами наедине.
Сотрудники вышли.
— Борис Петрович, — придвинувшись поближе к нему, многозначительно прошептал Гришин, — у меня к вам деловое предложение. Пожалуйста, прекратите все это, и я дам вам сто тысяч!
— У вас всё?
— Сто пятьдесят тысяч, больше не в состоянии.
На Морозова смотрел жалкий старик с дрожащими губами, лихорадочно блестевшими глазами.
Борис пригласил своих товарищей зайти.
— Принесите, пожалуйста, из машины гражданина Гришина большой разводной ключ, — попросил Морозов.
— Не позволю! — приподнявшись в кресле, проговорил Гришин и беспомощно опустился обратно.
Как и предполагал Морозов, дверь-стена, ведущая в тайник, без труда была сдвинута поворотом двух болтов. Он, понятые и еще два сотрудника спустились вниз. Перед ними открылось еще одно подземное помещение, величиной раза в два меньше погреба и сантиметров на сорок ниже. В дальнем его углу стояли три больших молочных бидона с герметическими крышками, литров по тридцать каждый. На них возвышался тот самый чемодан, который Гришин сегодня вынес из квартиры. Вдоль стены лежал огромный ящик, склеенный из толстого органического стекла, верхняя панель которого была уплотнена резиной, затягивалась болтами и надежно предохраняла лежащие в нем несколько картин от воздействия внешней среды. В одном бидоне оказались золотые монеты, в другом — драгоценности, в третьем — бумажные деньги. В чемодане, который Гришин привез сегодня, были ювелирные изделия из золота и бумажные деньги.
Понятые подписали протокол. Их попросили держать в тайне материалы следствия.
Затем были составлены описи ценностей и имущества. Дачу опечатали, ее владельца под конвоем усадили во вторую машину. «Волга» Гришина с помятым капотом была на ходу, и Морозов дал распоряжение одному из товарищей отогнать ее на автобазу УВД и сдать под охрану.
Борис ехал в последней машине. Где-то далеко над Москвой светилось пасмурное октябрьское небо, озаренное множеством огней. Ровно гудел мотор, монотонно шуршали шины.
«Устали ребята сегодня, — отметил про себя Морозов, глядя, как клюет носом Козлов. — Интересно, узнает Монетчиков свои картины или откажется?» — думал Борис, прикидывая, как заставить этого алчного уголовника во всем признаться. Ведь он совершил убийство, и самое суровое наказание его ждет именно за это; что ему теперь другие статьи кодекса? Наверняка он будет молчать, набивать себе цену и скажет правду лишь в том случае, если поймет, что это ему выгодно.
Еще одно дело закончено. Морозов с благодарностью вспомнил Жукову, сообщившую об ограблении, припомнил выражение растерянности на лице, когда она на процедуре опознания узнала Жигарева и Гладкова. Испугайся она тогда или пожалей их — эти распоясавшиеся хулиганы с еще большей наглостью и верой в безнаказанность шли бы на более страшные преступления. Сейчас они присмирели, и в голосе у них вместо былого хамства звучат нотки сожаления и раскаяния. А времени в тюрьме достаточно, чтобы подумать обо всем. Даже хитрейший Гришин, кажется, тоже понял, что все его ухищрения бесполезны.
В памяти Бориса, как в калейдоскопе, мелькали участники по делу. И в этом множестве лиц, имен и фамилий судьба Ирины особенно волновала его. Слабовольная и изнеженная, она с детства рассчитывала на легкую победу, не привыкла что-либо делать во имя этой победы и рано или поздно обязательно пополнила бы армию красивых неудачниц, которые были во все времена и до сих пор не расстаются со своими претензиями к жизни, но не к себе.
Морозов понимал, что случившееся должно изменить ее, в этом прозрении он сыграл далеко не последнюю роль. Ведь именно он заставил ее взглянуть на себя другими глазами. В силу профессии Морозову нередко приходилось встречаться с людьми корыстными, беспринципными, потерявшими человеческий облик. Другая на ее месте могла бы не стесняться в выборе средств и, если уж влюбленный старичок попался на крючок, прибрала бы к рукам не только его ветхую душу, но и все движимое и недвижимое имущество. Скорее, ею руководило безволие. Сейчас она хочет себе и другим показать, что она не ничтожество. Он поможет ей — она должна учиться, работать и жить.
Замелькали знакомые московские дома, мысли рассеялись. Скоро встреча с руководством, доклад о завершении операции и отдых.
...Машины въехали во внутренний двор управления московской милиции. Наконец-то можно расслабиться, стряхнуть с себя усталость.
В сопровождении конвоя унылая фигура Гришина медленно скрылась за массивной дверью КПЗ. Щелкнул запор, и с этого момента начался для него фактический срок заключения.
— Геннадий, организуй сдачу ценностей под охрану, и после этого все свободны, а я пойду в ДПЗ к Нарышкину, небось заждался старина.
Нарышкина он застал в невзрачном и маленьком кабинете. Тот писал, как всегда.
— Добрый вечер, Николай Николаевич, можете поздравить с успехом. В тайнике у Гришина найдено несколько знаменитых полотен и огромные ценности.
— Молодцы, жму руку. Я тоже кое-чего достиг и считаю, что допросы провел с пользой, а последний мне просто доставил педагогическое удовольствие. Приятно, знаете ли, видеть, как у тебя на глазах меняются и психология, и убеждения, и прочие устоявшиеся принципы.
— Кто же это вас так уважил?
— Золотарев Рудольф Кириллович. Проклинает день и час, когда вошел в семью Гришиных, утверждает, что это они довели его до такой скорбной жизни, толкнули на преступление. Он сам хотел признаться нам, но тесть для него — страшней войны. Теперь он осознал, перековался и прочее, и прочее. Кстати, я не очень доверяю людям настроения: после панического испуга и раскаяния они могут впадать в противоположное состояние и все отрицать. Предлагаю, пока есть время, провести официальное опознание картин.
— Согласен. Я сейчас все организую.
Для Морозова это было привычным делом. Пока по его просьбе Козлов доставлял в кабинет следователя конфискованные полотна, Морозов зашел в диспетчерскую гаража и пригласил шоферов в понятые. Сразу нашлись два добровольца.
Привели Золотарева, он вошел в кабинет, как бывалый заключенный, держа руки сзади.
— Рудольф Кириллович, на предыдущем допросе вы говорили, что хорошо запомнили содержание картин, которые вы отобрали у Подлунского для своего тестя...
— Бывшего тестя.
— Юридически, пока вы не расторгли брак, он для вас родственник. Итак, вам предлагается провести опознание холстов, проданных Гришину вами за три тысячи рублей. Борис Петрович, пригласите, пожалуйста, понятых.
Нарышкин разъяснил вошедшим их обязанности и предъявил для опознания Золотарева все имеющиеся в наличии холсты. Тот быстро отобрал знакомые ему произведения и торжествующе заявил:
— Вот они, голубчики! Теперь мой сродственничек не отвертится! Наконец-то
ему придется восполнить свой пробел в трудовом воспитании. Ишь, грязной тачкой рук не пачкай...
— А вы уверены, что это именно те полотна?
— Обижаете, гражданин следователь. Я ведь очень живописно изложил в предыдущих показаниях, что именно на каждом холсте намалевано. Можете убедиться, все сходится.
— Пожалуйста, поставьте свою подпись в протоколе.
Золотарев размашисто расписался, подарил следователю торжествующую улыбку и вкрадчиво попросил:
— Николай Николаевич, перед лицом этих симпатичных товарищей пообещайте мне, что поможете подняться из грязи, не затопчите, протяните руку, не побрезгуйте. Ведь вы такой сильный! Дайте мне хоть два, хоть три года, но условно. А?.. Николай Николаевич?
— Это будет решать суд, а он всегда учитывает при вынесении приговора степень помощи, которую оказал подсудимый в раскрытии истины, его чистосердечное признание и раскаяние. А я могу лишь отметить, как вы вели себя на предварительном следствии. Видимо, ваше будущее — в ваших руках.
Нарышкин вызвал конвой и, когда они остались одни с Морозовым, спросил:
— Ну как, есть еще порох в пороховнице?
— Вижу, что держите его сухим.
— Да я про ваш. Вы же устали больше меня. Давайте-ка еще раз вызовем на последний допрос Монетчикова?
Морозов смотрел на Нарышкина и почти с завистью любовался его энергией, задором. Этот мрачный на вид человек по-настоящему жил своей работой. И куда девалась усталость, которая какой-то час назад так старила его и без того иссушенное, морщинистое лицо?
— Николай Николаевич, Монетчиков не Рудик, с ним разговаривать сложнее. Может быть, отложим?
— Устал я, хочется побыстрее закончить это дело. А если откровенно, то я всегда за людей борюсь, думаю, что в этом — наше призвание. Жалко ведь, когда по молодости или по глупости пропадают, а спасать душу этого?.. Пусть выскажется в последний раз. Идет?
Морозов согласился. Теперь, когда были задокументированы основные улики, признание или непризнание Монетчикова практически ничего не меняло, и только поэтому опытный следователь шел на допрос без тщательной подготовки.
Монетчиков вошел в кабинет темнее тучи. Он не любил вечерние вызовы, за ними всегда скрывалась какая-то таинственная неприятность. Он мрачно следил за авторучкой следователя, заполнявшего бланк протокола допроса, и искоса поглядывал на Морозова.
— Начнем, — сказал Нарышкин. — Итак, на основании имеющихся фактов и ваших показаний я записал в протоколе следующее: «Седьмого октября сего года Подлунский купил у меня, Монетчикова Ивана Андреевича, четыре холста неизвестных мне художников за три тысячи рублей». Согласны?
— Было такое.
— Далее излагается суть дела: «Восьмого октября, то есть на следующий день, Подлунский возвратился в Москву и примерно в 22 часа недалеко от своего дома был ограблен по наущению гражданина Золотарева Рудольфа Кирилловича его приятелями Жигаревым и Гладковым. Впоследствии (по показаниям Золотарева Р. К.) тот продал эти четыре холста своему тестю Гришину, после ареста которого картины конфискованы и опознаны его зятем, Золотаревым Р. К.». Вам, гражданин Монетчиков, необходимо также опознать указанные выше холсты.
— Ну, зятек дает, — Монетчиков разразился хохотом, потом успокоился, деловито спросил: — Вы что же, считаете — я их опознаю, а потом в своей камере на стенку повешу? Вот будет умора! Да на черта они мне теперь нужны?
— Тогда адресуйте их прежнему владельцу. Назовите, кто он и где проживает. Думаю, суд правильно оценит ваш честный поступок.
— Ага, и припаяет по совокупности, а мне только этого сейчас и не хватает. Я вам так скажу: мне этот Подлянский всю жизнь перекалечил. Хитрее его разве что Микола Чудотворец. А может, Подлянский сам где-то стащил эти картинки?.. А потом подложил их мне в сарай, предложил за них монету, я согласился и теперь вроде как за болвана играю. А ну как пропажа найдется, ведь я козлом становлюсь. Так-то вот. Большие деньги зазря не даются! Не видел я ничего — и гори все огнем. Дали бы закурить на прощанье, Николай Николаевич.
Морозов протянул ему сигарету.
Осторожно нацарапав свои корявые подписи на каждом листе, Монетчиков под конвоем понуро поплелся в свою камеру.
В кабинет тут же вошел Козлов.
— Караул устал, руководство все издергалось.
— А в чем дело? — спросил Нарышкин.
— Никак не может пожать ваши мужественные руки.
Через несколько минут все участники операции собрались в приемной начальника управления и негромко шутили на тему о том, что никогда не знаешь, ждет ли тебя за этой дверью добрый гений или выговор.
Вышел начальник отдела, пригласил всех зайти и стал в общих чертах, не претендуя на точность, излагать суть событий. Он подчеркнул трудности, возникавшие в ходе разработки, которые благодаря инициативе и настойчивости коллектива были успешно преодолены.
Морозов слушал своего руководителя и думал, что умение докладывать — это тоже искусство. Всегда приятно чувствовать результаты своего нелегкого труда, и особенно тем, кто вложил в него много инициативы, энергии, душевных сил. И где-то на вершинах статистики в масштабах страны будет числиться всего лишь единичное, может быть, одно из тысячи законченных уголовных дел.
Генерал, как обычно, был краток: поздравил, поблагодарил, пообещал поощрение и, обращаясь к Морозову, сказал:
— Ну а вам, Борис Петрович, нужно будет выделить материалы на Лаевского в самостоятельное делопроизводство и не спеша, основательно заняться им. Судя по шифровке Подлунского, Лаевский принимал участие в крупных спекуляциях... Трудно вам с ним придется.
— Трудно, — согласился Морозов, — такая уж наша профессия.
Хамелеоны

1
Наблюдательность свойственна человеческому роду, а в среде тех, для кого она становится еще и профессиональной привычкой, замечено и неопровержимо доказано: понедельник — день тяжелый. И неважно, светит ли солнце или стянуто тучами московское небо, — за выходные дни по городу происшествий набирается достаточно, чтобы основательно загрузить инспекторский состав Московского уголовного розыска.
В этот день все было первым — первый день недели, первая неделя месяца и сам месяц был самым первым летним. И только вечная спешка, озабоченность, желание удлинить и без того длинные летние дни были прежние. Начальник отдела МУРа полковник милиции Дроздов вернулся с оперативки. Как всегда, вчера — не ведал, а сегодня голова уже занята подробностями новых дел. С годами появилась привычка работать экономно, загружая память необходимой информацией, а когда нужно, как бы давать ей вольную. За это она благодарно в нужный момент предоставляла из своих тайников старые связи, разработки, фамилии лиц, проходивших по ним. Дроздов рассеянно смотрел в окно, ни на что не отвлекаясь, и вспоминал закрытое два года назад дело Гришина.
В блокноте убитого вчера при странных обстоятельствах гражданина Хабалова была обнаружена запись: «Лаевский Владислав Борисович». Эта фамилия всплывала в гришинском деле. Делом непосредственно занимался старший инспектор Морозов, ему, как говорится, и карты в руки.
Дроздов предпочитал в начале расследования не навязывать сотрудникам своего мнения по делу, считая, что это помогает развивать оперативную самостоятельность. Вот и сейчас, предложив Морозову садиться, полковник сразу же предупредил:
— Хочу поручить вам, Борис Петрович, одно дело. Вчера у себя дома был убит некий Хабалов Федор Степанович, художник-гравер. По материалам, собранным оперативной группой, выезжавшей на место происшествия, зацепиться пока не за что. Протокол осмотра без следов и улик. Судебный медик дал лишь предварительное заключение, что смерть наступила вчера, в воскресенье, около четырнадцати часов, в результате нанесения удара по голове в области темени тупым предметом. Протоколы допроса соседей по дому ничего существенного не содержат: никто ничего не видел и не слышал, — Дроздов продолжал перебирать документы в тонкой папке уголовно-розыскного «дела», лежавшей перед ним. — Вот что показала жена убитого, Хабалова Зоя Аркадьевна: «...я вернулась из магазина примерно в половине третьего, дважды позвонила. Потом открыла дверь своим ключом, прошла в кухню, выложила продукты в холодильник, крикнула Федю к столу, он не отзывался. Ни в комнатах, ни в туалете его не было. Ванная была заперта изнутри. Я его позвала, он не отвечал. Сначала я подумала, что он шутит, и сильно отругала его. Потом почувствовала, что что-то не так. Позвала соседей, взломали дверь. Было уже минут двадцать четвертого. Смотрю — на полу в углу Федя сидит с пробитой головой...»
— Да, слишком уж необычно, товарищ полковник, — осторожно вмешался Морозов. — Убитый — в запертой изнутри комнате...
— Это еще не все. Сосед по лестничной площадке Чурилин, который монтировкой взломал дверь, показал, что убитый сжимал в руке откупоренную и начатую бутылку водки... А вот на снимках криминалиста этой бутылки уже нет. Она обнаружена на кухне и передана на экспертизу химикам и в дактилоскопию. Заключения пока нет. Ясно одно: сам себе Хабалов голову проломить не мог. Это сделал кто-то другой. Так?
— Но как он тогда запер Хабалова изнутри? Может быть, задвинул дверной шпингалет через щель ножом?
— Отпадает. Дежурная бригада, выезжавшая на место происшествия, проверяла: невозможно. Не будем гадать. Появятся факты, будут и выводы. Пока есть одна маленькая зацепка, из-за которой я и решил поручить розыск вам, Борис Петрович. Помните, по делу мошенника и спекулянта Гришина проходил свидетелем художник-реставратор, некий Лаевский?
— Конечно, — насторожился Морозов.
— Так вот, в записной книжке Хабалова есть телефон и адрес Лаевского. Тогда его виновность доказать не удалось. Но теперь этого коллекционера картин нужно проверить еще раз. Убитый — художник-гравер, тот — художник-реставратор. Вот и разберитесь. Кто вел дело Гришина от прокуратуры?
— Николай Николаевич Нарышкин.
Начальник отдела снял трубку, позвонил в прокуратуру города и договорился, что дело об убийстве Хабалова будет вести старший следователь Нарышкин.
— В помощь возьмите Козлова. Тут полный простор для его фантазии. Желаю успеха.
Дроздов поднялся из-за стола. Это означало, что разговор окончен.
«Да, дело действительно странное, — думал Морозов, шагая по длинному коридору. — Как мог убийца после совершения преступления запереть свою жертву в туалете на щеколду? Каким способом он мог это сделать? Возможно, сильным магнитом? И главное, зачем? Чтобы выиграть время?..»
Рассуждая сам с собой, Морозов вошел в свой кабинет. С некоторых пор к нему со своим столом переехал Геннадий Козлов. Он редко расставался с улыбкой, и, планируя задание, Морозов всегда учитывал его умение легко сходиться с самыми разными людьми. Но общительность Геннадия иногда выводила Морозова из себя, так как подчас по телефону из города ему невозможно было дозвониться. Вот и сейчас, открыв дверь кабинета, Борис Петрович застал его за любимым занятием.
«Закругляйся», — жестом показал Морозов и стал собираться, чтобы ехать к Нарышкину. Козлов кивнул в знак согласия, но закончить разговор не торопился.
— Помочь? — тихо спросил Морозов и взял трубку с параллельного аппарата. Это подействовало, и, оставив в покое телефон, Козлов с обидой посмотрел на шефа. Но уже через несколько минут, выслушав суть дела, с азартом воскликнул:
— Если мы, Борис Петрович, размотаем это дело, наши имена будут вписаны золотом в славную историю МУРа...
— А если нет, то в личные дела будет вписано по выговору.
— Думаю, это нам не грозит, поскольку мне пришла одна идея.
— Как всегда, гениальная, — машинально подколол Морозов, мысленно суммируя имеющиеся факты.
— Правда, Борис Петрович...
— Ладно, потом ознакомишь. А сейчас нужно ехать к Нарышкину.
— Подождите минуточку, я мигом, — метнулся к двери Козлов.
Вернулся он минут через двадцать с увесистым свертком под мышкой. Морозов вопросительно взглянул на лейтенанта, но расспрашивать не стал, поскольку у него самого тоже возникла своя версия, которую необходимо было проверить на месте.
— Вот ведь интересное чувство, — усмехнулся Козлов, шагая по коридору прокуратуры Москвы. — Хороший человек Николай Николаевич, работяга. Два года я к нему не ходил и еще бы столько же его не видеть.
— За что же ты невзлюбил Нарышкина?
— Не уважает он нашего брата, насмехается, а кабинет мрачный такой, казенный, смотришь на стены, и кажется, что они карболкой пропитаны.
— Это ты его еще не понял... Заметь, Геныч, в нашем деле без чувства юмора, как без кожи... Универсальное средство при нападении и защите.
Морозов распахнул дверь кабинета. Как и всегда, Нарышкин, обложившись кипами «дел» и бумаг, усердно писал. На приветствие вошедших только кивнул головой. Закончив мысль, отложил ручку и вышел из-за стола.
— Опять, значит, с ворчливым стариком в упряжке? И не поверите, а я соскучился по вашим молодым лицам. Жаль, что повод для встречи у нас специфический. Ну да что поделать. Думаю, что начальство вас озадачило? Предлагаю начать с осмотра места происшествия. Знаете, почему я очень люблю работать с вами, уважаемые Борис Петрович и Геннадий Прохорович? Борис Петрович всегда за рулем... а для нас время... — он только сокрушенно вздохнул, утверждая бессилие слов, и тут же деловито прибавил: — Хабалова дома и ждет нас. Едем...
У дома тринадцать по улице Марии Ульяновой Морозов свернул во двор и поставил «Москвич» рядом с другими машинами, выстроившимися на асфальтированной площадке. Многоподъездная, девятиэтажная глыба послевоенной постройки. Огромный двор, у каждого парадного лавочки, на которых сидят бдительные старушки. Провожаемые десятками любопытных глаз, оперработники вошли в четырнадцатый подъезд, поднялись на последний этаж, позвонили. Открыла начавшая полнеть, но все еще привлекательная блондинка с воспаленными от слез глазами.
— Старший следователь прокуратуры Нарышкин, — представился Николай Николаевич. — Извините, что беспокоим вас, но вчера выезжала дежурная бригада, а расследование будем вести мы.
Хабалова молча прошла в первую от прихожей комнату, видимо служившую гостиной. Справа широкая тахта, на которую со стены спускался большой темно-бордовый ковер. У противоположной стены — сервант, уставленный хрусталем. В дальнем углу — торшер и два кресла.
— Нам бы хотелось кое-что уточнить. Зоя Аркадьевна, разрешите задать вам несколько вопросов? — спросил Нарышкин, раскладывая на столе папку с бумагами. — Расскажите, пожалуйста, все по порядку с того момента, как вы проснулись в воскресенье.
— Что говорить?.. Встали поздно, в десятом. Накануне Федя долго смотрел по телевизору футбол, ну и я не спала, вязала. Позавтракали...
— О чем вы говорили в то утро? — спросил Морозов.
— Да вроде бы ни о чем. Я предложила сходить в кино, давно мы вдвоем никуда не выбирались, а он не захотел. Он вообще последнее время стал какой-то раздражительный. Я посуду стала мыть, а он, ни слова не говоря, оделся и ушел. Вернулся домой около часу. Я спросила, где был. Пошел, говорит, за сигаретами, встретил дружков, поболтали, пропустили по кружечке пивка. А за хлебом, спрашиваю, зайти не догадался? Опять обиделся. Я не стала собирать обед и решила сама сходить в магазин после двух. Он сел телевизор смотреть. Я оделась и минут за пять до открытия пошла в магазин, вернулась в половине третьего, а дальше вы знаете...
На ее глазах показались слезы, и Нарышкин торопливо спросил:
— Зоя Аркадьевна, у вашего мужа были враги?
— Он об этом не говорил. Да какие у него могли быть враги?
— А вы не торопитесь, ведь просто так человека не убивают. Может быть, вспомните, как кто-то его или вас обидел, к кому-то приревновал...
Но Хабалова уже, казалось, ничего не слышала, заторопилась в смежную комнату, причитая по-бабьи, с подвыванием:
— Господи, как я теперь, одинешенька, жить буду?
Звякнул стакан, запахло валерьянкой.
Морозов взглядом спросил у Нарышкина разрешения и встал. Геннадий, с трудом сохранявший невозмутимый вид, заторопился за ним. Они остановились у двери ванной.
— А теперь, Борис Петрович, можете убедиться, что не зря пестовали вашего верного помощника, — полушутливо сказал он, извлекая из своего свертка увесистый магнит. — Вот такой штучкой преступник сначала проломил голову Хабалову, а потом запер дверь, чтобы инсценировать несчастный случай.
После осмотра оперативники из дежурной бригады поставили шпингалет на место, и Козлов попытался снаружи закрыть его. Однако из этого ничего не получилось.
— Наверное, слабоват, — сконфуженно признал Геннадий. — Но в самом принципе я уверен. Иначе что получается?..
Морозов достал из кармана капроновую леску, зацепил петлей ручку шпингалета. Потом перекинул оба конца на внешнюю сторону двери, прикрыл ее и осторожно повел леску на себя. С третьей попытки шпингалет вошел в гнездо.
— Вот так, — сказал Морозов.
Вернувшись в комнату, он сразу же обратился к Хабаловой, которая с отсутствующим видом ждала, когда Нарышкин закончит писать.
— Зоя Аркадьевна, а вы никогда не теряли ключ от квартиры?
— Я — нет, а вот Федор недавно терял.
— А замок после этого меняли?
— Нет.
Козлов многозначительно посмотрел на Морозова.
— Кто эти дружки, с которыми ваш муж ходил пить пиво? — спросил Нарышкин.
— Не знаю. Их у «стекляшки» столько околачивается, забулдыг несчастных, — с отвращением сказала она. — Их ловить и сажать надо. Из-за ста граммов передерутся, а за пол-литра убить друг друга готовы.
— Ну, вы это напрасно, — возразил Нарышкин. — Подраться они могут при разливе, но чтобы из-за пол-литра прийти в квартиру, убить человека, а потом так ухитриться запереть — невероятно. Скорее, давний враг. Кто-то, допустим, мог посчитать, что по его вине попал в тюрьму, когда вышел — отомстил.
— Да не знаю я ничего такого! Знала бы — сказала. Ведь какой-никакой, а муж... Что вы душу-то мотаете?! — Хабалова посмотрела на оперативных работников с неприкрытой злобой, словно они являлись виновниками всех ее несчастий.
— Извините, что заставили поволноваться, — примирительно сказал Нарышкин. — Такая у нас работа, мы обязаны найти убийцу и рассчитываем на вашу помощь. — Он написал на листке номер своего телефона: — Если вспомните что-нибудь, звоните. Сочувствуем вашему горю.
Она на какое-то мгновение замерла и, словно впервые все осознав, зарыдала, давясь и причитая:
— Всю ночь не спала, глаза закрою — он стоит... Не могу-у-у!..
От Хабаловой оперативные работники зашли к соседям по лестничной площадке, но никто не видел человека, который бы заходил днем в воскресенье в квартиру убитого, не слышал за стенкой шума борьбы или драки. Ничем не смогли помочь и остальные жильцы в этом подъезде. Лишь две пенсионерки с первого этажа, которые сидели перед обедом на лавочке у подъезда, вспомнили, что туда заходил какой-то рослый, полный мужчина средних лет. А вот когда вышел — не видели.
— Негусто, — подвел итог Нарышкин, когда они сели в машину. — А если быть точным, ничего не ясно: ни мотив убийства, ни кто его мог совершить. Словом, ищите, други мои, ищите. К себе я автобусом доберусь, — и, попрощавшись, вылез из машины.
В магазине «Подарки», где работал Хабалов, Морозов с Козловым прошли в кабинет директора.
— Чем могу быть полезен? — заволновался директор, узнав, кем являются посетители.
— Нам бы хотелось кое-что выяснить у вас в отношении Хабалова Федора Степановича.
— Господи, камень с души! Ведь это не наш человек, то есть в штаты магазина он не входит, просто работает по договору от завода «Мосрембыттехника», ему выделено место в торговом зале. Сам приходит на работу, сам уходит, когда вздумается. Творческая интеллигенция, так сказать, художник-шрифтовик. — И с неприкрытым интересом спросил: — А что он натворил, если не секрет?
— Убили его недавно, и это уже не секрет.
— Ох, господи, что делается... — пробормотал директор, с облегчением расставаясь с другими подозрениями. — То-то я смотрю, его нет и нет. Запой, думаю, что ли, опять начался?
— Он страдал запоями? — спросил Козлов.
— Да как сказать... иногда через две недели, иногда через три исчезал и в магазине не появлялся по три-четыре дня. До нас он работал огранщиком на ювелирной фабрике. Наверное, за пьянку его оттуда и выгнали.
— Откуда же у него деньги? — как бы невзначай поинтересовался Морозов.
— Да кто его знает, — пожал плечами директор. — Тариф, как говорится, творческий, срочно сделал — клиент набавит «по договоренности». А как это произошло? Кто его убил?
Морозов отметил, что в вопросе было больше любопытства, чем удивления или сожаления.
— Это мы и должны выяснить. Но никто ничего не знает. Даже жена, только плачет.
— Да, да... что имеем — не храним, потерявши — плачем, — пробормотал директор. Потом оживился: — Скажу вам по секрету, есть у меня товаровед, Друце Роберт Иванович. Он с Федором дружил...
— Обязательно с ним побеседуем. Он сейчас на работе?
Директор замялся, видимо сожалея о своей болтливости:
— Да. Я его приглашу, только прошу не ссылаться на меня.
— Не беспокойтесь, — заверил Морозов, — сначала мы вызовем продавцов из того зала, где работал Хабалов, а уж потом Друце.
Девушки из секции сувениров, напротив которой находилась кабина Хабалова, ничего интересного сообщить не могли. Затем Морозов попросил пригласить Роберта Ивановича. Войдя в кабинет, Друце бесцеремонно сел на свободный стул и с любопытством оглядел незнакомых людей. Морозов попросил оставить их одних, и директор с явным облегчением поспешил удалиться.
— Я — старший инспектор уголовного розыска Морозов, это мой помощник лейтенант Козлов. Вот мое удостоверение.
Товаровед внимательно прочитал все, что там написано, а последнюю фразу: «Имеет право ношения огнестрельного оружия» произнес вслух.
— Никогда в жизни не приходилось держать в руках подобный реквизит, — с ноткой вызова сообщил Роберт Иванович, возвращая документ.
— Для начала я запишу ваши анкетные данные, таков порядок, — Морозов стал заполнять протокол допроса, потом передвинул листок Козлову и, обращаясь к Друце, официальным тоном сказал: — Двадцать седьмого мая у себя в квартире был убит Хабалов Федор Степанович. Что вы можете сообщить в этой связи?
Какое-то время Друце сидел, словно окаменев, видимо действительно потрясенный неожиданным известием.
— Судя по некоторым сведениям, — пришел на помощь Морозов, — Федор по-дружески относился к вам, мог просить совета, помощи. Припомните, пожалуйста, у него были враги? Возможно, он опасался чьей-то мести?
— А что тут вспоминать! Все ясно как на ладони. Его жена — самая настоящая стерва. Еще осенью прошлого года снюхалась со своим старым знакомым, Савелием, любовь у них в юности была, когда тот жил в Москве. Теперь он вернулся и снова с Зойкой закрутил.
— Откуда это вам известно?
— Федор рассказал. Стал он замечать, что жена после работы домой не спешит, а иногда и допоздна задерживается. То по магазинам, то к подружке, то культпоход в театр до полуночи изобразит. Ну, Федя начал следить за ней. Зойка обычно возвращалась с работы со стороны Ленинского проспекта. А тут он стал замечать, что когда она задерживается, то на 28-м троллейбусе к самому дому подъезжает. Значит, решил он, Зойка от метро «Университет» едет. Там, наверное, и прощаются. И как-то раз, в феврале или марте, когда она сказала ему, что вечером опять задержится, чтобы он, мол, не ждал и ужинал без нее, Федя попросил меня поехать с ним, подкараулить у метро «Университет» ейного, так сказать, хахаля и набить ему морду. Ну, мы после работы поддали немного для храбрости, приехали к метро и стали ждать у выхода. А Зойки нет и нет. Потом подъехало к метро такси, стоит и стоит, огонек зеленый не зажигается. Я еще подумал, кому-то своих денег не жалко. Вижу, к перекрестку подходит очередной 28-й троллейбус, а из такси вылезает здоровенный амбал, метра два ростом, плечи, как у нас троих, если вместе сложить. В кожаной куртке. За ним Зойка вываливается. Он ей руку целует и помогает сесть в троллейбус.
— Ну и как, отлупили вы его? — не выдержал Козлов.
Друце невесело засмеялся:
— Да что вы, он бы изуродовал нас обоих хуже трамвая. Такому человека порешить — что муху прихлопнуть.
— Почему вы так считаете?
— А тут и считать нечего. В тайге живет, а там сами знаете, какой закон...
— Следовательно, вы предполагаете, что любовник Зои Аркадьевны мог убить ее мужа, чтобы потом жениться на ней? — уточнил Морозов.
— Кто его знает... Конечно, я ради такого сокровища могилу бы себе не рыл. А еще вот что... Когда я в середине мая вернулся после отгулов, Федора на работе не было. Вечером поехал к нему домой. Открывает он дверь, а у самого морда вся в синяках да ссадинах, куда уж тут в магазине появляться. Гардину, говорит, вешал, сорвался с табуретки. И смеется. Я не стал тогда допытываться, а сам подумал, может быть, у него все же состоялся мужской разговор с Савелием? А может, что другое Федя о нем узнал...
Морозов обратил внимание, что его помощнику не терпится задать вопрос, и едва заметно опустил веки в знак согласия.
— Скажите, Роберт Иванович, каким образом Хабалову стало известно имя этого человека?
Товаровед недоумевающе повернулся к Козлову:
— Так Зойка сама сказала. После того случая у метро Федя припер ее к стенке. Ну, она и призналась про первую любовь. А потом он сам откуда-то о Савелии много узнал. Федя, как выпьет, обязательно Зойкиного любовника ругать принимался, грозил. Подумаешь, говорит, один на один на медведя ходил. Посмотрим, как запоет, если за золотой песочек притянут. Зря, что ли, Савелий резиновые болотные лыжи достал? Не иначе хочет из Магадана золотишко вывезти. Самолетом нельзя, в аэропорту металлоискателем сразу засекут. Зимой по тайге — замерзнешь, а летом — то́пи. Вот для того и лыжи — не засосет. — Друце вдруг замолчал, словно испугавшись, что сказал лишнее, и торопливо закончил: — Симпатичные вы ребята. Если честно, я сначала вообще не хотел ничего вам рассказывать, ни к чему в мокрое дело лезть. А вы душевно, интеллигентно отнеслись. Может, зайдем ко мне? Роскошным коньячком угощу, «Скандербек», продукт оф Албания?.. Что-то на душе слякотно.
— Спасибо, Роберт Иванович. У нас много работы. И последняя просьба: никому ни слова о нашей беседе.
Они попрощались с товароведом и ушли из магазина.
— Ну, как тебе эта версия? — спросил Геннадий, едва они сели в машину, чтобы ехать на Петровку. — Вроде бы все сходится: ключ Савелию могла дать сама Хабалова и сообщить, что уходит из дома, а муж подшофе, действуй. Потом дождалась любовника где-нибудь на улице, узнала что и как, получила обратно ключ.
— В предположении, что Савелий мог убить мужа, есть логика. Но вряд ли он сделал это на почве ревности. Другое дело, если Хабалову удалось узнать, как намекает Друце, что-то о золотом песке.
В столовой Морозов думал о Лаевском, чья фамилия оказалась в записной книжке убитого гравера. Он вспомнил, как два года назад, поздравляя Морозова с успешным расследованием, генерал посоветовал ему не упускать Лаевского из виду. Тогда этот пожилой художник-реставратор держался надменно, интуитивно чувствуя, что серьезных улик против него нет. А когда тучи стали сгущаться, вывернулся прямо-таки виртуозно: написал заявление в Министерство культуры с просьбой принять в дар государству часть картин из своей коллекции на сумму двести-триста тысяч рублей и собственный особняк, чтобы его переоборудовали в музей, а его утвердили бы смотрителем. Убыток невелик — по международным ценам его коллекция стоила около десяти миллионов рублей, но должный эффект был достигнут. Пойди докажи, что участвовал в крупных спекуляциях произведениями искусства, ведь элемента наживы нет. Напротив, его деятельность получила официальное признание.
Затем в памяти всплыла Ирина, «Шамаханская царица», как называл он ее про себя. Борис знал, что сыграл не последнюю роль в судьбе этой красавицы, заставив по-новому взглянуть на жизнь. Смогла ли уйти она от Лаевского или по-прежнему живет в особняке, как диковинная, украшающая жизнь птица в золоченой клетке?
— Гена, помнишь Ирину Берг, которая жила у Лаевского? — Морозов отодвинул тарелку.
— A-а... черноглазая красавица? Не то жена, не то дочка. Что это ты вдруг вспомнил?
— Вспомнил потому, что нужно всерьез заняться изучением Лаевского и его окружения. Пока не отработаем эту линию, окончательных выводов делать нельзя. Вот ты и займись ею.
— Будет сделано, — без особого энтузиазма пообещал Козлов, которому явно не хотелось расставаться со столь многообещающим фигурантом, как таинственный Савелий.
2
Новые сведения, полученные Морозовым в ходе допроса Друце, в корне меняли дело. Поэтому Нарышкин решил не мешкая вызвать Зою Аркадьевну на допрос и с ее помощью попытаться пролить свет на возникшую версию.
В третьем часу дня Хабалова несмело вошла в кабинет следователя. Черный костюм и такая же косынка на шее, прямой маленький нос распух от слез, уголки губ скорбно опущены — весь вид этой женщины свидетельствовал, что она глубоко переживает гибель мужа.
— Здравствуйте, Зоя Аркадьевна, прошу садиться. — Она устало опустилась на стул, и Нарышкин почувствовал тонкий аромат дорогих французских духов. — Как ваше самочувствие?
— Лучше не спрашивайте, — вяло махнула она рукой, — не дай вам бог оказаться в таком положении. Кровать, костюмы, ботинки — все напоминает. Вчера вечером начала стирать белье — ведь надо что-то делать, а в баке его рубашки, — Хабалова поднесла к глазам платок смахнуть навернувшиеся слезы.
— Я вам сочувствую и думаю, с вашей помощью мы найдем преступника. Успокойтесь, — Нарышкин начал заполнять шапку протокола.
Зоя Аркадьевна сделала несколько судорожных глотков, словно ей не хватало воздуха. Потом убрала платок в сумочку, показывая, что готова к разговору.
— Вы очень любили своего супруга?
— А как же иначе? Прожить двенадцать лет вместе...
— Извините за нескромный вопрос: тогда зачем вам любовник?
Зоя Аркадьевна вспыхнула, резанула следователя взглядом:
— С чего вы это взяли?
— У меня есть основания спросить вас об этом, — несколько жестче обычного ответил Нарышкин. — Все, что я спрашиваю, я протоколирую. Поэтому прошу относиться к моим вопросам со всей серьезностью. Итак, меня интересует все, что касается вашего любовника. Мне нужно услышать от вас имя, отчество и фамилию этого человека. Вы знаете, где он находился в момент убийства?
— Клянусь вам, он не убивал! И оставьте его в покое!
Это было сказано с такой эмоциональной силой и уверенностью, что Нарышкин на мгновение заколебался.
— Клятва не является доказательством. Следствию нужны факты. Можете вы по часам, а лучше по минутам рассказать, где он был в тот день?
— Нет, потому что я его не видела.
— Тогда не беритесь отвечать за него. Он женат?
— Нет.
— В таком случае ни вам, ни ему уже нечего стесняться.
— Не хочу я его впутывать в это дело. Понимаете вы или это слишком сложно для вас? — с тоской сказала Хабалова.
— У вас были причины не любить своего мужа?
— Ну, знаете!.. Это никого не касается.
— Касается. Задача следователя — реабилитировать всех подозреваемых и найти настоящего убийцу. Поймите, если Савелий не причастен к убийству, мы убедимся в этом и оставим вашего знакомого в покое. Итак, кто он, как мне с ним встретиться?
Зоя Аркадьевна некоторое время молчала, упорно отводя взгляд, потом едва слышно прошептала:
— Нет его здесь, уехал, куда — не знаю.
— Как его фамилия, имя, отчество?
— Вы же знаете, Савелий... — На глазах Хабаловой вновь показались слезы. Она всхлипнула, попыталась что-то сказать, но с трудом сдерживаемые рыдания мешали говорить. — Не виноват он ни в чем, не виноват... поймите, не виноват... — судорожно глотая слезы, твердила Зоя Аркадьевна. — Поэтому я вам ничего не скажу... Можно мне уйти? — Зоя Аркадьевна прижала ко рту скомканный платок.
Нарышкин отметил повестку и проводил расстроенную женщину до двери.
С утра Геннадий Козлов отправился на поиски Ирины Берг — незамужней, тридцати лет от роду, прописанной вместе с теткой Антониной Павловной в коммунальной квартире. Когда-то эту квартиру в пол-этажа в одном из лучших доходных домов целиком занимала их семья, но время одних разбросало по свету, других забрало из жизни, и Антонина Павловна постепенно перетаскивала к себе семейные реликвии, забив вещами и мебелью комнату так, что дышать и двигаться в ней было трудно.
Вдохнув сухого, настоянного на старых запахах воздуха, Козлов закашлялся. Хозяйка придвинула ему пепельницу — бронзовую ладонь.
— Курите, успокаивает. Хотя волнуюсь я... Напрасно о визите не предупредили, я бы подготовилась. Учтите впрок, юноша, время ломает женскую форму, но ужесточает суть. Если дадите мне несколько минут, то от нашего разговора будет больше толка, — она ушла за ширму и вернулась в расшитом птицами старом кимоно и шелковом платке, скрученном на голове тюрбаном. Исчезли растерянность и нервозность — она смотрела на Козлова с интересом и легкой покровительственностью, что пристало даме ее лет.
— Антонина Павловна, если бы я был чуточку постарше и не женат, все бы отдал, чтобы покорить ваше сердце.
— Спасибо, милый юноша. Осталось только правильно сесть. Помните, как Шерлок Холмс заподозрил одну даму? Она вела себя необъяснимо только потому, что у нее был не напудрен нос, а Холмс посадил ее лицом к свету. Поэтому вы садитесь сюда, а я — сюда, — она опустилась в глубокое вольтеровское кресло, затенив лицо рукой. — Вы пришли говорить об Ирине? Что с моей внучкой?
— Надеюсь, ничего плохого. Мне надо с ней увидеться, задать несколько вопросов. Возможно, она сможет нам помочь.
— Ах, вот что... — Мышцы лица сразу расслабились, она устало потерла виски сухими ладонями: — А я адреса ее не знаю... От человека, который был ей всем — другом, отцом, мужем, — наконец... ушла. Зачем?! Кому что доказала? Ну и доказала — Лаевский стал за это время директором музея, а она? Из Дома моделей, куда я ее устроила манекенщицей, тоже ушла, учит девочек и мальчиков бальным танцам в Доме пионеров и счастлива с каким-то... — Она не договорила, махнула рукой, помешала кончиком сигареты пепел в бронзовой ладошке: — Столько было надежд, такая красота... А верно, красота кому в дар, кому — испытание...
— Не огорчайтесь. Возможно, этот человек даст ей в жизни больше счастья. Кем она работает?
— Вы хотите поймать меня на слове, — грустно усмехнулась она, — а мне скрывать нечего. Все, что знаю о ней, — от Дарьи, экономки Лаевского. Она передала мне Иринины вещи, которые оставались у Лаевского. Мы разговорились. Знаете, как бывает?.. — старческие веки притушили влажно заблестевшие глаза. — С чужими легче откровенничать, они не спорят, не осуждают, им просто нет до вас дела.
— Большое спасибо, Антонина Павловна, извините, что побеспокоил.
Она проводила Козлова до лифта. И хотя он предпочитал вниз спускаться пешком, пришлось задержаться — ей явно что-то еще хотелось сказать:
— До войны был другой лифт, с зеркалом, диванчиком, обитым красным бархатом. И никто грязных сумок не ставил, не плевал, хотя время такое было... — Наконец торопливо, уже под шум поднявшегося лифта: — В новых районах Ирину не ищите. Там для нее — что чужой город. Здесь росла, в Центральный Дом пионеров этими самыми... бальными танцами заниматься ходила...
— На Ленинских горах? — переспросил Геннадий.
— Ну что вы, у Мясницкой! Там еще памятник Грибоедову.
«Значит, рядом с улицей Кирова — перевел на язык современных понятий Геннадий, — там в переулке действительно есть Дом пионеров. Вот сразу туда и наведаюсь».
Он вышел к метро «Площадь Ногина» по улице Разина и, явно под впечатлением недавней беседы, вспомнил, что называлась улица раньше Варваркой, как считают — в честь варева из меда с хмелем за две копейки кружка. А тут же, на Маросейке, за пятачок можно было купить теплую гречневую требуху с подсолнечным маслом или с ливером пирожок.
Сейчас в маленьком зале закусочной «Маросейка» столовался приехавший в столицу по торговым и личным делам народ. Оценив взглядом очередь, Козлов мужественно решил отложить обед до лучших времен и сообщить Морозову, где он находится. Но в трубке раздались частые гудки — «занято».
3
В это время Морозов слушал по телефону донесение Черкасова, своего сотрудника, который по просьбе Нарышкина сопровождал Хабалову от прокуратуры.
— Проводил подопечную до дома. Сначала летела как сумасшедшая и все оглядывалась. У метро позвонила из автомата. Услышал, как убеждала кого-то: «...да, уезжай немедленно... Нет, ни в коем случае. Все, все... Когда вернешься, сообщи через Раю...» После этого на метро поехала домой. По пути зашла в продовольственный. Какие будут указания?
— Продолжайте наблюдение. Если в дом войдет Савелий, задержите и доставьте в милицию.
После сообщения Черкасова было над чем подумать. Вероятно, Хабалова звонила своему любовнику, предупреждая об опасности. И есть еще некая Рая, поддерживающая связь между ними. Кажется, что-то начинало вырисовываться. Но как по скудным данным найти Савелия, который после звонка Хабаловой наверняка скоро скроется из Москвы, если уже не покинул столицу? По опыту розыскника Морозов знал, что, когда над человеком нависает угроза оказаться за решеткой, он обычно не бежит куда глаза глядят, чтобы спрятаться от закона, а стремится в те места, которые ему хорошо знакомы, где есть у кого отсидеться, переждать трудное время. Следовательно, Савелий, скорее всего, направится к себе на север.
Размышления старшего инспектора прервал телефонный звонок Нарышкина:
— Здравствуйте, Борис Петрович, надеюсь, не оторвал вас от срочных дел? Ах, думаете? Что ж, похвально. Предлагаю объединить силы. Приезжайте ко мне, ознакомлю с некоторыми бумагами.
Морозов знал, что просить Нарышкина зачитать эти бумаги по телефону — бесполезное занятие. И как ни трудно у него было со временем, поехал в прокуратуру.
— Вот полюбуйтесь, — Нарышкин победно потрясал листками заключения медэксперта. — Оказывается, все очень просто. В момент, когда Хабалову нанесли смертельный удар, он находился в состоянии крайнего нервно-мышечного возбуждения, какое бывает во время физической схватки. Поэтому, получив удар тупым предметом в область темени, проломившим черепную коробку, он еще имел достаточно сил, чтобы ускользнуть от своего противника в ванную комнату, закрыть дверь на задвижку, сесть на пол и даже не разбить бутылку. После этого наступила смерть. — Положив заключение перед Морозовым, Нарышкин продолжал уже более спокойным тоном: — Значит, версия со случайным вором, нашедшим ключ от квартиры, отпадает.
Морозов хотел возразить, но Нарышкин жестом остановил его:
— Мне кажется, события развивались следующим образом. Жена ушла в четырнадцать часов в магазин. Ее муж воспользовался случаем, достал припрятанную бутылку водки и сделал несколько глотков. В это время в дверь позвонили, и Хабалов, не выпуская бутылку, прошел в прихожую и открыл дверь. Гость, может быть тот же Савелий или кто-то другой, не сразу нанес ему смертельный удар. Иначе Федор потерял бы сознание и свалился в коридоре. Скорее всего, они начали выяснять отношения...
— Простите, Николай Николаевич, но вы забыли про бутылку. Ведь в таком случае он вполне мог применить ее для обороны.
— Нет, Борис Петрович, не забыл. Представьте, что противник был физически очень сильным человеком, как, например, Савелий, между ними началась схватка. Оба по каким-то соображениям не кричали, иначе соседи услышали бы шум борьбы. Преступник оказался сильнее и нанес смертельный удар. Спасаясь, Хабалов шмыгнул в ванную и закрылся там. После этого убийца покинул квартиру. Если у вас, Борис Петрович, есть иная версия происшедшего, с удовольствием послушаю.
— Готовой версии у меня нет. Но не кажется ли вам, что этот физически очень сильный противник необязательно должен быть Савелием? И сводить дело лишь к одному Савелию на данном этапе, когда не отработаны все связи Хабалова, преждевременно? Может получиться, что мы угробим массу времени на его поиск, а у Савелия окажется стопроцентное алиби.
— Хорошо, — прищурился Нарышкин, — оставим на время в покое Савелия. Что еще можно предположить?
— Месть! — Морозов усмехнулся. — Кстати, вторая версия Козлова так и называется.
— Допустим... Чья и за что?
— До того как стать гравировщиком, Хабалов работал на ювелирной фабрике огранщиком, оттуда его выгнали за пьянку, но, так ли это, еще нужно проверить. Труд, конечно, тяжелый, но редко огранщики уходят по собственному желанию. Там даже молодежь зарабатывает не меньше пятисот рублей в месяц. Возможно, Хабалов был замешан в каких-то махинациях. Сами знаете, администрация не любит дотягивать до возбуждения уголовного дела. Подозрения были, а улик не оказалось, вот его и уволили «по собственному желанию».
— Правдоподобно, — Нарышкин удовлетворенно откинулся на спинку стула. — Что дальше?
— Во-первых, следует выяснить, не проходил ли в период увольнения Хабалова или позже какой-нибудь процесс, связанный с бриллиантами. Необязательно на московской ювелирной фабрике «Кристалл». Допустим, он выкрутился, а кто-то пострадал, отсидел из-за него срок. Потом вышел на волю и рассчитался.
— Или потребовал обещанного вознаграждения, а Хабалов ответил отказом. Такое тоже возможно, и надо проверять, но не забывайте о главном, — Нарышкин постучал пальцем по часам.
— Помню постоянно, — отшутился Морозов. — На работу не опаздываю. Когда нужно, то и сверхурочно прихватываю. В ближайшее время через сотрудника ОБХСС, обслуживающего «Кристалл», выясним, что известно о Хабалове, в чем он мог быть замешан или проходил свидетелем. Поднимем архивные дела.
— Историю можете поручить кому-нибудь из своих, — поморщился Нарышкин, — а вам целесообразнее взяться за Лаевского. Чует мое сердце, неспроста фамилия этого пройдохи в записной книжке Хабалова оказалась.
— Боюсь, Николай Николаевич, что мне его в одиночку не свалить. Тут уж давайте вместе, слишком изворотлив сей художник-реставратор, как бы опять не
выписал перед нашим носом какой-нибудь красивый пируэт.
Затем около часа они просидели над планом допроса их старого знакомого, который решили провести на следующий же день.
4
С утра обещали грозу, но прогноз, увы, пока не оправдывался, и вентилятор на столе у Нарышкина беспомощно крутил лопастями, перемешивая раскаленную духоту.
— Благодари бога, что ты в МУРе работаешь, а не квасом торгуешь. Враз бы прогорел, — усмехнулся Нарышкин, глядя, как инспектор МУРа Черкасов пытается выжать последние капли из сифона.
— Я знаю свою слабость, поэтому и не пошел в продавцы кваса.
— Смекалист. Теперь коротко о Лаевском, с которым вам придется поработать. Выходец из богатой семьи. Родители не скупились, приглашали преподавателями довольно известных художников, пытаясь развить в нем художественное дарование. После революции их семья не сбежала за границу. Напротив, отец Лаевского пришел в Совнарком и предложил свои услуги. Поскольку он был профессором экономики, ему предложили должность эксперта, выдали охранное свидетельство на земельный участок в пять соток в центре Москвы и особняк на правах личной собственности. Кроме движимого и недвижимого имущества Владислав Борисович Лаевский унаследовал от отца страсть к коммерции, во всяком случае картины, находящиеся в его особняке, стоят около десяти миллионов рублей. Причем значительная часть приобретена уже им самим.
— Никогда еще не имел дело с миллионерами, интересно будет посмотреть, какие они?.. — сказал Черкасов.
— А вот себя ему раньше времени показывать не стоит. Он должен скоро прийти, — напомнил Морозов.
Черкасов понимающе кивнул и вышел.
Нарышкин еще раз выровнял аккуратно лежащие на столе папки, причесался, окинул взглядом кабинет и вдруг рассмеялся:
— Знаете, Борис Петрович, я, оказывается, волнуюсь.
— Думаю, Лаевский для этого и опаздывает, надеется вывести нас из равновесия, так сказать, психологическая подготовка боя. Да, не помню, говорил я или нет, что Лаевский живет сейчас один, хозяйство ведет все та же прислуга Дарья.
— А черноокая мадам сбежала с молодым гусаром?
— По нашим сведениям, она ушла от него сразу же после процесса.
— О!.. А вы печалились, что Владислав Борисович остался безнаказанным. В его годы такие потери с трудом восполняются.
Хотя Лаевский явился с получасовым опозданием, держался он без тени смущения.
— Доброго здоровья, любезный Николай Николаевич! — заулыбался он, едва войдя в кабинет. — Да тут и наш знаменитый сыщик, Борис м-м... простите, отчество забыл.
— Петрович.
— Да, да, Борис Петрович. Возмужали, расцвели... Рад, весьма рад видеть всех в добром здравии и у дел.
Морозов с интересом всматривался в Лаевского. Внешне Владислав Борисович почти не изменился — тот же мягко рокочущий голос, округлые жесты, аккуратность и строгость в одежде. Появилась острая бородка, скрывавшая безвольно скошенный подбородок. Почувствовав на себе взгляд Морозова, Лаевский с улыбкой посмотрел на него, словно говоря: «Не знаю, что вы задумали, но я вас не боюсь, поскольку совесть моя чиста».
— Как чувствуете себя, Владислав Борисович? — осведомился Нарышкин.
— А как должен чувствовать себя человек в преклонном возрасте, которому, кроме картин, любить ничего не осталось? — меланхолично опустил он глаза. — Судите сами: курить врачи запретили, сладкое-соленое — тоже, красивым женщинам я не интересен, некрасивые мне не нужны... Что ж, остается только работа... — Он выдержал паузу и со вздохом спросил: — Вот ведь и вы меня не чай пить позвали, а, как я догадываюсь, для консультации? Видимо, что-то подлежит экспертизе?
— Не угадали. — Тон беседы немного сбил Нарышкина с намеченного плана допроса, и Морозов поспешил на помощь, решив сразу осадить Лаевского. — Роковой вы человек, Владислав Борисович, — сказал он.
Кончик ботинка, которым Лаевский все время независимо покачивал, замер. Владислав Борисович сузил глаза, как бы обдумывая услышанное, затем сочувственно посмотрел на Морозова.
— Почему вы так нервничаете? Что у вас произошло?
— Произошло... — повторил Морозов. — Помните, был у вас в друзьях и учениках Подлунский! Убит. Ваш ученик Гришин чуть не получил высшую меру наказания. А недавно убит в своей квартире опять же ваш знакомый Хабалов Федор Степанович.
— Хабалов... Хабалов? Нет, не знаю! Что-то вы путаете...
— А если подумать? Когда-то вы и Подлунского не могли вспомнить, а потом оказалось, что это один из ваших друзей.
— Точнее — знакомых. Слово «друг» ко многому обязывает.
— Владислав Борисович, а часто знакомые дарили вам картины?
Лаевский задумался, потом неопределенно пожал плечами.
— Вот видите, — все так же настойчиво продолжал Морозов, — а Подлунский, с ваших же слов, сказанных два года назад, подарил вам около десятка холстов. Так что во избежание конфуза давайте вспомним Хабалова, гравировщика из магазина «Подарки». Вот его фотографии.
Морозов разложил их перед Лаевским. Вглядевшись, тот провел рукой по лицу, словно отгоняя какие-то неприятные воспоминания, и обратился к Нарышкину:
— Ну, боже мой, вот о ком речь, — вздохнул он одновременно печально и с облегчением. — Конечно, я его знал. Он делал мне медные таблички на дверь, на папку. Кстати, совсем недавно. И раньше я пользовался его услугами, когда шел к друзьям на юбилеи, — гравировку на хрусталь, серебро. Так это что же, значит, его убили? А за что?
— Спасибо, Владислав Борисович, что вспомнили, — спокойно сказал Нарышкин. — Действительно, в ваши годы и при столь обширном круге знакомых всех не упомнишь.
— Если я чем могу помочь...
— Скажите, пожалуйста, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с Хабаловым?
— Все предельно просто. Лет пять-шесть назад я зашел в магазин «Подарки», купил для друга портсигар, попросил нацарапать монограмму. Хабалов выписал квитанцию, велел зайти через пару дней, а мне надо было тогда же. Ну... я заплатил сверх, он сделал надпись при мне, разговорились. Так я узнал его имя...
— А зачем ему понадобился ваш телефон?
— Действительно... — задумался Лаевский. — Я свои телефоны просто так не даю. Кажется, я ему что-то обещал...
— Не припомните — что?
— Вроде помочь с путевкой в санаторий. Но — обещания даются по необходимости, а выполняются по обстоятельствам. Это не я сказал — Тургенев, «Вешние воды»... — Лаевский лукаво улыбнулся, спокойствие вернулось к нему.
— Кому вы подарили портсигар с монограммой?
— Ну, друзья мои, это вопрос лишний. Вы что же, хотите навестить моего приятеля с милицейским удостоверением, потребовать предъявить подарок? А после этого в кругу художников пойдут пересуды: Лаевским милиция интересуется, что-то там с портсигаром. И будет как в анекдоте... То ли он шубу украл, то ли у него? Лучше от него подальше.
Нарышкин протянул художнику протокол допроса, тот расписался, раскланялся:
— Успеха вам, Николай Николаевич. Сожалею, что не смог помочь. Тяжесть теперь на душе... — и он подчеркнуто вежливо поклонился на прощание Морозову.
— Что-то Владислав Борисович крутит, — делая пометки в блокноте, нарушил молчание Нарышкин. — Если знакомство с Хабаловым носило столь невинный характер, мог бы и побыстрее вспомнить.
— Он же понимает, что по делу Гришина просто счастливо выкрутился, а подозрение не снято. Вот и осторожничает...
— Понимает. И еще одна деталь. Я специально поинтересовался, открылся ли Музей народного творчества в его особняке. Оказалось, по каким-то запутанным причинам вопрос до сих пор не решен, и Владислав Борисович не торопится распахнуть для народа двери своего дома. Но сам ход с дарственной и хлопоты о его назначении смотрителем музея мудро задуманы. Схвати его на сомнительной сделке, скажет, для музея старается и покажет всю свою настойчивую переписку с Министерством культуры. Но это к нашему делу не относится. Что касается убийства Хабалова, думается, к нему Лаевский отношения не имеет, и маловероятно, чтобы он знал любовника жены гравера. Но это придется проверить.
— Согласен. Пока же у нас остается только одна возможность выйти на Савелия: надо найти некую Раю, через которую они держат связь.
5
Морозов сегодня встал рано и на службу отправился пешком по Бульварному кольцу. Он любил обдумывать запутанные ситуации, неторопливо шагая по тенистым аллеям.
«Допустим, мы найдем эту Раю, — рассуждал он, — что через нее можно выяснить? Наверное, Хабалова ее проинструктирует, если еще не сделала этого, чтобы та соблюдала осторожность, помнила бы, что милиция может следить за ней. Надо это учесть».
Морозов понимал, что, чем больше они найдут свидетелей, тем картина будет ясней... Настало время поинтересоваться деятельностью Хабалова на прежней работе, где он был огранщиком на ювелирной фабрике «Кристалл». Морозов узнал, что ее по линии БХСС обслуживает Дмитриев Сергей Григорьевич, который еще с неделю будет находиться в отпуске. Чтобы не терять дорогого времени, он решил кое-что выяснить сам.
К десяти утра он приехал на фабрику. Начальник отдела кадров внимательно рассмотрел служебное удостоверение Морозова, предложил сесть, недоумевая, что могло случиться и как ему вести себя с этим парнем.
— Все в порядке, — произнес он с улыбкой, возвращая документ. — Куранов Петр Максимович. Чем могу быть полезен?
— Четыре года назад у вас работал некто Хабалов Федор Степанович. Меня интересует, насколько честно он трудился, почему ушел, то есть истинная причина увольнения. Сами понимаете, «по собственному желанию» — эта формулировка ни о чем не говорит.
— Конечно, конечно, — согласился Куранов, роясь в своей картотеке уволенных, — а вот и он. Вы правы, уволился по собственному желанию, — зачитал он и, отложив карточку, добавил: — Если честно, был он пьяница, помню я этого молодца как свои пять пальцев. То на работу по неделе не ходил, запой у него, значит, то пьяным придет уже с утра, где-то успевал надраться. Я спрашиваю: почему? «Чтобы руки, — говорит, — не дрожали». Правда, работал-то он хорошо, не придерешься, огранщиком был первоклассным, но не реагировать на такую низкую дисциплину труда мы не могли. У администрации терпение лопнуло, объявили мы ему два выговора в приказе, и он, не дожидаясь тридцать третью статью КЗоТа, сам ушел.
— Понятно, — произнес Борис Петрович. — А не могли бы вы подсказать, с кем он работал, были ли у него друзья, приятели, собутыльники?
Куранов задумался. То ли он действительно пытался вспомнить кого-то, то ли опасался наговорить лишнего. Пока ведь он не знал, с какой целью его расспрашивает старший инспектор угрозыска. Навлечешь еще каким-нибудь боком беду на свое предприятие. Огранка алмазов — дело тонкое, деликатное. А вдруг что-то связано с пропажей, с хищением бриллиантов, где-то уже идет суд, и в адрес руководства фабрики придет частное определение за слабый контроль, низкую дисциплину труда.
— Дело в том, — пояснил Морозов, — что Хабалов недавно был убит в своей квартире, мы ведем розыск преступников. После вас он работал в магазине «Подарки» гравировщиком, был предоставлен сам себе, ни друзей, ни знакомых. Он и там, кстати, много пил. Хотелось найти хоть кого-нибудь, кто мог бы обрисовать его взаимоотношения в семье, его хобби — кроме пьянства, конечно, — улыбнулся Морозов, — ну и вообще что это был за человек.
— Понятно, вот теперь ясно.
Куранов взялся за телефонную трубку, набрал номер.
— Добрый день, это Петр Максимович. Пришлите, пожалуйста, ко мне в отдел кадров Конина Олега Сергеевича. Да побыстрее, если можно!.. Сейчас дружок его придет, — сказал Куранов, положив трубку.
Ждать долго не пришлось.
— Разрешите? — приоткрыв дверь, спросил невысокий плотный мужчина в белом халате.
— Петр Максимович, куда вам позвонить, когда мы закончим беседу?
Куранов понимающе кивнул, встал, забрав какие-то бумаги.
— Я, пожалуй, буду по 317.
Морозов поблагодарил его, и они остались одни с Кониным. Борис Петрович не торопился начинать разговор. Он разложил на столе свою папку, достал авторучку, блокнот. Было заметно, что приглашенный сильно нервничает, лицо его покраснело, ничего не выражающие глаза смотрели в одну точку. Конин усиленно старался не выдать своего волнения. Но про руки он забыл, и они, эти сильные и послушные руки мастера, суетились, предоставленные сами себе, не зная, то ли сжаться в кулаки, то ли сцепиться пальцами, то ли вообще убраться в карманы.
Морозов встал, подошел к двери и спустил защелку замка, чтобы не мешали. Характерный щелчок заставил Конина слегка вздрогнуть.
«Пугливый, — отметил Морозов, — а с виду богатырь».
Морозов сел на прежнее место, за стол начальника отдела кадров.
— Познакомимся, Олег Сергеевич. Я старший инспектор Московского уголовного розыска капитан Морозов Борис Петрович. Если не возражаете, задам вам несколько вопросов, а потом поговорим о деле.
— Да, да, пожалуйста, — скороговоркой выпалил Конин.
Морозов уточнил его адрес, семейное положение и узнал, что он после армии пришел на фабрику учеником огранщика, потом получил разряд и стал работать самостоятельно. Три года назад женился и купил двухкомнатную кооперативную квартиру, потом обменял ее на трехкомнатную, государственную. Всего он на фабрике одиннадцать лет, и не раз за хорошие результаты получал премии, а два года бессменно красовался на Доске почета.
— А зачем вам все это нужно? — словно выдавил из себя Конин.
— Как давно и при каких обстоятельствах вы познакомились с Хабаловым?
Этот вопрос обрушился на Конина словно неожиданный удар, он побледнел, начал, заикаясь:
— Я работал с ним вместе, сначала учеником у него был. А что?
— Очень хорошо. Да вы не волнуйтесь, Олег Сергеевич.
— А я и не волнуюсь, — ответил Конин.
— Дело в том, что я веду расследование убийства Хабалова. А вы, как его бывший ученик, как коллега, проработавший с ним бок о бок более шести лет, и наконец как друг семьи, являетесь свидетелем по делу.
— Я ничего не знаю.
— Никогда не торопитесь произносить эти слова, иначе может сложиться впечатление, что вы не заинтересованы в том, чтобы помочь найти убийцу. Это во-первых, а во-вторых, вы же не знаете, какие вопросы будут заданы.
И вдруг этого сильного и крепкого на вид мужчину стало подергивать как в лихорадке.
— Да что это с вами? — спросил Морозов.
— Просто я себя сегодня плохо чувствую, я на больничном уже неделю и пришел только для того, чтобы помочь с выполнением срочного заказа, план горит. Но теперь мне совсем не до работы. Да еще вы с этим.
— А что с вами?
— Сам не знаю, знобит, ангина.
— Я так понял, что вы каким-то образом уже узнали, что Федор Степанович убит.
— Я же на похоронах был, меня Зоя пригласила.
— А после похорон она вам звонила?
Олега Сергеевича снова передернуло, он стал усиленно морщить лоб, что-то вспоминая. Наконец с трудом разжал губы:
— Да, звонила, по-моему, позавчера, я точно не помню. Так, душу изливала, просила не забывать, заходить.
— Рассказала, что ее вызывали на допрос...
— Да, — отвечал он, на мгновение округлив глаза, как бы спрашивая: «А вы что, при этом разговоре присутствовали?»
— Что она вам говорила о Савелии?
— Мм... чтобы я молчал, если спросят о нем.
— А что вы знаете о нем? Куда он уехал, откуда приехал?
— Даю честное слово, что я его имя только от нее услышал. Федя как-то под банкой сказал, что жена хахаля завела, встречается с ним у какой-то Раи, хахаль, значит, квартиру у нее снимает. Я, честно, даже имени его не знал. Клянусь. Отпустите меня, что-то не по себе, колотун бьет.
Морозов не стал да и не имел права вести допрос человека в болезненном состоянии без его согласия. В результате беседы создалось впечатление, что Конин чего-то боится и не просто не договаривает, а пытается утаить. То, что он на больничном и пришел на работу — это правдоподобно, на седьмой день ангины температура вполне может упасть до нормальной или близкой к этому, но так разволноваться и довести себя чуть ли не до припадка? «Какая у него может быть связь с этим делом?» — думал Морозов.
Попрощавшись с Курановым, он поехал к Нарышкину и рассказал ему о своих впечатлениях от беседы с Кониным.
— Я, пожалуй, Хабалову с Кониным допрошу в понедельник. Выясним, что это за Рая, где проживает, — сказал Нарышкин.
— Может быть, вы повремените с Кониным, я проверю по учету, в УБХСС, возможно, он в поле зрения у них, а Дмитриев скоро выйдет из отпуска...
— А стоит ли терять время? Даже если против Конина уже возбуждено уголовное дело по какому-то другому виду преступления, закон не запрещает допрашивать его в качестве свидетеля по делу об убийстве.
И Нарышкин стал выписывать повестки обоим на понедельник, вызывая ее на десять, его — к одиннадцати часам утра.
6
В понедельник Зоя Аркадьевна пришла на допрос без опоздания, причем на этот раз даже не пыталась делать вид, что убита горем. Сухо поздоровалась, положила на стол повестку, устало вздохнула и присела. Нарышкин молча заполнил официальную часть бланка, затем прочитал вслух и, предупредив об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предложил Хабаловой расписаться.
— Итак, Зоя Аркадьевна, на первом допросе мы выяснили с вами, что убийца после преступления просто ушел из квартиры, ничего не взяв из вещей. С этим вы согласны?
— Да.
— Второе. Из ваших показаний ясно, что вы не знаете никаких смертельных врагов Федора Степановича, которые могли бы ему отомстить.
— Да, я не знаю их, но категорически отрицать это, конечно, не могу. Муж был скрытным, с кем-то пил, с кем-то вел разговоры, иногда приходил домой в синяках и ссадинах.
— Согласен, что в компании собутыльников могут выяснять отношения кулаками, но чтобы пойти на преднамеренное убийство, тем более не где-нибудь, а в собственной квартире, нужны веские основания, так?
— Да, но я таких причин не знаю.
— Вот мы их и выясняем. И одна из версий, правда, ее можно принять с большой натяжкой, это то, что убийство совершено вашим любовником Савелием на почве ревности преднамеренно или в состоянии крайней раздраженности, когда он пришел к вашему мужу выяснять отношения. Вы согласны с этим?
— Нет, нет и нет. Не мог он этого сделать! — с надрывом выкрикнула Хабалова.
— Чем вы можете подкрепить ваше утверждение?
Она слегка замялась, но потом сказала твердо:
— В это время он... его в Москве уже не было.
— А где он находился?
— В пути, ехал на Север.
Нарышкин подробно записывал в протокол свои вопросы и ответы Зои Аркадьевны, которая старательно делала вид, что все это ей безразлично.
— Назовите, пожалуйста, адрес, фамилию, имя и отчество Раи, у которой Савелий снимал квартиру.
— Я не знаю никакой Раи и знать не хочу! — вспылила Хабалова.
— Тогда мне придется предложить вам очную ставку с человеком, давшим эти показания. — Нарышкин снял трубку и позвонил в приемную: — Я вызывал к одиннадцати часам Конина... Ясно, — он положил трубку. — К сожалению, Конин еще не пришел. Итак, вы утверждаете, что ваш знакомый Савелий во время убийства был в пути на Север? Куда именно?
— Я этого не знаю.
— Вы его провожали?
— Нет, мы простились с ним в субботу.
— Чтобы прекратить разработку версии виновности вашего знакомого, нам обязательно нужно допросить Савелия, проверить факты и отсутствие состава преступления с его стороны. Согласны?
— Нет, я не хочу впутывать его в это дело. Он к нему никакого отношения не имеет, я в этом могу поклясться чем угодно.
— Увы, эмоции доказательной силы не имеют. Нам нужны факты. Вы убеждены в невиновности Савелия, так помогите проверить его алиби. Надеюсь, вы знаете, что это такое?
— Я же вас прошу, оставьте его в покое! Савелий ни при чем, он знать ничего не знает. В конце концов, убит мой муж, и в наказании убийцы прежде всего заинтересована я. Раз говорю, что это не Савелий, значит, это так. Ну какой же вы...
На глазах у Хабаловой выступили слезы. Она открыла сумочку, достала платок и аккуратно, чтобы не размазать краску на ресницах, промокнула их. Нарышкин увидел в сумочке записную книжку. Перехватив его взгляд, Зоя Аркадьевна моментально захлопнула сумочку, оставив платок в кулаке.
— Так, так. А ведь все, что нас интересует, вы носите с собой, — сказал Нарышкин, — придется попросить у вас записную книжку. Думаю, что в ней мы отыщем координаты Савелия и Раи.
— Да вы что! Почему вы позволяете себе такое?
Нарышкин почти не глядя протянул руку к краю стола и взял Уголовно-процессуальный кодекс:
— А я не шучу. Мы разыскиваем подозреваемого в совершении убийства, вашего любовника Савелия, вы же его скрываете от следствия. Вот, пожалуйста, статья 172 УПК говорит: «...личный обыск без вынесения о том отдельного постановления или санкции прокурора может производиться:... пункт 2. При наличии достаточных оснований полагать, что лицо скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значения для дела». Я не собираюсь нарушать социалистическую законность и на основании статьи 170 того же УПК выписываю постановление, — при этом Нарышкин взял бланк и стал быстро заполнять его. — Итак, я предлагаю вам в интересах следствия выдать мне вашу записную книжку.
— А если я вам ее не дам? — с вызовом спросила Хабалова, глядя на следователя сразу высохшими, злыми глазами.
— Тогда на основании той же статьи Уголовно-процессуального кодекса я буду вынужден пригласить сюда нашу сотрудницу, понятых, конечно тоже женщин. Вы понимаете? Результат будет тот же, но при иных обстоятельствах. Будьте благоразумны, — Нарышкин протянул руку.
Зоя Аркадьевна передернула плечами и с явной неохотой отдала ему записную книжку.
— Можете зря не рыться. Боброва Раиса Семеновна, там телефон и адрес, по которому мы снимали у нее комнату.
— Кем она вам доводится? — спросил Нарышкин, переписывая данные.
— Никем, мы встретили ее на толкучке в Банном переулке.
— Хорошо, проверим. — Нарышкин набрал знакомый ей номер: — Раиса Семеновна? С вами говорит следователь прокуратуры города Николай Николаевич Нарышкин... Ничего страшного не случилось. Вы можете приехать сейчас ко мне в прокуратуру?.. Спасибо, запишите адрес...
Положив трубку, Нарышкин испытующе посмотрел на Хабалову:
— На какую букву искать вашего любовника?
— Там нет ни его фамилии, ни адреса. Или вы полагаете, что мой муж был абсолютно неревнив?
Николай Николаевич стал медленно листать записную книжку, внимательно читая все имена, фамилии, названия учреждений. Время от времени он задавал Зое Аркадьевне вопросы.
«Соболева Велла, г. Магадан, улица Ленина, 15—378», — прочитал он и задумался. — Раз она магаданская, то могла знать Савелия. Возможно, его родственница».
— Кто такая Соболева?
Зоя Аркадьевна на мгновение замерла, задумалась и, отвернувшись к окну, тихо сказала:
— Это подружка у меня была, нет ее больше. Мы с ней вместе учились и даже родились в один день...
Нарышкин заметил, как учащенно запульсировала жилка у нее на шее. Неужели можно так разволноваться, вспомнив подругу?
— Оставьте пока себе этот блокнот и выучите его хоть наизусть, а мне нужно идти, — сказала Хабалова, внезапно встав.
— Только, пожалуйста, после того, как подъедет Боброва. Подождите немного. Я не понимаю, что вас так взволновало?
— Вам бы все это пережить да не поспать ночи, посмотрела бы я на вас...
Вскоре в кабинет постучали, и вошла пожилая женщина с бегающим взглядом и просительным выражением на лице.
— Я — Боброва, вы меня вызывали по телефону.
— Пожалуйста, проходите, Раиса Семеновна. А вы, Зоя Аркадьевна, теперь можете идти. Сейчас отмечу вам повестку.
Нарышкин писал и украдкой посматривал на женщин. Те сидели молча, не глядя друг на друга.
— А вы что, уже виделись сегодня? — поинтересовался он.
Хабалова встала, резко взяла повестку и, бросив:
— Теперь это не имеет никакого значения! — направилась к двери. Нарышкин проводил ее взглядом, гадая, чем вызвано столь бурное проявление чувств.
— Раиса Семеновна, я пригласил вас, чтобы допросить в качестве свидетеля по делу об убийстве Хабалова Федора Степановича.
— О господи! — прошептала женщина и перекрестилась. — Я о таком впервые слышу.
— Это муж Зои Аркадьевны, вы разве не знали ее фамилию?
— Нет. Я и по отчеству-то ее не знала. Зоя, и все тут.
— Расскажите мне о вашем постояльце: кто он, откуда приезжал, сколько прожил?
— Это Зоин ухажер, что ли? Савелий Матвеевич?
— Он самый.
— Сдала я ему комнату в начале марта, — зачастила Боброва, — помню, на восьмое марта он букетик тюльпанов подарил, уважительный такой. Заплатил сразу девяносто рублей за три месяца вперед и жил себе. Я двухкомнатную занимаю, мои все померли, одна осталась, а без людей скучно, да и на пенсию нешибко разгуляешься, вот и пустила. Нельзя разве?
— Как фамилия вашего постояльца?
— Вот фамилию-то и запамятовала. Да и зачем она мне, чай, не грабитель какой-нибудь. У самого денег девать некуда, пачками по всем карманам! Да все сотенные. Самостоятельный мужчина.
— Хорошо, можете не вспоминать. Я все его данные узнаю в милиции. Вы ведь его прописывали?
Словоохотливая пенсионерка разом сникла.
— Виновата я, — тихо призналась она, — не прописывала.
— А ведь это — нарушение закона, Раиса Семеновна. Он что, сам просил об этом?
— Да нет, он мне пятнадцать рублей дал и паспорт на прописку. Я записала на бумажку и фамилию, и все, чтобы не забыть, как величать-то его. Да вот бумажку куда-то заховала. Вы уж извините меня.
— Постарайтесь вспомнить фамилию.
— Как-то на «л», Лисицын... нет, не помню. Что-то тоже такое... — помахала растопыренными пальцами в воздухе, — пушистенькое.
— Может быть, Соболев?
— Ой, правильно, Соболев! Точно, Соболев! — обрадовалась и даже перекрестилась.
— Каков он из себя?
— У-у, прямо богатырь! — опять обрела разговорчивость Раиса Семеновна. — Плечи едва в дверь проходят, я ему по грудь буду. Волосы черные, глаза карие, видный мужчина. Я еще Зойке говорила, чтоб держалась за него.
— Откуда он приехал?
— Кто ж его знает! Говорил, что сибиряк. Я к нему с расспросами не лезла. У них свои дела, молодые, что я ему. Как приехал, так и уехал. А отбыл он двадцать шестого мая в обед. Собрал вещички и — с Зойкой на такси.
«За день до убийства, — отметил для себя Нарышкин. — Это он мог сделать, чтобы обеспечить алиби».
— А не говорил Савелий Матвеевич, куда и как едет?
— Ничего не говорил, да я и не спрашивала. Поинтересовалась только, когда его ждать. Ответил, что не знает. А я ведь еще подумала, что он с Зойкой улетает, два билета заказывал через какого-то друга по телефону на двадцать восьмое мая. Только вот куда — не расслышала, уж извините старую.
7
На другой день Николай Николаевич отправил запрос в УВД Магаданской области с просьбой сообщить сведения о Соболеве Савелии Матвеевиче. Затем со ссылкой на номер уголовного «дела» наложил арест на вклады и переписку Хабаловых и, позвонив Морозову, пригласил его и Козлова к себе.
Гроза усиливалась. Он смотрел, как редкие прохожие спасаются от дождя в подъездах. Вот так же поступают иногда и попавшие в беду люди: укрыться и переждать... Внизу остановился знакомый «Москвич». Через пару минут Морозов и Козлов вошли в кабинет.
— Так вот, друзья мои, хочу посоветоваться, что дальше делать будем, — необычно веселым тоном продолжал Нарышкин. — Кое-что и мы за столом раскапываем... — Он подробно изложил содержание вчерашних допросов. — Таким образом, можно предположить, что убийца — любовник Хабаловой, Соболев Савелий Матвеевич, и, может быть, еще один, некий «икс», действовавший в сговоре с ним. Оба улетели из Москвы на другой день после убийства. Верится или не верится, но отрабатывать этот вариант мы обязаны из-за поведения Хабаловой. Слишком уж упорно скрывает она от нас своего возлюбленного. Остается еще и вторая версия — ваша, Борис Петрович. Можно допустить, что Хабалов когда-то участвовал в махинациях, вышел сухим из воды, а какой-то соучастник по его вине осужден. Теперь тот отбыл срок или сбежал, вернулся и отомстил. В таком случае нужно искать не Соболева, а кого-то другого...
— А если Савелий и является этим мстителем из Магадана? — загорелся Геннадий. — Возможно, ранее он был судим, это легко проверить. И вообще здесь все может быть взаимосвязано: Магадан, золотой песок, ювелирные изделия. Он приехал в Москву, соблазнил жену Хабалова — это тоже своеобразная форма мести, потом проломил голову своей жертве и уехал. А еще вероятнее, что это проделал «мистер икс», на которого Соболев заказывал второй билет. Кто он, мы можем поискать по билетным корешкам в Аэрофлоте. Раз летели одним рейсом, скорее всего, и сидели рядом, — Козлов торжествующе посмотрел на товарищей.
— Не спешите с выводами, Геннадий, — предостерегающе поднял ладонь Нарышкин. — И по первой, и по вашей версии надо искать Соболева. Кроме того, необходимо попробовать найти и шофера такси, на котором накануне убийства он уехал с Хабаловой от Бобровой. Очень важно установить, где этот сибиряк находился сутки до отлета. Однако совершенно постороннего убийцу, по версии Бориса Петровича, тоже сбрасывать со счетов нельзя.
— Тем более что и у нас есть новости, Николай Николаевич, — вступил в разговор Морозов. — Вчера вышел на работу Дмитриев из ОБХСС и рассказал кое-что интересное. Оказывается, Конин Олег Сергеевич является одним из продолжателей весьма оригинального метода хищения бриллиантов путем наращивания веса, в котором раньше подозревался Хабалов. Покойного уличить не смогли, он вовремя уволился с «Кристалла». А вот ученик пошел по стопам учителя.
— Что это за метод? — заинтересовался Нарышкин.
— Да вот я почитал кое-что, порасспросил... Каждый огранщик на фабрике получает в работу алмаз, но даже самый опытный мастер не может заранее точно сказать, какой по весу бриллиант получится после огранки.
— Неужели? Вот не думал... — удивился Нарышкин. — Только к нашим-то делам какое это имеет отношение?
— Так вот Конин, по мнению Дмитриева, обобщил и творчески использовал этот опыт. Возможно, он когда-то купил в ювелирном магазине изделия с бриллиантовой крошкой, выковырял их из оправы, и они стали его, так сказать, первоначальным капиталом. Огранивая на фабрике алмазы, он подменял их: себе брал чуть покрупнее, а сдавал свои, поменьше. Математика в цехе простая: десять алмазов взял — десять бриллиантов отдал. Вес особой роли не играет, поскольку потери неизбежны. Конин не торопился, действовал осторожно, постепенно увеличивая вес своего капитала.
— Так, так, — прищурился Нарышкин. — Интересно, почему сей смекалистый фрукт не пришел вчера по вызову на допрос? Я звонил домой, там тоже никто к телефону не подходит. Борис Петрович, вы не могли бы объяснить причину?
— Постараюсь, — Морозов взялся за телефон. — Добрый день, Петр Максимович, Морозов беспокоит. Хотелось бы еще раз поговорить с Кониным. Когда это можно сделать?
— Ничего не выйдет, — огорчил его начальник отдела кадров «Кристалла». — После вашей беседы он больше не появлялся. Вчера позвонила жена и сообщила, что Олег Сергеевич попал в больницу Ганнушкина. Дней через десять навестим от профкома.
Такой поворот событий, казалось, не удивил Нарышкина, он только заметил, что к двум первым версиям убийства Хабалова — «ревность» и «месть» — добавилась третья: «не поделили».
Меньше чем через час Морозов и Козлов, в белых халатах, входили в кабинет главного врача больницы, а еще через некоторое время, узнав причину их прихода, он пригласил в кабинет лечащего врача Конина из психоневрологического отделения Майю Федоровну Коноплеву, а сам взял плащ и, извинившись, уехал в райком.
— Слушаю вас, — подчеркнуто официальным тоном, видимо, чтобы придать себе солидность, сказала Коноплева прямо от двери.
Морозов и Козлов переглянулись, с трудом сдерживая улыбку. Лечащий врач оказалась совсем юным существом со множеством веснушек и замысловатой огненно-рыжей прической.
— Я — старший инспектор Московского уголовного розыска, — в тон ей ответил Морозов, — а это мой коллега лейтенант Козлов. Нас интересует больной, Конин Олег Сергеевич.
— Странно, вы знаете, я почему-то сразу так и подумала, что речь пойдет о нем.
— Вам что-то показалось подозрительным?
— Районный психиатр поставил предположительный диагноз — мания преследования. Но Конин у них не лечился, это первое обращение. Когда он поступил, я довольно долго беседовала с ним. Конин живет на Фрунзенском валу, а там проходит Окружная железная дорога на уровне третьего этажа, и, по его словам, он давно потерял сон и истощил свою нервную систему: ночью поезда идут через каждые восемь минут, он старается уснуть в эту паузу между стуком колес, а оттого, что слишком старается, сон не приходит. Закрыть окна — душно всем, особенно жене с ребенком, они тоже не смогут спать. Пробовал уходить в ванную, стелил там постель на надувном матрасе — не помогало. Принимал снотворное и все равно не спал, утром вставал, как пьяный. А несколько дней назад у него появилась навязчивая идея, что его все время преследует кто-то большой и мохнатый. Стоит обернуться — видение исчезает, прячется, а потом снова за спиной и дышит в затылок, да так, что он ощущает теплоту дыхания. Этот зверь преследовал его и днем и ночью. По словам Конина, из-за этого его стала одолевать мысль покончить с собой. Поэтому и обратился к районному психиатру, а те его к нам направили. Естественно, возможности досконального обследования у них ограниченные, — она произнесла это на одном дыхании и с видом профессионального превосходства посмотрела на оперативных работников. — Таково его объяснение. Но в случае психического заболевания полагаться на субъективные факторы нельзя, поскольку мировосприятие у больных искажено. Сегодня утром на обходе Конин вел себя нормально. Но потом пришел и стал умолять, чтобы я не назначала ему пункцию. Весьма симптоматично. — И, заметив недоумение на лицах собеседников, пояснила: — Это вытяжка из спинного мозга для определения диагноза заболевания.
Морозов с Козловым молча переглянулись.
— Я согласилась, сказала: «Хорошо, будем считать, что у вас не психическое заболевание, а лишь временное функциональное расстройство нервной системы, которое через некоторое время пройдет». Вот тут-то он предложил мне триста, а потом пятьсот рублей, если я подержу его в больнице и проведу курс лечения электросном. А чтобы не было лишних разговоров, стал уговаривать написать ему в истории болезни, что он шизофреник или эпилептик, словом, все что угодно, лишь бы сразу не возвращаться домой и не мучиться от бессонницы.
— А может быть, он действительно до такой степени настрадался, что за возможность нормально поспать несколько дней готов заплатить бешеные деньги? — спросил Козлов.
— Понимаете, нервное расстройство, не говоря уже о болезни, всегда связано с каким-то дестабилизирующим психическим фактором. Ну, скажем, серьезные неприятности на работе, боязнь потерять близкого человека и так далее. В такой ситуации дополнительный дискомфортный момент может стать доминантой. Например, железная дорога, хотя сама по себе она стойкой бессонницы вызвать не может, если человек не отягощен наследственностью и ведет нормальный образ жизни. Весь его дом и жена с ребенком прекрасно адаптировались к шуму железной дороги и бессонницей не страдают. Я пытаюсь найти первопричину расстройства у Конина, но это не так просто. Больные не всегда открывают нам тайны души: иногда боятся, иногда стесняются.
— Майя Федоровна, а Конин только обещал вам деньги или пытался вручить? — поинтересовался Морозов.
— Сначала дал в открытом конверте три сотенные бумажки. Я отказалась. Он вложил в конверт четвертую, потом пятую. Я встала и сказала, что, если он сейчас же не прекратит эту гнусную комедию, я вызову милицию. Он виновато улыбнулся, спрятал конверт в карман пижамы и вышел. Перед вашим приходом нянечка Дуся сообщила мне, что Конин спрашивал у нее совета, как перейти к другому лечащему врачу, Гадуляну Владимиру Владимировичу. Жаловался ей на мою молодость, неопытность. Он рассчитывает, что Гадулян возьмет взятку... Как бы не так. Он честнейший человек! Я даже не представляю, чем бы это кончилось.
— Спасибо вам, Майя Федоровна, — поблагодарил Морозов. — И пожалуйста, улыбнитесь на прощание, улыбка вам очень к лицу. И последнее, если от Конина поступят просьба или заявление о переводе к другому врачу, немедленно сообщите мне.
8
После посещения больницы Морозов решил переговорить с женой Конина и позвонил ей по телефону.
— Добрый день, Александра Михайловна. С вами говорит старший инспектор уголовного розыска Морозов. Не могли бы вы подъехать к нам в управление на Петровку, 38? Есть разговор.
— A-а... собственно, по какому вопросу?
— Тема достаточно серьезная, не для телефона.
— Нет, нет, у меня маленький ребенок, я не могу. Может быть, вы сами подъедете?
— Хорошо. Через полчаса подъеду.
Морозов поднялся на третий этаж, позвонил. Послышались легкие шаги, но никакого вопроса из-за двери не последовало. Морозов увидел «глазок», почти не различимый среди металлических шляпок гвоздей, через который его, должно быть, внимательно рассматривали. Затем щелкнули два замка, и, сдерживаемая цепочкой, дверь приоткрылась.
— Это вы звонили по телефону? — Молодая женщина смотрела настороженно, готовая в любую секунду захлопнуть дверь.
— Да, Александра Михайловна. И давайте сразу же познакомимся, — Морозов протянул удостоверение.
— Проходите, пожалуйста. Извините за осторожность, но мужа дома нет...
В маленькой прихожей — чисто и уютно. Оригинальные украшения сделаны — это сразу бросалось в глаза — руками мастера: с оленьих рогов свешивались светильники в форме кедровых шишек; против зеркала висела продолговатая черная пластина, отполированная до зеркального блеска.
— Это минерал гагат, — пояснила хозяйка, заметив любопытный взгляд гостя, — его называют иногда «черный янтарь». В Древнем Египте заменял зеркала... У меня не убрано, пройдемте на кухню, — просто пригласила она.
В кухне-столовой все выглядело, как на рекламных фотографиях в западных журналах: обои под кирпич и декоративный камень, деревянная резная мебель, сияющий кафельный пол, кухонная утварь на все случаи жизни. Морозов отметил ту же изысканность и в будничной одежде, модной прическе хозяйки. Образ Конина, каким он его запомнил, никак не вязался с этой холеной белокожей женщиной, со всей атмосферой благополучия в доме.
— Мы можем поговорить здесь, только негромко: дочке еще сорок минут спать. — Усадив его за стол, она сказала: — Я слушаю вас.
— Мы хотели поговорить с вашим супругом, но врачи не рекомендуют пока его беспокоить...
Конина в знак согласия кивнула головой, ее лицо приняло внимательно озабоченное выражение.
— Мы ведем расследование убийства Хабалова Федора Степановича. Ваш муж был его учеником и, по свидетельству товарищей, продолжал с ним дружбу, даже когда Федор ушел с фабрики. Мы не можем терять время и, раз Олега нет, просим вас помочь: не припомните ли врагов Хабалова, тайных или открытых?
Конина вздохнула с видимым облегчением:
— Боюсь, мало что могу сказать вам, я ведь его очень плохо знала. К нам Федор приходил обычно один, разговаривали они с мужем о своих делах, меня не посвящали. Изредка, на праздники, ходили и мы к Хабаловым, но близких отношений у меня с Зоей Аркадьевной не сложилось — разный возраст, интересы... Не думаю, чтобы и муж знал что-то для вас нужное, он обычно со мной всем делится. О Федоре говорил лишь, что хороший мастер...
— А что приключилось с Олегом? Может быть, какие-то неприятности на работе?
Александра Михайловна вспыхнула:
— Что вы! Он передовик, столько наград, его ценят, считают отличным специалистом, получает большие деньги... Руки у него золотые, все сам делает, с утра до ночи. Вот и заработал переутомление, нервы сдали... — Она расстроенно покусала губу. — Теперь разговоры пойдут...
— С ним раньше случались подобные срывы?
Конина отрицательно покачала головой, помолчала и, видимо решившись на важный шаг, встала:
— Пройдемте в его комнату... Говорят, о человеке нужно судить по делам.
В маленькой комнате-мастерской стоял шлифовальный круг, на аккуратных подставках лежали державки, тонкий инструмент, лупы, шлифовальные пасты в баночках. В серванте теснилось множество коробочек, отделанных бархатом, со стеклянными крышками, в которых матово светились поделочные камни в оправах и без них. На стенах панно из яшмы, малахита и каких-то других камней. В углу комнаты высилась целая груда невзрачных на вид булыжников, но по сделанным мастером сколам можно было судить об их истинной ценности.
— Глаза разбегаются, — с неподдельным восхищением сказал Морозов. — Здесь, наверное, все подземное царство собрано?
— Ну что вы, в природе насчитывается около двух с половиной тысяч минералов, а сколько у нас в коллекции — я даже не знаю. Муж ведь все время с кем-то обменивается, кто-то ему дарит, кому-то — он. Вот приятель недавно из отпуска полный рюкзак привез, сказал — агаты. Действительно, срезы, характерные для агата и оникса, а оказалось — окаменелое дерево. Волокна под водой веками минерализовались, опал вкрапливался, по твердости не уступает яшме. Смотрите, какой чернильный прибор получился...
Тут она заметила, что Морозов заинтересовался базальтовой глыбой на подоконнике. На срезе переливались мелкие, идеально ограненные фиолетовые кристаллы.
— Видите, какая чудесная аметистовая друза. Это мой камень — талисман. Считается, что он оберегает от пьянства, от недругов, предсказывает погоду, помогает сохранить верность, сдерживает страсти, — неторопливо, тоном опытного гида рассказывала Конина, — вспомните царские кубки из аметиста, и кольцо римского папы обязательно имеет аметистовую вставку... А это кулон из нефрита. Олег только подчеркнул истинную форму камня. В природе он имеет сходство с нашей почкой, отсюда этому камню приписывались целительные свойства. Олег изучает и придерживается традиций уральских мастеров, видите? — она показала тарелочку из малахита в форме листа. — Малахит по-гречески значит «лист мальвы», все
играет в замысле — и цвет, и рисунок камня... Цвет — это очень важно... — Конина вдруг остановилась, поднесла руку к виску, рассеянно поправила прядь, и стало очевидно, что совсем иные мысли прячутся за светским тоном беседы. Взгляд ее остановился на кольце с начинающей зеленеть бирюзой: — Это символично. Зеленеющая бирюза — уходящая любовь, само слово «фируза» по-персидски «камень любви», образующийся из костей умерших влюбленных. Действительно, при минерализации скелетов идет преобразование органического материала...
Морозов, едва дождавшись паузы, прервал увлекательный рассказ о происхождении бирюзы:
— Да, теперь понятно, почему ваш муж попал в больницу. Столько работать дома!..
Конина вздохнула, пожала плечами:
— Да, труд тяжелый, особенно если работать с яшмой или лунным камнем, но ведь это его страсть. А медики, между прочим, утверждают, что увлеченные люди раком не заболевают. И если уж говорить о пользе... мы не всегда бываем так чутки друг к другу, как эти минералы к хозяину. Тот же жемчуг меняет цвет, сжимается, когда его обладатель нездоров или у него неприятности...
— Вы, наверное, о каждом камне массу интересного знаете...
— О многих. И если вам надо будет подарить ювелирное изделие с камнем, можете всегда посоветоваться со мной. А то, например, ку́пите старинное украшение с жемчугом, а оно вскоре рассыплется, потому что век жемчуга — двести лет. Или наоборот — жемчужина с виду невзрачна, потому что жила на больном теле, стоит поносить украшение здоровому — и она очистится. Камни удивительным образом связаны со всем живущим. Помните сказку про рождественского гуся, у которого в желудке нашли бриллиант? Старый способ очистки корундов...
— Олег Сергеевич не взял его на вооружение? — шутливо спросил Морозов.
Конина в тон ему рассмеялась:
— Нет, зарыл знания в землю. Ведь он не работает дома по тем пяти видам камней, которые запрещены к огранке в кустарных условиях. Он чтит закон. — Она замолчала, глядя выжидательно на Морозова.
— Спасибо, Александра Михайловна, за интересную информацию. Нечасто бывает, чтобы жены так разделяли увлечение мужа...
— Но я ведь по образованию искусствовед, и как раз по русскому ювелирному искусству специализировалась, экскурсии водила, теперь вот... — развела руками, показала на детскую: — Муж да ребенок — все мои слушатели. А знаете, не жалею, Олег — удивительный человек, труженик, я только говорю о прекрасном, а он его создает своими руками!
Конина воскликнула это горячо, даже слезы навернулись на глаза. И тут раздался плач проснувшегося ребенка, хозяйка поспешила проводить гостя.
Морозов медленно спускался по лестнице и думал о своих впечатлениях: «Жизненный уровень явно превышает зарплату мужа. Значит, чаша пополняется из других источников. Но вот главный ли из них — золотые руки хозяина, не уверен. Хотя она это усиленно подчеркивала».
Морозов сел в машину и поехал в управление, мысленно анализируя недавний разговор с Кониной: «Надо отдать ей должное — вела игру, как опытный дипломат, каждое слово — неспроста. Так искусно ввернула о монополии государства на огранку пяти камней...»
Поднявшись на шестой этаж здания московской милиции, где размещается УБХСС, Морозов зашел в кабинет Дмитриева. У того за время отпуска накопилось много дел, и он встретил инспектора МУРа прохладно.
— Добрый день, Сергей Григорьевич. Я по вашу душу.
— Ну-ну... Вынимать или мотать будете? — усмехнулся тот.
— Что вы, просто на вас вся надежда: к кому ни придешь, на память жалуются, говорят, только Дмитриев поможет.
— Хитер ты, братец... Выкладывай, что за вопрос.
— Все о том же Конине. Нам он нужен, чтобы выяснить некоторые стороны жизни Хабалова и выйти на убийцу. Пока, по официальной версии прокуратуры, подозреваемый — Соболев Савелий Матвеевич, из Магадана. Мы предполагаем, что он сбывает золотой песок ювелирам-подельщикам. Теперь возьмем пару Конин — Хабалов. Не могли ли они входить в одну фирму? Ссора при дележе и в результате — убийство Хабалова? Возможно, каким-то третьим лицом.
— Нет, — покачал головой Дмитриев, — не то. Мы недавно выяснили, что Хабалов с давних пор имел устоявшиеся связи с перекупщиками и сбывал им камушки. Сначала, видимо, свои, а потом полученные от Конина. По нашим данным, к его старым знакомым относятся Караханян, Патуров, Коган, к более новым — Харчев и...
— Лаевский! — неожиданно сказал Морозов.
— Совершенно верно, — подтвердил Дмитриев. — А вы откуда это знаете?
— Я поручил нашему работнику Козлову найти бывшую сожительницу Лаевского, Ирину Берг. Он нашел ее и предъявил карточку Хабалова. Она подтвердила, что этот человек изредка бывал в особняке Владислава Борисовича, который недавно в беседе с нами отрицал с ним близкое знакомство и утверждал, будто встречался с гравером в магазине «Подарки». Получается неувязочка.
— Совершенно верно. В прошлом месяце Хабалов встречался с ним четыре раза, причем дважды приходил к Лаевскому домой. Последний раз, вероятно, передал тому несколько бриллиантов. И на этом все оборвалось, — развел руками Дмитриев.
— А что именно все?
— Чтобы доказать преступную деятельность расхитителей государственных ценностей, лучше всего поймать их с поличным. Мы уже подготовились, чтобы взять их на крупной сделке, но вдруг выпадает главный наш козырь, Хабалов, через которого шли все связи. Ну а Конин, не получив от гравера кругленькую сумму тысяч в двадцать-тридцать, попал на нервной почве в психиатрическую больницу. Такие вот дела.
— Дела интересные, — задумчиво сказал Морозов, сопоставляя в уме старую и новую информацию.
Его взволновало упоминание о Лаевском. Он не сомневался, что Владислав Борисович предлагал государству часть своей коллекции на двести тысяч рублей не потому, что собрался уйти в монастырь. Не так уж много времени прошло — и снова Лаевский, только теперь он подозревается в скупке краденных у государства бриллиантов. Можно предположить: именно он организовал устранение Хабалова, возможно, заподозрив, что тот «засвечен».
Морозов с уважением посмотрел на Дмитриева:
— Сложная работа у вас, Сергей Григорьевич, не позавидуешь. Сколько же всего нужно знать — от минералогии до технологии производства, голова распухнет...
— Вот, кстати, о голове, я вспомнил один любопытный случай из практики. В шестидесятые годы кто-то из сотрудников музея «Оружейная палата» заподозрил, что в инкрустированной драгоценными камнями сбруе, подаренной персидским шахом отцу Петра Первого царю Алексею Михайловичу, отдельные изумруды заменены искусными подделками. Вы, может быть, знаете, что некоторые образцы этого камня оцениваются выше бриллиантов. Для экспертизы был приглашен смотритель Музея изобразительных искусств имени Пушкина Андрей Александрович Губер. В Оружейной палате ему отвели для работы «комнату-сейф», как он выразился. И вдруг Губер, поработав там денек, занемог. Решил, что съел в буфете что-то несвежее, извинился перед собравшимися. Сбрую положили обратно в хранилище, а Губер поехал домой лечиться. Так повторялось три раза. Решив попробовать в четвертый раз, он, к счастью, вспомнил случай, описанный Кнутом Гамсуном в «Путешествии по России». Один перс, чтобы избавиться от компаньона, русского купца, преподнес ему в подарок шапку с огромным изумрудом и просил как можно реже снимать ее с головы. Только тогда якобы эта шапка принесет владельцу богатство и счастье. Купец послушался, занемог и вскоре умер.
— Что-то из области мистики...
— Это, Борис Петрович, ваше дело — верить или нет. Слушайте дальше: Губер вспомнил, что описанные Гамсуном симптомы болезни совпадают с его, и поэтому решил на всякий случай принять меры предосторожности. Он не приближал голову близко к изумрудам, рассматривал их через бинокулярный микроскоп и старался в течение дня долго не находиться в их «блестящем обществе». Вскоре ему удалось не только констатировать факт очень искусной подделки, но и определить примерную дату хищения — тридцатые годы.
— Разве можно по камню установить время подделки?
— Он объяснил так, что цвет стекляшки не меняется с течением времени, как у природных самоцветов, причем изумруд обладает еще одной особенностью: если он долго лежал в темноте, то как бы покрывается пленкой, которую невозможно стереть фланелью или замшей. Полежав на свету, камень опять приобретает эталонную прозрачность.
— Ну это допустим... — с сомнением протянул Морозов, — а как же люди годами носят драгоценности с этим камнем и не умирают?
— Этот вопрос я тоже задавал Губеру, и он объяснил, что камни — как люди: одних любят, других не выносят.
— Спасибо, Сергей Григорьевич. Все, что вы рассказали, чертовски интересно и познавательно. Мне очень приятно, что именно с вами мне пришлось объединить усилия.
9
Козлову предстояла дальняя командировка — в Магадан. Сборы были недолгими, поскольку свелись лишь к оформлению документов, и вскоре, не успев отоспаться в полете, Геннадий уже находился в Магаданском аэропорту, в шестидесяти трех километрах от города. В управлении внутренних дел дежурный, тщательно проверив документы, проводил его к заместителю начальника по оперативной работе.
Из-за стола поднялся невысокий коренастый подполковник со скуластым морщинистым лицом, точь-в-точь почетный оленевод, какими видел их Козлов на страницах «Огонька».
— Терентий Кузьмич, — как-то по-домашнему представился он, протягивая руку. — Садитесь. Мне уже звонили о вас. К сожалению, пока ничем не можем вас обрадовать, Соболева дома нет. Он почти здесь не проживает. Занимает однокомнатную квартиру, ведет холостяцкий образ жизни, женат не был. Сам уроженец Москвы, попал сюда с родителями. Их выслали по суду как фальшивомонетчиков. Учился в МГУ на геологоразведочном, но не закончил, так как был осужден на пять лет за злостное хулиганство и отчислен с четвертого курса без права проживания в Москве после отбытия срока в течение пяти лет. По сведениям, которые надо еще проверить, Соболев работает бульдозеристом с бригадой старателей по договору с территориальным управлением Минцветмета. Какие есть вопросы?
— Как бы узнать поточнее, где он сейчас?
— Я уже послал в управление Цветмета сотрудника, он принесет список всех бригад и мест их работы. Больше вопросов нет? — улыбнулся подполковник. — Тогда отправляйтесь в гостиницу, вы ведь устали с дороги, номер забронирован.
— Спасибо огромное, Терентий Кузьмич. Как приятно встретить такую теплую заботу в столь холодных краях, — Козлов постарался улыбнуться самой обворожительной из своих улыбок и лихо щелкнул каблуками.
На следующий день оказалось, что человек, занимающийся договорными работами, тяжело заболел, отправлен в больницу на операцию, а другие в его бумагах не очень разбираются. Придется немного подождать. Сколько продлится это «немного», неясно. Поэтому Геннадий решил сам заняться поисками Савелия и под вечер пошел по его адресу. Позвонил в соседнюю квартиру, откуда вышел пожилой мужчина в тренировочном костюме.
— Вам кого? — удивленно осведомился он.
— Мне нужен Савелий Соболев.
— Его нет, — мужчина смотрел на Козлова благожелательно, — а вы кто ему?
— Да так, знакомый. Мне надо было приехать в конце мая, но я задержался в Москве.
— Да, брат, опоздал. Он, по-моему, второго июня прилетел с Колей Ярцевым, тоже москвичом, выпили мы с ними по-соседски, а третьего они с рюкзачками уже отчалили на промысел. Вот куда — сказать не могу. Он вас на прииск приглашал?
Козлов кивнул в знак согласия, разочарованно вздохнул, но уходить не спешил, продолжая топтаться на пороге.
— А вещи вы где оставили?
— В гостинице. Я ведь со вчерашнего дня сюда наведываюсь.
— Понятно... Не везет тебе, браток. Ну ничего, приходи завтра в это же время, что-нибудь сообразим.
10
С утра, ожидая вызова к руководству, Морозов пытался свести воедино результаты работы последних дней, но пока концы не сходились с концами и, главное, интуитивной уверенности ни в одной из своих версий у него не было.
Из задумчивости вывел телефонный звонок из города:
— Здравствуйте, это Коноплева из больницы Ганнушкина.
— Добрый день, Маечка, слушаю вас.
— Сегодня в двенадцать часов Конин выписывается.
Морозов поблагодарил Майю Федоровну и тут же позвонил своему сотруднику Черкасову. Надо было действовать оперативно.
— Слушаю, Борис Петрович.
— Срочно подъезжайте к больнице Ганнушкина и возьмите под наблюдение Конина, водите предельно аккуратно.
Через два часа позвонил Черкасов:
— Борис Петрович, я у дома Хабаловой. Конин сразу же поехал к ней. По телефону дорогой не звонил, контактов не было.
— Он проверял по пути, не следят ли за ним?
— Да, усердно. Сменил три вида транспорта, заметно нервничал. Что делать, если они выйдут из дома вместе?
— Постарайтесь проводить обоих, но лучше их потерять, чем обнаружить себя. Докладывайте с маршрута.
«Итак, сразу после больницы Конин, не заходя домой, направился к Хабаловой. Что это значит? — размышлял Морозов. — Скорее всего, его беспокоит не возвращенный Хабаловым долг, он ведь взял у огранщика для реализации бриллианты на большую сумму и должен был вернуть или их, или обусловленную часть выручки. Видимо, беспокоится, не обнаружила ли деньги милиция».
Морозов позвонил Нарышкину и поделился своими предположениями. Сейчас было важно не допустить промашки.
— Давайте сделаем так: как только Конин уйдет от Хабаловой, пусть Черкасов сразу же пошлет одного сотрудника к ней и пригласит ко мне на срочный допрос. А Конина по возможности не упускайте из виду.
Этот телефонный разговор заставил Нарышкина задуматься. От того, насколько результативно пройдет сегодняшний допрос, во многом будет зависеть успех расследования. Как его построить? Когда вызывают с нарочным, значит, произошло что-то серьезное или получены новые сведения, не терпящие отлагательства. С точки зрения Хабаловой, это внезапное появление Конина, который знает график ее дежурств в жэке, объясним, но после этого на допросе она, конечно, будет настороже...
Телефон снова зазвенел:
— Николай Николаевич, только что по ВЧ звонил из Магадана Козлов, передал вам привет...
— Очень воспитанный молодой человек, — сухо ответил Нарышкин. — И это все?
— Нет. Ему удалось установить координаты прииска, где Соболев работает бульдозеристом. Но заместитель начальника Магаданского УВД говорит, что уход Соболева повредит всей бригаде. Работа остановится, а они всего четыре месяца в году намывают золотой песок, потом стукнут морозы, и все. Козлов спрашивает, как быть, можно ли допросить Савелия на месте и в случае необходимости арестовать или подождать конца намывочного сезона?
— Да, задача сложная. Боюсь, что Козлов располагает недостаточными фактами, чтобы квалифицированно провести допрос и принять решение об аресте. Попросите его организовать контроль прииска. Будем решать.
День у Нарышкина выдался из телефонных звонков. На этот раз звонила Хабалова:
— Николай Николаевич, верните, пожалуйста, записную книжку. Жизнь идет, нужды, заботы, а без нее как без рук, даже знакомым нельзя позвонить.
— Зоя Аркадьевна, мы обговорим это при ближайшей встрече. Я как раз послал за вами нарочного, чтобы пригласить к нам.
— Кто-то звонит в дверь, — сказала она тихо, — наверное, он.
— До скорой встречи.
Нарышкин взялся за составление плана допроса. Он мог бы провести его и без подготовки, опыта у него хватало, но Николай Николаевич был твердо убежден, что этот вид следственной деятельности является одним из основных способов получения информации. От умения определить круг вопросов, от их последовательности и неожиданности зависит успех дела.
— Можно? — спросил сотрудник, доставивший на допрос Хабалову. — Всё по партитуре. Конин вышел, Черкасов за ним, а я к ней. Она вроде бы уже меня ждала. Одета, подкрасилась. Всю дорогу молчала. Даже не спросила, зачем вызывают.
— Вот это выдержка! Что ж, пригласите ее.
Зоя Аркадьевна села, не дожидаясь приглашения.
— Надеюсь, наша беседа продлится не более часа? — спросила она, хмуря тонкие брови.
— Думаю, в этих пределах. Но прежде чем переходить к официальной части, я хотел бы вернуться к вашей просьбе о записной книжке. Отдать ее вам не могу, она приобщена к делу, занесена в опись и, кроме того, очень нужна для следствия. Поэтому давайте сделаем так: вы мне скажите фамилии знакомых, которые вам нужны, а я вам их выпишу и передам. Согласны?
Хабалова отрицательно покачала головой:
— Разве я могу заранее знать, кто мне будет нужен завтра или на той неделе? Вспоминаешь людей по разным поводам.
— Есть еще один вариант, и, наверное, самый приемлемый: я вам сейчас даю записную книжку, вы выписываете все нужные телефоны, а если кого-то забудете, звоните — подскажу.
— Хорошо, давайте.
Нарышкин протянул ей записную книжку:
— Можете сесть за соседний столик, а я, с вашего разрешения, тоже пока попишу, — он углубился в пухлый том следственного «дела».
Минут через десять Хабалова кончила выписывать, спрятала листок в сумочку, вернула записную книжку:
— Спасибо, вы были очень любезны.
— Пожалуйста. Видите, как хорошо можно решать вопросы, когда есть взаимопонимание. А теперь позвольте мне взглянуть на ваших друзей.
— Это еще зачем? — чуть не подскочила Зоя Аркадьевна.
— Опять-таки ради нашего общего дела. Вы ведь хотите, чтобы убийца мужа был найден? — все так же ровно ответил Нарышкин. — В записной книжке больше трехсот фамилий. Вряд ли со всеми вы поддерживаете отношения в последнее время. Если мы получим по вашему списку фамилии наиболее близких знакомых, это значительно облегчит дело.
— Я бы не хотела, чтобы моих друзей таскали на допросы.
— Я тоже не склонен зря терять время. Мы проверяем всех. Возможно, среди них окажутся уголовники, ранее судимые, о чем вы не подозреваете. А нам эти люди небезынтересны.
— По-моему, вы меня обманываете...
— А вы ведете себя странно. То мешаете следствию, боясь за своего возлюбленного Савелия, то теперь не хотите сообщить круг близких знакомых. Что вы пытаетесь скрыть?
— Я... мне... — замялась она, избегая пристального взгляда следователя, — надо знать, для чего они вам понадобились.
— Повторяю: для аналитической работы в интересах следствия.
— Вы им будете нервы трепать... Они же меня проклянут потом!
— Но ведь это — взрослые люди. И понимают, что в жизни всякое случается. Поэтому не стоит упорствовать...
Нарышкин бегло пробежал записи Хабаловой и сразу увидел фамилии скупщиков бриллиантов, которых назвал Дмитриев. Была среди них и фамилия Лаевского. «Вот это улов!» — порадовался он неожиданной удаче, но ничем не обнаружил свою заинтересованность. Затем положил список рядом с записной книжкой.
— Итак, давайте запишем, кто есть кто. Начнем по порядку. Артабекова Тамара Александровна?
— Это зубной врач, а я сейчас очень нуждаюсь в ее помощи.
Нарышкин невозмутимо делал пометки в записной книжке против выписанных ею лиц. Вскоре выяснилось, что один из скупщиков выступает в роли таксиста, приезжающего по ее вызову, другой мог устроить на хорошую работу, потому что на зарплату диспетчера ЖЭКа прожить теперь одной будет трудно. С помощью третьего она доставала дефицитные товары, а Лаевский был нужен ей «для души, с ним обо всем поговорить приятно».
— Зоя Аркадьевна, у меня к вам еще один вопрос. Сегодня наш работник, которого я послал с вызовом, встретил выходящего от вас Конина. Как объяснить его появление у вас?
— А что тут удивительного? Федор был учителем и другом Олега. Он часто навещал нас.
— В этом действительно нет ничего удивительного. Странно другое: Конин поспешил к вам из больницы, даже не заходя домой после выписки. Поэтому попрошу ответить на вопрос, который я заношу в протокол: с какой целью Конин приходил к вам?
Зоя Аркадьевна ответила с неожиданной резкостью:
— Есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
Нарышкин усмехнулся:
— Вы повторяетесь. Точно такая же фраза была, сказана вами, когда речь шла о Соболеве. Неужели ситуации так похожи?
— Я устала от ваших нескромных вопросов. — Хабалова демонстративно отвернулась.
— Допрос еще только начинается. Опишите, пожалуйста, как провел ваш муж субботу, двадцать шестого мая.
— В девять утра мы встали, позавтракали. Я предложила сходить вечером к кому-нибудь в гости. Днем у меня и у него были всякие дела.
— Какие?
— Он собирался в магазин, по-моему, в радиотовары, потом к какому-то приятелю, а я — за продуктами. Вышли мы из дома часов в одиннадцать. Федя сел на троллейбус и поехал к метро. Я зашла в овощной, в молочную, вернулась около часа, приготовила обед, поела, прилегла отдохнуть. Вечером телевизор смотрела.
— С чем ваш супруг поехал к приятелю, что взял?
— Ну... деньги, конечно, раз в магазин, и свой портфель...
— Что он купил и в каком состоянии вернулся?
— Пришел часов в десять, выпивши. А что купил, не расспрашивала.
— Куда он убрал свой портфель?
— Я не понимаю, что вы привязались к портфелю?!
— Прошу точно отвечать на вопросы. Не исключено, что после допроса мы поедем к вам для повторного осмотра места происшествия. И если ваши показания будут расходиться с действительностью, то...
— Вы что, хотите провести обыск в моей квартире?
— Да, если потребуется, — твердо сказал Нарышкин. — Поэтому прошу ответить на мой вопрос: куда ваш муж убрал портфель по возвращении домой?
— Я не видела, — коротко отрезала Хабалова.
Зазвонил телефон.
— Слушаю... Хорошо, Борис Петрович, попросите своих людей повнимательнее смотреть за ним, а сами подъезжайте ко мне.
Зоя Аркадьевна настороженно прислушивалась к каждому слову следователя. Обостренным женским чутьем она догадывалась, что разговор касается именно ее и ничего хорошего не сулит. Ей вдруг стало жалко себя до слез.
— Зоя Аркадьевна, напрасно вы смотрите на меня так осуждающе, — ответил на ее немой укор Нарышкин. — Любое расследование сводится к поиску истины, а вы со мной настолько неискренни, что приходится многое домысливать и вычислять. Ваш муж когда-то работал на алмазной фабрике и ушел, как мне стало известно, не по собственному желанию, а вынужденно. Но у него остался там ученик, Конин, который имел возможность сбывать Федору Степановичу похищенные бриллианты. Ваш муж продавал их через своих старых знакомых, выручку они делили. И вот, получив от Конина камни, утром в субботу, двадцать шестого мая, он взял пустой портфель и поехал к одному из своих покупателей. Вы были в курсе этого, знали, что супруг вернется поздно, поэтому и обедали без него.
— Ничего я не знала!
— Зачем же так кричать?.. Купля и продажа бриллиантов — дело сложное. Покупатель взвешивает их, чтобы лично убедиться, на сколько карат они тянут, рассматривает в лупу качество огранки, игру света, спектр. Ведь при определении стоимости учитывается все: цвет, прозрачность, точки, пятнышки. Каждый отстаивает свою цену, и заключить сделку стоит больших нервов. Ваш муж вечером вернулся домой, разделил выручку — часть себе, часть Конину — и, чтобы расслабиться, выпил. А в пьяном виде, как свидетельствуют соседи, он невыносим, шумит. Ночью с субботы на воскресенье он так разошелся, что сосед Рубцов был вынужден постучать вам в стену, после чего вы утихомирились. Ваш муж, как показывают знавшие его, был запойным алкоголиком. Поэтому, проснувшись в воскресенье, он почувствовал острую необходимость опохмелиться. Дождавшись, когда вы ушли в магазин, это было около одиннадцати утра, он вышел следом за вами и купил в винном отделе две бутылки водки. Вернулся домой перед вашим приходом минуты за три, так что выпить в тот момент вы ему помешали...
Вошел Морозов. Хабалова подозрительно взглянула на него, хотела что-то сказать по поводу услышанного, но не решилась.
— Супруг потом просил вас еще сходить в магазин? — спросил Нарышкин.
— Да, пива и селедку просил купить, а без этого отказывался обедать, вот я и пошла в магазин без пяти два.
Морозов воспользовался наступившей паузой:
— А Конина чуть кондрашка не хватила. Шутка ли сказать: отдал бриллианты Федору, и ни ответа, ни привета. Он ведь к вам сегодня за деньгами приходил?
Зоя Аркадьевна сверкнула глазами и процедила сквозь зубы:
— Я уже говорила, что, как женщина, отвечать на это не буду.
— Тогда я официально предлагаю вам до решения суда сдать деньги, приобретенные вашим мужем спекулятивным путем, — сухо сказал Нарышкин.
— Я ничего о деньгах не знаю, — Хабалова закусила губу.
— Борис Петрович, я выписываю постановление на обыск, получаю санкцию прокурора, а вы организуйте транспорт и понятых, — Нарышкин взял уже заполненный бланк постановления и вышел.
Через полчаса они были на улице Марии Ульяновой. Морозов пригласил в квартиру Хабаловой понятых, а следователь прокуратуры разъяснил им их обязанности.
...Портфель стоял между стеной и письменным столом в маленькой комнате, служившей покойному кабинетом. В нем лежали пачки денег крупными купюрами, сорок пять тысяч рублей, как выяснилось после подсчета. Кроме того, за подвесным потолком в ванной комнате был обнаружен тайник, в котором оказалось еще сто пятьдесят тысяч и коробочка с бриллиантами разного веса.
Тем временем понятые засвидетельствовали факт выемки, опись имущества, изъятие драгоценных и полудрагоценных камней. Они наблюдали за происходящим с неподдельным изумлением, не в силах понять, как у соседа, пьяницы и забулдыги Хабалова, могло таиться такое богатство. На Зою Аркадьевну поглядывали с любопытством и укоризною. А она сидела отрешенно, при каждой новой находке повторяя, что ничего не знает и не видела.
— Зоя Аркадьевна, — обратился Нарышкин к хозяйке, — я думаю, в целях обеспечения тайны следствия и вашей личной безопасности, избрать как меру пресечения ваш арест.
— Да вы что! При чем тут я?! — сквозь слезы простонала она.
— Успокойтесь, — попросил ее Нарышкин. — Мы еще не нашли и даже не установили убийцу. Ясно одно: ваш муж был замешан в крупных спекуляциях, имел большие ценности и погиб от руки неизвестного. В этой ситуации я не могу поручиться за вашу жизнь, тем более что вы от меня постоянно скрываете то одно, то другое.
— Ничего со мной не случится.
— Возможно, но первой я назвал главную причину, вынуждающую меня принять такое решение. Это в интересах тайны следствия. Оставаясь на свободе, вы можете предупредить Конина и других знакомых вашего мужа о происходящем, а это повредит расследованию.
— Хорошо, спрашивайте обо всем, что вас интересует, я все честно расскажу, только не трогайте меня.
— С какой целью приходил к вам сегодня Конин?
— Просил отдать деньги за бриллианты, которые передал Федору.
— Из записной книжки вам потребовались телефоны Лаевского, Патурова, Когана и прочих. Это в связи с просьбой Конина?
— Нет, видите ли... — Хабалова замялась, не зная, что сказать, и в то же время боясь признаться в своих намерениях.
— Только честно, — предупредил Нарышкин, — иначе разговора не получится. А вы в нем заинтересованы не меньше нас.
— Когда Олег потребовал, чтобы я вернула бриллианты или деньги, я сказала, что не знаю, о чем речь. Я действительно не знала. Он стал ругаться и грозить расправой, потом умолял отдать его долю, иначе за себя не отвечает. Я сказала, что он дурак, об этом не кричат на весь дом. Объяснила, что в субботу муж пропадал целый день, а вечером пришел пьяный. Подавленный, Олег испугался: «Его что — ограбили?» Я ответила, что не знаю. Федор был какой-то странный, в воскресенье молчал все утро, потом снова напился, когда я выходила в магазин.
— Как реагировал на все это Конин?
— Сказал, что верит мне, успокаивал. Потом стал просить познакомить с «богатыми купцами», приятелями Федора, обещал за это озолотить.
— На каких условиях он предлагал сотрудничество?
— На детсадовских, — Хабалова выдавила из себя улыбку и пояснила: — Обещал давать мне от каждой сделки десять процентов. А как я его проверю? На это Олег ответить не мог. Я сказала, что в лучшем случае соглашусь быть только посредником, и то мне нужно хорошенько подумать.
— Понятно. Ваше мнение: кто и за что убил вашего мужа?
Хабалова сразу сникла. Она печально взглянула на следователя прокуратуры и тихо спросила:
— Зачем вы все время душу мне бередите? Откуда я знаю?
— Когда Конин должен прийти за ответом?
— Через два дня.
— Так... — задумчиво произнес Нарышкин, — хочу предупредить вас, Зоя Аркадьевна, что на основании статьи Уголовного кодекса вы несете ответственность за разглашение тайны предварительного следствия. — Он неожиданно дружелюбно улыбнулся ей и добавил: — И вообще лучше быть свидетелем, чем соучастником на процессе. А пока у вас шансы равны. Учтите. Я оставляю вас на свободе.
— Спасибо, большое спасибо... господи... да разве я не понимаю... — от растерянности Хабалова не могла найти нужных слов. И вдруг она конвульсивно начала заглатывать ртом воздух, задрожала всем телом, у нее началась истерика.
Морозов быстро подал ей стакан воды. Нарышкин попытался ее успокоить, и Зоя Аркадьевна стала затихать.
— Нет, нет, нет, сейчас это пройдет, — сквозь всхлипы произнесла она, — вот и все, вот и все... Можете за меня не волноваться.
Она встала, подошла к трюмо и стала приводить себя в порядок.
Николай Николаевич подождал, пока она успокоится, пригласил ее и понятых к столу.
— Распишитесь, пожалуйста, в документах...
Когда все формальности были соблюдены, Нарышкин поблагодарил понятых, попрощался с Хабаловой, и бригада ушла, унося с собой деньги и драгоценности. Нарышкин сел в машину к Морозову, и машины выехали на улицу.
— Николай Николаевич, а вы не боитесь, что она помешает ходу расследования? — спросил Морозов.
— Нет, — уверенно ответил Нарышкин. — Натуры у людей разные. Для одних с потерей богатства и жизнь теряет смысл, другим как воздух нужен сам процесс купли-продажи — они игроки. А эта женщина больше всего сейчас нуждается в покое.
11
На следующее утро Морозов собрался идти на доклад к руководству по результатам вчерашнего допроса и обыска у Хабаловой, но его задержал звонок старшего следователя прокуратуры:
— Как там Конин? Присматриваете за ним?
— Черкасов доложил, что он еще дома. Как пришел вчера, так и не выходил. Но свет в кабинете горел почти до утра.
— Вы не будете возражать, если совместно с ОБХСС с двенадцати начнем обыск в квартире Конина? — спросил Нарышкин.
— Полностью согласен. Через десять минут я приглашен на совещание к руководству, вероятно по этому вопросу. Потом сразу позвоню вам.
В приемной начальника управления уже ждал Дмитриев. Они прошли в кабинет. Первым попросили доложить Морозова. Он коротко рассказал, на какой стадии находится розыск подозреваемых в убийстве, что еще намечено сделать и в какие сроки. В заключение подчеркнул, что личность Хабалова, особенно результаты обыска, дает основания предполагать, что тот, возможно, стал жертвой своей преступной деятельности.
— Борис Петрович, — задал вопрос генерал, — вы категорически исключаете участие Хабаловой в подпольных сделках мужа?
— На данном этапе — нет. Неопровержимых доказательств не имеем. Можно предположить, что о чем-то она догадывалась, хотя бы по телефонным разговорам мужа. Поэтому и выписала из записной книжки телефоны «купцов». В том числе в этот список вошел и известный нам по делу Подлунского-Гришина некий Лаевский, художник-реставратор...
— Помню этого миллионера-«мецената», — кивнул генерал.
— ...Есть предположение, что за день до убийства Хабалов продал ему бриллианты, похищенные Кониным с «Кристалла».
— Кто мог знать об этой сделке из числа знакомых убитого?
— Судя по всему, Конин. Возможно, жена Хабалова, ее любовник Соболев, его приятель Ярцев. Другие фигуранты мне пока не известны.
— А вы, Сергей Григорьевич, как считаете?
— Я того же мнения, товарищ генерал.
— Вы уверены, что обыск у Конина может дать результаты?
— По нашим данным, он реализовал только часть бриллиантов, сделал как бы пробный шаг. Наблюдение за Кониным показало, что он встречался только с Хабаловым, причем возвращался от него с пустым портфелем. Следовательно, расчета еще не было. Хабалов, в свою очередь, в последнее время поддерживал контакт только с Лаевским. Двадцать шестого мая, накануне убийства, он вышел из особняка художника, вероятно, с деньгами, сделка, возможно, и состоялась, — обстоятельно докладывал Дмитриев. — Но тогда мы брать Хабалова не рискнули — могла быть провокация. Не окажись при задержании денег в портфеле — и провал всей операции, они затаятся. Больше того, даже если бы деньги были обнаружены у сбытчика — гравера Хабалова, как найти бриллианты в особняке Лаевского, чтобы доказать незаконную сделку?
— Труднее, чем иголку в стоге сена, — поддержал полковник Дроздов, который внимательно следил за ходом следствия.
— Если вы уверены, что тайник у Конина дома, — генерал вопросительно посмотрел на Дмитриева, тот кивком подтвердил это, — тогда медлить ни к чему. Помните, что если не вы, то ваш подозреваемый выйдет победителем и обязательно напишет жалобу на нарушение социалистической законности. Понадобится помощь — звоните, я буду на месте.
Отправив жену с дочкой гулять, Конин засел читать «Основы советского законодательства».
— Кто там? — спросил он, когда в дверь настойчиво позвонили.
— Участковый, откройте.
— Сейчас, только ключ найду! — Конин бросился из прихожей в комнаты.
Было слышно, как он бегал по комнатам, открыл окно и стал кричать: «Саша! Саша!»
— Вскрывайте дверь! — приказал Морозов.
Когда оперативные работники вошли в квартиру, Конин, не глядя на вошедших, кричал в телефонную трубку, что к нему рвутся грабители. Но, видимо, получив соответствующее разъяснение — 107-е отделение милиции было предупреждено, — возмущенно бросил трубку и застыл, по-наполеоновски скрестив руки на груди.
Морозов подошел к окну и взглянул вниз. Жены Конина не было видно. Один из стоявших во дворе инспекторов в штатском подал условный знак, что из квартиры ничего не выбрасывали.
Нарышкин официальным тоном обратился к хозяину:
— Гражданин Конин, вам предлагается до решения суда добровольно передать под охрану государства бриллианты, а также другие ценности и деньги, нажитые преступным путем. Вот санкция прокурора на обыск.
— Здесь какая-то ошибка! Меня оговорили! Я буду жаловаться! — визгливым голосом выкрикнул тот.
— Николай Николаевич, не стоит тратить время на бесполезные разговоры, — прервал его Морозов.
— Пожалуй, вы правы, Борис Петрович. Пригласите понятых.
Работники милиции начали тщательный осмотр наиболее вероятных мест, где могли быть спрятаны драгоценности. Конин наблюдал за происходящим с оскорбленным видом человека, перед которым вот-вот должны извиниться.
Через час после начала обыска вернулась жена с дочкой.
— Что здесь происходит? — недоумевающе обратилась она к мужу.
— Не волнуйся, Сашенька, это какое-то недоразумение...
— А я-то решила, товарищ из милиции пришел посоветоваться относительно кольца для любимой.
Муж взял у нее из рук сумку с продуктами, что-то шепнул, и она сразу обратилась к присутствующим наигранным тоном гостеприимной хозяйки:
— Я не знаю, что там у вас за дела, но, раз уж вы пришли, прошу за стол. Время обеденное.
Услышав вежливый отказ, облегченно улыбнулась:
— Была бы честь предложена... А мне нужно кормить ребенка.
— Одну минуточку, — остановил ее Дмитриев. — Николай Николаевич, я думаю, мы не будем делать личный обыск гражданки Кониной, а занесем в протокол, что для повседневного ношения у нее на руке обручальное кольцо, других драгоценностей нет.
— Я протестую! — взвился Олег Сергеевич. — У жены есть еще личные драгоценности, подаренные ей покойной матерью.
Нарышкин и Дмитриев посовещались.
— Борис Петрович, проводите Олега Сергеевича на кухню. Потом мы вас пригласим, — сказал Нарышкин и, когда дверь за ними закрылась, обратился к Александре Михайловне: — Опишите, пожалуйста, драгоценности, подаренные вам матерью, а понятых прошу засвидетельствовать.
Конины не были готовы к такому повороту дела, и ситуация привела хозяйку в замешательство. Она не знала, с чего начать, и от этого нервничала все больше. Наконец решилась назвать некоторые самые ценные изделия.
— Итак, я записал, — начал перечислять Нарышкин, — золотой перстень с бриллиантом примерно в десять карат; золотые сережки с рубинами по пять карат; золотая брошь в одиннадцать карат; золотой паук, глаза его из двух рубинчиков по одному карату, тело из хризолита в пятнадцать карат; булавка для галстука, золотая, инкрустированная четырьмя бриллиантами по два карата, в центре изумруд. Вес камней назван приблизительно.
— Она что же, из дворян? — спросила ошеломленная соседка.
— Я и ей обязана отвечать? — фыркнула Конина.
— Считайте, что это мой вопрос, я занесу его в протокол.
— Моя мать крестьянка, она работала всю жизнь, а отец, к вашему сведению, погиб на фронте. Ясно?
Обращаясь к понятой, Нарышкин пояснил:
— Да, это правда, отец был сержантом противотанковой артиллерии и погиб под Москвой в ноябре сорок первого. Мать — колхозница из Смоленской области, вырастила трех дочерей, получая наличными от шестидесяти до ста рублей в месяц. А перечисленные камешки стоят, думаю, примерно двести-триста тысяч. Вот только интересно, сколько же досталось двум другим сестрам?
— Мать все драгоценности отдала мне как старшей, она меня больше всех любила, средней — Наталье — достался дом, а младшую — Катерину — мать невзлюбила за распутство. — Конина врала настолько откровенно, что понятые только покачали головами.
— Покажите ваши драгоценности, — предложил Дмитриев.
Растерявшаяся хозяйка подошла к трюмо, нерешительно выдвинула ящичек, но там ничего не оказалось. Прошла в комнату мужа, порылась в письменном столе, в шкафу, но ничего не нашла. На лице ее появилось выражение отчаяния.
Конина пригласили в большую комнату, жена заняла его место на кухне.
— Олег Сергеевич, прошу вас назвать, описать и предъявить драгоценности, подаренные вашей жене ее матерью. — Нарышкин приготовился записывать, но Конин не спешил перечислять их.
— Она вам их уже назвала, и я считаю, этого вполне достаточно. К ее драгоценностям я отношения не имею, — наконец нашелся он, стараясь сохранить независимый вид.
— Допустим. Но почему же тогда вы все-таки взяли их у жены и спрятали от правосудия?
— Повторяю, я ничего не знаю. Вы пришли искать — ищите, а мое дело обжаловать ваш произвол. Вот и все.
Продолжать беседу с озлобившимися супругами было бесполезно. Сотрудники опергруппы приступили к осмотру квартиры.
— Да пустите же меня! — неожиданно раздался требовательный голос Кониной. — Мне нужно в туалет, имейте совесть.
Она оттолкнула Морозова и хотела проскользнуть в дверь, но Борис остановил ее.
— Еще раз прошу простить, но у нас строгие правила — только в присутствии нашей сотрудницы.
— Но это... хамство! — хозяйка невольно попятилась назад.
— Минуточку, — вмешался Нарышкин. Он зашел в туалет, осмотрел крепление вентиляционной решетки, приподнял крышку бачка унитаза: там в целлофановом мешочке лежали названные Кониной «фамильные» драгоценности.
— Товарищи понятые, — пригласил следователь, — прошу засвидетельствовать факт выемки.
— Отдайте, это все мое! — истошно закричала Александра Михайловна, пытаясь вырвать целлофановый мешок, который Нарышкин предъявил понятым. Однако, поняв, что изменить уже ничего нельзя, она отошла и обессиленно села на стул в холле. В отполированной пластине гагата на стене высветился ее профиль, и Морозов вспомнил, как во время первой встречи Хабалова назвала гагат «черным янтарем»...
Обыск шел уже больше восьми часов, но обнаружить неоправленные бриллианты не удавалось. В окна брызнули последние лучи заходящего солнца, которые словно волшебной палочкой вывели Конину из оцепенения. Она прошла в маленькую комнату, которая была тщательно осмотрена, и стала укладывать спать раскапризничавшуюся дочку.
— Ты бы тоже прилегла, — посоветовал Конин жене, — и не переживай... Наши законы не запрещают хранить фамильные ценности, и наше дело — где и как. А на беззаконие мы будем жаловаться.
В гостиной зажгли свет. Часов около десяти Морозов подошел к журнальному столику, на котором стоял хрустальный набор для воды — графин и четыре стакана. Приподняв графин, он наклонил его, чтобы налить воды, и вдруг ему показалось, что по дну что-то перекатывается. Борис посмотрел графин на свет, но ничего не увидел. Снова наклонил — звук повторился. Поднял пробку и заглянул сверху — прозрачная жидкость.
— Давайте, я вам свежей воды налью, — неожиданно предложил хозяин, протянув руку за графином.
«С чего бы такое внимание?» — удивился Морозов. На всякий случай он поднял хрустальный графин обеими руками и энергичными круговыми движениями взболтал воду. Опять послышался характерный звук перекатывающихся в воде камешков, но ничего не было видно. Краем глаза Борис посмотрел на хозяйку, застывшую в дверях: та не сводила завороженного взгляда с графина, беззвучно шевеля губами, словно молилась.
И вдруг в голове Морозова сама собой всплыла вычитанная в книге фраза: «...бриллианты чистой воды... так называются потому, что имеют почти такой же угол преломления, как у воды».
— Здесь они! — радостно воскликнул он.
Раздался протяжный стон: закрыв лицо ладонями, Конин трясся в беззвучных рыданиях.
Когда из графина осторожно вылили воду через марлю, присутствующие увидели на ней шесть крупных и больше десятка мелких камешков, которые заиграли всеми цветами радуги, когда к ним поднесли настольную лампу.
После обыска Конин был доставлен в КПЗ на Петровку, 38. Щелкнул засов, он остался один в маленькой камере. Вторая койка пустовала, и Олег Сергеевич с облегчением подумал, что не придется знакомиться с каким-нибудь подонком, объяснять, как и за что попал сюда. В зарешеченное окно виднелся кусочек неба с несколькими звездочками, одна из них
дрожала.
«Неужели конец?» — подумал он опустошенно.
В голову лезли скверные мысли, одна страшнее другой. Взяли с поличным, хищение социалистической собственности в крупных размерах, ведь бриллианты продаются только в изделиях, а за эти по указу — расстрел.
— Нет, нет, нет! — закричал Конин, пытаясь прогнать охвативший его ужас, испугался собственного голоса и замер, глядя на «глазок».
Неужели это не сон и ему предстоит потерять все: жену, дочь, обеспеченную жизнь, хорошую работу? А может быть, и саму жизнь? Он был не в силах охватить умом всего, что вмещало в себя это слово. «Жизнь, она дается только один раз...» — всплыли в памяти заученные в школе слова. Эх, отупеть бы сейчас, забыться...
Резкий стук дверного засова заставил Конина вздрогнуть. В камеру вошел надзиратель.
— Гражданин Конин, берите постель, можете ложиться.
«Вот я уже только «гражданин», — тоскливо подумал он, послушно шагая за надзирателем. Взял в охапку постель, понес в камеру. Снова по нервам мучительной болью прошелся скрежет засова. Наступила тишина, такая тяжелая, гнетущая, что Олегу показалось, будто он в могиле.
Чтобы не видеть мрачных стен и решетки на окне, Конин бросился на жесткую кровать, уткнулся в подушку и разрыдался. Наступило утро, а он так и не сомкнул глаз в эту страшную ночь. Город наполнился звуками. В КПЗ тоже началось оживление, послышались голоса. Убрали постели, и задержанным стали раздавать завтрак. Получил свою порцию и Конин, но есть не хотелось. Через двадцать минут посуду забрали. Наступило затишье.
Олег попытался обдумать, как вести себя на допросе, но никак не мог сосредоточиться. И вдруг, словно выстрел, короткое: «На выход!» Сгорбившись и волоча ноги, он пошел по коридору.
За столом в кабинете следователя его ожидал Нарышкин. Предложив арестованному сесть, сразу перешел к делу:
— Гражданин Конин, вы обвиняетесь в преднамеренном и систематическом хищении социалистической собственности в особо крупных размерах. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР данное преступление подпадает в разряд особо опасных, подрывающих экономическую мощь нашего государства, и наказывается очень сурово. Как правило, конфискация имущества и расстрел. В случаях полного раскаяния, признания своей вины, оказания помощи органам дознания в полном раскрытии преступления, а также выдачи виновных лиц и соучастников суд может смягчить наказание и дать до пятнадцати лет лишения свободы. — Нарышкин взял авторучку: — Итак, признаете ли вы себя виновным?
— Да, — тихо, не поднимая головы, ответил Конин.
— Расскажите, какими методами вы накопили ваше состояние?
Начало преступной деятельности огранщика с фабрики «Кристалл» полностью соответствовало предположениям Дмитриева. Купил две сережки за две с половиной тысячи рублей, с девятью крохотными бриллиантиками в каждой. Изъял их и стал носить на работу. Когда давали в огранку алмазы, которые после обработки оказывались чуть больше конинских, заменял их. Три года постепенно наращивал их в весе, а когда два достигли размера примерно на десять карат, продал их Хабалову. На часть этих денег купил золотые изделия — броши, серьги, перстни с полудрагоценными камнями и заменил их на бриллианты.
— Вы имеете в виду драгоценности, которые хотели выдать за приданое вашей жены? — уточнил Нарышкин.
— Да, некоторые из них.
— Опишите подробно эти изделия.
Конин кроме названных женой добавил еще два перстня и с тоской сказал:
— Не было у нее до свадьбы ничего. Я ей подарил на свои трудовые обручальное кольцо с бриллиантом, которое она и носит.
— Кому вы продавали нарощенные в весе бриллианты?
— Только Федору Хабалову, а кому он их сбывал, не знаю и не хотел знать. Так спокойнее, хотя мне приходилось отдавать ему камни в несколько раз дешевле, чем он потом за них выручал. Последний раз, в субботу двадцать шестого мая, я отдал ему на продажу шесть бриллиантов. Он обещал вернуть деньги, сорок пять тысяч, в понедельник. Себе за них он оставил раза в два-три больше. В воскресенье я позвонил Федору вечером домой, узнать, как успехи, а Зоя, зареванная, сказала, что его убили. Я не знал, на кого грешить. Сначала засомневался. Приехал к ним, но уже во дворе узнал, что Зоя не соврала: все кумушки у подъезда только об убийстве и говорили. Идти в квартиру побоялся. Кто его прикончил, даже предположить не мог. Ну и за свою жизнь испугался. Вдруг Федора из-за камней убили, теперь могут за меня взяться! Деньги-то огромные!..
— Как вы считаете, кто и за что мог убить Хабалова?
— Не знаю, я же сказал, — пожал плечами Конин.
12
Четвертый день вызывает Нарышкин Конина на допросы. Об убийстве Хабалова, как убедился следователь, тот действительно ничего не знает. Зато в остальном надежда избежать высшей меры наказания заставляет его быть предельно откровенным. Страницу за страницей заполняет Нарышкин интересными деталями о взаимоотношениях с руководителями цеха, о традициях и порядках, которые бытуют на фабрике. Конин даже сам предложил контрмеры, чтобы не допускать хищения бриллиантов путем наращивания веса:
— Все очень просто. Надо ввести правило давать огранщикам камни всегда одного веса, так сказать ввести специализацию по каратам, от и до, а для стимула давать не алмазы с большим весом, а повышать со временем разряд и зарплату.
Старшему следователю прокуратуры, который повидал немало разных людей, преступивших закон, было жаль этого молодого парня с умелыми руками. Характер у него оказался отнюдь не алмазной твердости. Не устоял перед соблазном больших денег, шагнул в сторону, а теперь если ему и не дадут расстрел, то пятнадцать лет лишения свободы обязательно. У Нарышкина бывали случаи, когда преступники, отбыв срок наказания, обращались к нему как к самому близкому человеку: жена ушла, дети выросли чужими, друзья забыли, многое меняется за десять-пятнадцать лет. Даже помочь устроиться на работу некому.
После допроса Нарышкин зашел к Морозову:
— Добрый день, Борис Петрович. Все, что можно было выяснить у Конина, я выяснил. Осталась специфика, которая интересует Дмитриева. Но вот в нашем деле с убийством Хабалова мы не продвинулись ни на шаг, хотя версию «не поделили», видимо, придется отставить. Остаются «месть» и «ревность». Как дела у Козлова?
— В Магадане он организовал все, чтобы доставить сюда для допроса Савелия Соболева и его дружка Николая Ярцева. Распоряжение находится на подписи у руководства. А пока, чтобы не терять времени, займемся Лаевским.
— Вы считаете возможной его причастность к убийству гравера?
— Маловероятно, но камушки-то у него Лаевский покупал. Могу доставить вам на допрос нашего старого знакомого, дворника Ахмета, он убирает и двор особняка художника-реставратора. Думаю, его подтверждение, что Хабалов приходил к Лаевскому, вам не помешает. «Мецената» голыми руками не возьмешь.
— Это, конечно, так, только Ахмет слишком предан Лаевскому, как мне помнится, будет молчать или юлить.
— Не беспокойтесь, я его подготовлю, через час будем у вас.
Ахмет только что кончил поливать цветы перед особняком Лаевского и теперь сворачивал шланг, чтобы отвезти его в сарайчик у себя во дворе. Поэтому Морозов решил подождать дворника в подъезде на случай, если тот пойдет домой. Ему не хотелось, чтобы их преждевременно видели вместе.
Расчет оказался верным. Ахмет даже не стал отпирать сарайчик, а оставил возле двери тележку и сразу направился к подъезду.
— Добрый утро, — с характерным татарским акцентом приветствовал он инспектора, — я сразу вас узнал, подумал, кончать надо, Ахмету вопросы есть. Правильно думал? — хитро блеснул он глазами, словно они были приятелями и расстались лишь вчера.
— Правильно, Ахмет. У тебя глаз острый. Зайдем в квартиру?
— Зайдем, почему не зайти, раз надо. Ахмет всегда тута, все видит, — приговаривал он, доставая ключи.
В холостяцкой каморке дворника ничего не изменилось. Ахмет молча подвинул гостю стул и сам сел к столу, всем видом показывая, что понимает важность появления у него представителя власти и умеет не лезть с ненужными расспросами.
— Ахмет, нам нужна ваша помощь. В розыске находится много разных лиц. Среди них есть мошенники, которые выглядят порядочными людьми, выдают себя за деятелей искусства, втираются в доверие, ходят в гости, а потом грабят или обворовывают хозяев. Сейчас мы поедем в прокуратуру, и следователь официально покажет вам несколько фотографий. Я надеюсь, вы опознаете одного человека, который, по нашим данным, уже посещал художника Лаевского.
— Едем, начальник, Ахмет все видит, — решительно сказал он. Хитринка в его взгляде пропала: дворник явно не остерегался Морозова и был горд, что может помочь.
Минут через пятнадцать они вошли в кабинет Нарышкина. После короткого знакомства с новым свидетелем он пригласил понятых и разложил на столе пять фотографий.
— Прошу посмотреть внимательно, — предложил Нарышкин дворнику, — и указать, кто из этих лиц посещал в последнее время особняк Лаевского.
— У, шайтан! — воскликнул Ахмет, тыча пальцем в фотографию Хабалова. — Этот гада все время к профессору ходит.
— Как часто он приходил к Лаевскому и когда был в последний раз?
— Суббота был, конец мая, перед обедом. И еще раньше раза три. Зыркает все, нехороший человек.
Нарышкин предложил Ахмету и понятым расписаться в протоколе, после чего отпустил приглашенных.
— А вам, Ахмет, хочу еще раз пожать руку. Вы нам очень помогли. Только попрошу другим о нашем разговоре ни слова, даже Владиславу Борисовичу, не стоит его зря волновать.
Ахмет щелкнул ногтем о зуб и с клятвенным выражением на лице молча резанул себя пальцем по шее и, молча поклонившись, ушел.
— Не выдержит Ахмет, расскажет Лаевскому, — с сомнением сказал Николай Николаевич, когда за дворником закрылась дверь. — Слишком уж он предан «профессору». Впрочем, в любом случае мы не в накладе. Во-первых, есть юридический документ, подтверждающий частые контакты Хабалова и Лаевского. А во-вторых, посмотрим, как поведет себя Владислав Борисович, если Ахмет не сдержит свое слово. В любом случае вам, Борис Петрович, нужно получить санкцию руководства и установить круглосуточное наблюдение за его особняком.
Как и предположил Нарышкин, дворник недолго держал в секрете разговор в прокуратуре. Ему теперь все казалось подозрительным, возбужденное воображение рисовало картины одну страшнее другой, тем более что от безопасности и благополучия «профессора» зависел его побочный приработок. Вернувшись вечером в особняк, Лаевский был немало удивлен, увидев сидевшего на корточках у входа добровольного стража. Обычно улыбающееся лицо татарина было настороженным.
— Что-то ты странно выглядишь сегодня, Ахмет. Зайди-ка ко мне, — пригласил Владислав Борисович. — Я все время восхищаюсь твоим трудолюбием, но все же нельзя так много работать, ты ведь уже не мальчик.
Они вошли в дом, Лаевский вынул из серванта графинчик с водкой. Ахмет просиял при виде неожиданного угощения.
— На-ка выпей, расслабься и шагай спать. Да возьми-ка четвертачок за хорошую работу.
От такого внимания Ахмет чуть не прослезился.
— Якши, профессор, — с чувством произнес он, жадно глядя на двадцатипятирублевку.
— А теперь скажи-ка мне честно, что случилось?
— У, шайтан! — в сердцах выкрикнул дворник. — Нехороший человек к тебе ходит, пограбить может, милиция его ищет.
— Ты о ком, Ахметушка?
— Этот тонконосый, худой такой, с усиками, в субботу приходил, когда я цветы сажал.
— Так, так, в субботу, говоришь? Помню. Ну-ка давай все по порядку...
И верный Ахмет передал благодетелю о своем визите в прокуратуру в сопровождении «милиционера в костюме», Морозова.
Лаевский слушал с большим вниманием. Значит, Морозов опять взял его на прицел. Тут было над чем подумать.
— Спасибо, Ахмет, ты хорошо сделал, что рассказал мне обо всем. Этот инспектор слишком уж заботится о моем здоровье. Меня, брат, об стенку не расшибешь, а он думает, что я со страху в ящик могу сыграть... Вот чудак...
— Чудак, чудак, — согласно бормотал захмелевший дворник.
— На́ тебе, Ахмет, за это приятное сообщение еще четвертной, иди домой. Больше ко мне этот тонконосый никогда не придет, сам увидишь. — «Царство ему небесное», — про себя подумал Лаевский и сказал: — Теперь ступай.
Оставшись один, Владислав Борисович сел в кресло, закрыл глаза и задумался. Коль скоро он снова попал в поле зрения милиции, то разыгрывать «случайное совпадение фактов» глупо.
Если раньше ему казалось, что он защищен от них как своей биографией, так и виртуозным умением обеспечивать алиби, то теперь... Стоило вспомнить внимательные, пытливые глаза этого молодого инспектора и вежливый тон следователя, беседы с которым обрастали затем в памяти, как снежный ком, догадками и подозрениями. Во время недавнего визита к Нарышкину Владислав Борисович почувствовал вдруг, что устал и не в силах переломить волю этих людей, внушая им свои версии.
Одно время его позиции упрочились, особенно когда начался суд над Гришиным. Лаевский видел себя блестящим дипломатом, мудрым политиком. И хотя до открытия музея было далеко — в доме шел нескончаемый ремонт, — Владислав Борисович на правах будущего директора имел большие легальные возможности приобретения картин путем любых сделок. Теперь своему положению он не завидовал.
Вроде текла в доме прежняя жизнь, но не было в этой жизни Ирины, и каждый день убавлял надежды на ее возвращение. Временами, когда азарт после очередной покупки спадал, он болезненно чувствовал одиночество. Те массы людей, которым вскоре будет принадлежать его дом, существовали как понятие абстрактное, а любимого существа рядом не было. Ради чего все это, для чего вся жизнь, что ждать в конце? Последние события заставляли не только задумываться над грядущим, но и терзаться в бессильной злобе: к чему богатства, которыми невозможно пользоваться, зачем посвятил всю жизнь наживе, если нет близкого человека, которому можно их передать себе в утешение?!
Утром Лаевский позавтракал, достал свою записную книжку. Сегодня был как раз тот день, когда он мог встретиться со своим старым приятелем-коллекционером из одного западного посольства. Перед тем как звонить ему, Владислав Борисович просмотрел список знакомых таксистов с расписанием их работы. Они приезжали по его первому вызову и получали за это хорошие чаевые.
В это же время пришел на работу и Морозов, распахнул окно, включил приемник. Бюро прогнозов дождя не обещало, температура воздуха плюс тридцать. «Значит, придется ребятам попотеть, день будет жарким», — подумал он. Прозвучал протяжный междугородный телефонный звонок. Звонил Козлов:
— Борис Петрович, я получил разрешение местного руководства относительно доставки на допрос Соболева и его приятеля Николая Константиновича Ярцева. Наряд милиции вместе со мной вылетает на прииск через сорок минут. Послезавтра встречайте. Рейс сообщу дополнительно.
— Спасибо, ждем.
Морозов уведомил Нарышкина, чтобы тот подготовился к встрече «гостей» через день-другой.
— Спасибо, Борис Петрович, четко работаете. Но, откровенно говоря, у меня против Соболева и Ярцева нет прямых улик. А косвенными да эмоциями, сами знаете, заставить сознаться трудно. Поэтому до приезда Ярцева попрошу вас собрать о нем все возможные сведения. Вдруг что-нибудь проклюнется.
Морозов пообещал срочно выполнить поручение следователя. На душе у Бориса было неспокойно. Конечно, работа проделана большая — арестован расхититель Конин, конфискованы большие ценности, после суда частное определение поступит на имя руководства фирмы «Кристалл», там будет наведен порядок. Но ведь есть еще убийца Хабалова, который находится на свободе, и еще неизвестно, как и когда его удастся найти, если Соболев и Ярцев окажутся невиновны?
Снова зазвонил телефон:
— Докладывает Черкасов. Что-то Лаевский ведет себя подозрительно. В начале двенадцатого вышел, покрутился у ворот, осмотрелся, пошел за угол, там встал в тени и ждал. Потом причесался и как ни в чем не бывало пошел в магазин. Никогда раньше этого не делал, за покупками прислуга Даша ходит. Из магазина позвонил ей, та пришла, взяла продукты, а сам он еще полчаса погулял, и домой. Похоже, проверяет, нет ли за ним наблюдения.
— Да, похоже. Ни в коем случае не потеряйте его, если вздумает выкидывать трюки, он на них мастер.
К вечеру жара стала спадать. В учреждениях в это время служащие уже начинают собираться домой, дачники достают из холодильников продукты, молодежь назначает свидания, наступает час пик. Но Морозов даже ориентировочно не мог сказать, когда у него сегодня кончится рабочий день.
Пришел сотрудник со сведениями о Николае Ярцеве, и Борис углубился в их изучение. Его биография как две капли воды походила на биографию Соболева, вместе с которым он был осужден за злостное хулиганство, но получил по суду меньше — лишь год исправительных работ. Близких родственников не имеет, определенных занятий тоже. Его рост, описание внешности и фотография наводили на мысль о мужчине, который, как показали сидевшие у подъезда старушки, вошел туда в день убийства, а обратно не выходил. Вполне мог подняться на крышу и выйти через другой подъезд. Главное, чтобы старушки опознали его.
Но сейчас Морозова больше беспокоил Лаевский, противник серьезный, поединок с которым обещал быть трудным. Борис позвонил на пункт оперативной связи и узнал от дежурного, что Черкасов с минуты на минуту свяжется с ним из автомата. И действительно, почти сразу залился городской телефон:
— Это Черкасов. Докладываю, что ровно в семнадцать Лаевский вышел из особняка с большим тубусом. Как-то растерянно и медленно, ощупывая карманы, пошел к углу улицы. Впечатление было, что он вот-вот вернется. Однако за углом его ждало такси. Он быстро юркнул в машину, и она на большой скорости помчалась в сторону Ордынки. Мы за ним. Таксист лихой, видимо, не первый раз Лаевского обслуживает. Номер записан, можно будет допросить. Попетлял он в районе Неопалимовского, высадил Лаевского за углом, и там объект исчез. Мог уйти дворами или до сих пор отсиживается у кого-то в квартире.
— Перекройте все выходы, поищите во дворах, покараульте на улице, — в голосе Морозова прозвучала досада.
Однако в этот день сотрудникам Черкасова так и не удалось доискаться Лаевского. Часов около десяти вечера он подъехал на такси к своему особняку и с достоинством вошел в калитку. Тубус у него в руках, судя по всему, был пуст.
13
Когда самолет из Магадана коснулся колесами бетона в аэропорту Домодедово, Козлов наконец с облегчением вздохнул. Миссия ему, прямо сказать, выпала нелегкая: найти, уговорить, организовать, доставить на допрос, хотя и в качестве свидетелей, двух здоровенных парней, которые были отнюдь не склонны расшаркиваться перед инспектором МУРа. Правда, они согласились лететь в Москву добровольно, как подозревал Козлов, только потому, что другого выхода не было, но в любой момент могли передумать и скрыться в неизвестном направлении.
Ярцев всю дорогу пытался выведать детали и обстоятельства дела, но Геннадий дипломатично уходил от ответов. Соболев, напротив, пребывал в состоянии отрешенной задумчивости.
Козлову очень не понравился Ярцев. Какой-то он был скользкий, хитрый, нахальный и вопросы задавал с подтекстом: «А что вы будете делать, если в Москве я просто скроюсь или пересяду на обратный рейс?», «А кто нас кормить будет?», «Ах, если за казенный счет, значит, нас арестуют?», «А за кем вы побежите, если мы вдруг бросимся в разные стороны?».
Перед посадкой Ярцев наклонился к Геннадию и в самое ухо прошептал:
— Хочешь в долю?
Козлов изумленно посмотрел на него.
— Чудак, из Магадана ведь золотишко не вывезешь, а ты без досмотра идешь. Я тебе такой кусок отвалю, десять «мерседесов» купишь и на меня прихватишь. По рукам?
Геннадий даже не стал отвечать на эту выходку.
Когда они вышли из аэродромного автобуса, Ярцев все время пытался уйти в сторону, обогнать пассажиров.
— Николай Константинович, — окликнул его инспектор, — не надо так шутить.
Но Ярцев, словно не слыша, перешел почти на бег. В это время из дверей аэровокзала на поле вышли Морозов и Черкасов, преграждая дорогу магаданцу.
— Стало быть, вы тоже из евонной компании? — кивнул тот в сторону Козлова.
— Да, ждем вас, Николай Константинович.
— О, на «вы»! Такое обхождение я люблю. Только какого дьявола, граждане начальники, вы прислали за нами этого глухонемого? Мы бы и добровольно сюда приехали, если нужно...
— Не надо шуметь — пройдемте в машину.
— Нет, — упрямился Ярцев, — не пойдем, пока не объясните, в чем дело...
— Коля, кончай балаган, — мрачно приказал Соболев. — Если ты не знал Хабалова, то я его знал, а ты мой друг.
Первым на допрос к Нарышкину вошел Соболев. Набычившись, он остановился у стола, разглядывая следователя.
— Прошу, Савелий Матвеевич. — Нарышкин указал на стул.
— Благодарствую, — прогремел Соболев и тяжело опустился на жалобно заскрипевший стул.
— Гражданин Соболев, я должен допросить вас в качестве свидетеля по делу об убийстве Хабалова Федора Степановича, мужа вашей любовницы, Хабаловой Зои Аркадьевны, которое произошло двадцать седьмого мая, примерно в четырнадцать часов, у них на квартире. Что вы можете сообщить по этому делу?
— Ничего. Если уж она не может помочь вам, чем я-то могу разродиться?
— Когда и при каких обстоятельствах вам стало известно, что Хабалов убит?
— Поди на нас с Николаем грешите? Из-за Зойки, мол, мужика гробанули? — уклонился он от ответа. — Только зря, тут мы чистые. Так что ищи, гражданин начальник, в другом месте.
— Хорошо, допустим. Тогда прошу вспомнить, где вы были в последние дни перед отъездом из Москвы?
— Это надо сообразить... дайте-ка календарик. Так, с Зойкой я простился в субботу, двадцать шестого. Квартира больше мне была не нужна, я собрал вещи и попрощался с хозяйкой. Приехал к Николаю в Зеленоград, шмотки кинул, потом мы с ним малость погуляли, в кафе зашли. В воскресенье с утра поехали в Москву, ходили по магазинам, вернулись часа в четыре-пять. Больше никуда не выходили. Ну, как водится, поддали перед отъездом, и спать. В понедельник утром взяли такси — и в аэропорт.
— В каких магазинах вы были двадцать седьмого мая в районе двух часов дня? Припомните, пожалуйста, какие-нибудь факты, по которым можно было бы убедиться в правильности ваших показаний.
— Сейчас... Около двух мы были на Неглинной у магазина «Охотник», оказалось, в воскресенье он не работает, ну и мы пошли перекусить в «Полевой стан». Потом зашли в Пассаж...
— И ушли? — с иронией спросил Морозов.
— Да... чинно-благородно. А что?
— Двадцать девятого мая примерно в тринадцать часов вам звонила Зоя Аркадьевна, хотя вы уже улетели. Припомните, пожалуйста, где вы были в это время.
— Где я был? В зале ожидания в Домодедово. Магадан не принимал, и мы с Николаем почти сутки в аэропорту просидели.
— Странно, — не скрыл удивления Морозов, — кому же тогда она звонила из автомата, просила немедленно уехать, а связь поддерживать только через Раю?
— Да вы что! Я как расстался с Зоей, так с тех пор ни звонка, ни писем. От вашего Козлова впервые услышал, что Федора убили. Вы сами подумайте, зачем он мне сдался? Что я, себе враг? Вы и так на меня первого грешите...
Раздался телефонный звонок. Нарышкин снял трубку и передал ее Морозову:
— Это вас, Борис Петрович, Черкасов.
У старшего инспектора сразу мелькнула мысль: что-то случилось, если не успев расстаться, тот уже ищет его. Действительно, новости были интересные.
— Борис Петрович, около четырех часов дня из особняка вышел Рогов, ну, вы помните его, ученик и подмастерье Лаевского. Был он в весьма странном состоянии: возбужденно размахивал руками, разговаривал сам с собой. В свое время он тоже проходил свидетелем по делу Гришина.
Я пошел за ним в надежде что-то услышать, узнать, а Рогов меня увидел, поздоровался, похвалился своей профессиональной зрительной памятью. Разговорился и пожаловался на свою судьбу, сказал, что он теперь остался без работы. Лаевский рассчитал его, дал тысячу рублей и велел больше не приходить.
— Он это чем-то мотивировал?
— Да, объяснил, что реставрацией больше заниматься не будет, уедет от дел на природу, пока поживет в своем «охотничьем домике» — на даче в поселке Березовка по Калужской дороге. Рогов сказал, что Лаевский оделся для загородной поездки, но, пока Даша готовила ему поесть на дорогу, он положил в свой чемодан модные ботинки, замшевый пиджак, еще какие-то импортные вещи и вышел во двор, даже не попрощавшись. Но об этом они узнали через несколько минут, когда обшарили весь особняк, но так и не обнаружили Лаевского.
— Так он скрылся под вашим наблюдением?! — с досадой перебил его Морозов.
— Да, но он вышел не через ворота, а сквозь дыру в заборе, через соседний проходной двор.
— Ладно... Рогов знает, где его дача?
— Нет, его туда никогда не приглашали.
— Оставьте для наблюдения за входом в особняк одного, и все быстро сюда, в управление.
Морозов извинился перед Нарышкиным, ушел с допроса и заспешил в свой кабинет. Там он поделился с Козловым своими мыслями.
После сообщения Черкасова потянулась цепочка вопросов, которые требовали решения, осмысления... Но в одном Морозов теперь не сомневался, что Лаевский знает, в чем его подозревают. Если бриллианты, украденные у государства, будут найдены, то с помощью экспертизы и свидетельских показаний всегда можно установить их законную принадлежность, а это, в свою очередь, повлечет за собой крайние меры наказания. Вероятно, нервы у Лаевского сдали, и он предпочел увезти камни из особняка и спрятать их на даче. Конечно, там надежнее... Но зачем тогда было говорить Рогову, что он держит путь именно на дачу, и рассчитываться с ним, как бы увольняя навсегда? Для такой опрометчивости Лаевский слишком хитер. Ясно, что это сделано с целью, но какой?
Морозов рассказал Козлову о неожиданном повороте событий и спросил:
— Что будем делать, Гена?
— Нужно обогнать Лаевского или хотя бы не слишком сильно опоздать, провести обыск на даче, пока он не успел все как следует припрятать.
— Да, пожалуй, это единственный выход. Если только Владислав Борисович действительно поехал на дачу. Она у него где-то по Калужской дороге. Так что иди к дежурному, посмотри по карте все Березовки вдоль Калужского шоссе, бери машину и езжай. А я пошел к руководству, буду ждать вестей.
Начальник отдела полковник Дроздов встретил Морозова холодно.
— Пока ваша группа работает безынициативно, — жестко выговаривал он старшему инспектору, — плетется в хвосте событий. Убийца не найден, Лаевского, основного перекупщика бриллиантов, упустили, против магаданцев улик практически нет. Конечно, два результативных обыска, арест и признание Конина сбрасывать со счетов нельзя, но тут прежде всего помогла разработка Дмитриева. Что вы намерены предпринять? — сухо закончил Дроздов.
— В первую очередь искать Лаевского. По горячим следам я уже послал к нему на дачу Козлова.
— Непрерывно держите меня в курсе. Желаю успеха.
К себе в кабинет Морозов вернулся расстроенным разговором с начальником отдела, хотя упреки были в определенной степени справедливыми. В то же время Борис понимал, что полковник своей строгостью хочет прежде всего заставить подчиненных думать самих, проявлять оперативную самостоятельность, которая ему так нравится. Другой бы начальник на его месте сейчас все бы перекроил на свой лад, а он нет.
«Что ж, постараемся доказать, что го́ловы у нас не только, чтобы носить фуражки», — мысленно сказал Борис. По своему характеру он предпочел бы сейчас активно действовать, как это делают в данное время Козлов, Черкасов, тот же Лаевский. Однако приходилось сидеть и ждать, анализировать и думать, чтобы в нужный момент из множества путей принять единственно правильный — к истине.
В девятом часу раздался телефонный звонок.
— Борис Петрович, ваш покорный слуга Нарышкин, — зазвучал возбужденный веселый голос. — Как настроение?
— Как у дождевого червя во время засухи...
— Тогда я кстати объявился. Сейчас вы у меня плясать будете. Нашел я убийцу, признался он во всем и раскаялся.
— Кто? Неужели Соболев?! Ярцев?!
— А вот и не угадали. Жена Хабалова, Зоя Аркадьевна.
— Ну и шуточки у вас... — невольно вырвалось у Бориса.
— Не имею обыкновения шутить в таких вопросах. В общем, когда я вызвал ее на допрос и объявил, что Соболев и его друг Ярцев доставлены в Москву, она такую истерику закатила!.. Обвинила меня во всех смертных грехах, потребовала его немедленно освободить и во всем призналась. Вот что любовь-то делает...
— Вот уж на кого никогда бы не подумал.
— И напрасно. Интуитивно я ее давно подозревал. Теперь выяснил, как это произошло. Когда она ходила после двух в магазин, ее муж тоже успел сбегать за двумя бутылками «Русской», отпил одну и спрятал поллитровку где-то в прихожей. Перед обедом, когда жена уже была дома, ему захотелось еще немного отхлебнуть. Она услышала, пришла с кухни и бросилась вырывать бутылку. Завязалась самая настоящая борьба, в которой он ее чуть не придушил. Схватка шла молча, без шума, потому что после ночного скандала стеснялись соседей. Защищаясь, она сгоряча ударила Федора по голове молотком, которым отбивала мясо, а он вместе с бутылкой заперся от нее в ванной и вскоре скончался.
— А может быть, она просто из любви к Савелию решила взять вину на себя? У женщин такое бывает... Есть же показания старушек, что в обеденное время они видели, как чужой мужчина вошел в подъезд и больше не выходил.
— Это я проверил: Ярцева они не опознали. Тот человек, по их словам, был старше и более тучный. Я только сейчас от Зои Аркадьевны. Она дала мне как улику этот молоток, его параметры полностью совпадают с конфигурацией пролома черепа.
— А кому же она звонила из автомата во вторник после допроса? Еще умоляла скрыться...
— Хабалова считала, что за ней слежка с нашей стороны. По телевизору еще и не то показывают... Вот и решила отвести подозрение от себя и направить розыск по ложному пути. Говорила специально громко в надежде, что кто-то из наших услышит. Имя «Рая» вырвалось у нее случайно, она потом очень об этом сожалела. Я понимаю, что все это для вас слишком неожиданно, да и Козлов с его «иксом» будет разочарован, но я проверил все сомнительные моменты и пришел к заключению, что самооговор со стороны Хабаловой в пользу Соболева исключается.
— Ну, Николай Николаевич, спасибо. Нет, не то слово... Вы прямо бальзам на мои раны щедрой рукой полили, — Борис представил сияющее искренней радостью лицо Нарышкина на другом конце провода и готов был его расцеловать.
— Мне бы сейчас еще от Козлова весточку получить и Лаевского к вам доставить для полного счастья...
В радостном нетерпении старший инспектор позвонил полковнику Дроздову, чтобы доложить о признании Хабаловой, но дежурный по отделу сообщил, что тот уже час как уехал с женой в театр.
Потянулись томительные часы ожидания. Наконец в половине первого ночи раздался звонок. «Козлов», — интуитивно почувствовал Морозов и моментально схватил трубку. Он не ошибся.
— Борис Петрович, есть новости. Правда, я нашел только место, где была дача Лаевского. Три часа назад она сгорела. Пожарники уже все залили. Сосед рассказал, что в восемнадцать с минутами Лаевский приплелся на дачу, шатаясь, сильно пьяный. И что самое удивительное — весь сама любезность: достал из чемодана бутылку коньяку и подарил соседу, хотя раньше между ними отношения были довольно прохладные. Заявил, что теперь до конца дней будет только гулять и отдыхать. Потом минут через десять Владислав Борисович снова пришел к соседу, попросил воронку перелить керосин. Тот ее дал, но посоветовал отложить хозяйственные хлопоты до утра. А примерно в двадцать два часа дача Лаевского вспыхнула словно факел. За полчаса сгорело все дотла. Сейчас там работает следователь РУВД, найдены остатки обгорелых костей, возможно, останки Лаевского.
Это был сюрприз. Даже не верилось, что опытнейший делец, продумывающий каждый свой шаг, мог так нелепо кончить жизнь.
— Знаешь, Гена, мне даже жалко старика. Столько лет ловчил, ходил по краю пропасти во имя денег, а теперь все равно его миллионы пойдут государству, которое он старался обмануть. Ведь наследников-то у Владислава Борисовича уже нет. Ну что ж, возвращайся, придется, видно, закрыть это дело.
— Может быть, не стоит торопиться?
— Что ты имеешь в виду?
— Есть тут некий Семен Дубцев, местный житель, правда, он немного пьян, но утверждает, что, возвращаясь в деревню часов в десять-одиннадцать вечера, он еще до пожара видел человека, который вышел из леса, начинающегося сразу за дачами, и сел в такси, которое подошло к скирде возле дороги. В руках у этого человека был чемодан. Когда машина проезжала мимо, пассажира не было видно, вероятно, тот лежал на заднем сиденье. Номер такси Дубцев запомнил — 15-50, а буквы не разобрал...
— Это уже интересно... Ты еще как, Гена, в порядке, ноги ходят?
— Ходят, я их Морозовым стращаю. Какие будут указания?
— Доедешь до первого поста ГАИ, узнай адреса и телефоны первого, одиннадцатого и двадцать первого таксопарков. Раз номер начинается с единицы, значит, машина принадлежит одному из них, все зависит от букв — ММТ, ММЛ или МММ. После этого жми в таксопарки. Машин на линии ночью немного, так что с диспетчерами быстро ее найдешь, особенно если она радирована. Разыщи шофера, который выезжал в Березовку, и сюда.
— Постараюсь.
Итак, сейчас главное для Морозова было проанализировать факты и сделать выводы. Во-первых, Лаевский сам говорил, что почти не пьет. Поэтому его визит к соседу в нетрезвом состоянии выглядит слишком уж нарочито. Хотя, конечно, мог и выпить с горя — попал под подозрение милиции. Но его предыдущие действия — уход от наблюдения в Неопалимовском, бегство через задворки в присутствии Рогова — говорят о том, что Лаевский просто петляет, надеясь выиграть время. В таком случае пожар похож на заячью скидку, чтобы направить оперативников по ложному следу. Значит, нужно искать настоящий.
Морозов посмотрел на часы — начало третьего. Он вскипятил воды, насыпал в стакан две ложки растворимого кофе, поколебавшись, добавил третью. Спать не хотелось, но усталость давала себя знать. А еще томило бездействие.
Тишину нарушил низкий зуммер внутреннего телефона.
— Борис Петрович, я из проходной, привез таксиста, попросите дежурного пропустить.
Водитель оказался коренастым мужчиной средних лет, на лице которого недоумение смешивалось с испугом.
— Наливайко Григорий Кузьмич, шофер первого класса, — представился он, сняв форменную фуражку, и не торопясь сел на предложенный стул. — Напарник болен, поэтому я сегодня вторую смену прихватил, потом отосплюсь... — чувствовалось, что он человек обстоятельный, любит поговорить. Но Козлов опередил его:
— Борис Петрович, коротко, чтобы не повторяться. Григорий Кузьмич мне уже рассказал, что знает Лаевского несколько лет. Тот всегда звонил ему накануне домой, когда было нужно куда-нибудь ехать. Такси подается в нужное место к определенному часу, чаевые Лаевский давал щедрые, не скупился. — Таксист в знак согласия кивал головой. — А вот в отношении вчерашнего дня он многое запамятовал, поэтому я и привез его сюда. Надеюсь, по дороге кое-что вспомнил.
— Просто не хотел трепать языком, — с достоинством возразил Наливайко. — Почему я первому встречному, хоть бы и инспектору, должен рассказывать, что и как? На работе знают, что я зря слова не скажу, никогда людей не подводил.
Морозов достал бланк допроса.
— Григорий Кузьмич, я веду розыск некоего гражданина Лаевского Владислава Борисовича, который пока проходит свидетелем по делу об убийстве Хабалова.
— Откуда мне знать вашего Хабалова? У меня на эту букву клиентов нет и никогда не было.
— Я попрошу вас отвечать на те вопросы, которые будут заданы. Когда и во сколько позвонил вам Лаевский Владислав Борисович, о чем просил?
— Вчера утром он позвонил мне домой и велел подъехать с другой стороны проходного двора к трем часам, затем я завез его в винный магазин, в гастроном, булочную, а часам к шести доставил в Березовку. По дороге туда он показал мне место около скирды и велел подъехать туда точно, ни раньше, ни позже, в двадцать один час тридцать пять минут. Я — всегда пожалуйста, выполнил все, как он просил. Потом отвез на Народную улицу. Он дал мне полсотни, попрощался, и я уехал. В зеркальце видел, как он вошел во второй подъезд, что от ближнего угла. Вот и все.
— Лаевский как-нибудь объяснил вам, почему нужно подъехать именно к скирде да еще поздно вечером?
— Нет, он похвалил за точность и сказал: «Пусть сосед меня поищет, а теперь к Таганской площади».
— О чем говорили по дороге? Как он был одет?
— Молчал, как всегда, дремал. Одет был хорошо, солидно, а во что точно — не помню. Какой-то темный плащ, берет, чемодан у него был с ремнями.
— А попросил вас Лаевский позднее подъехать за ним на Народную?
— Нет, попрощался, и все.
Морозов записал адрес Наливайко, телефон, номер удостоверения и отпустил, хотя ему очень хотелось высказать свое мнение о поведении этого любителя щедрых чаевых. Козлов проводил таксиста до проходной, а вернувшись, застал Бориса с прижатой к уху трубкой.
— Так, хорошо, — говорил он и что-то записывал. — А еще кто-нибудь заказывал?.. Нет? Если поступят заказы, немедленно позвоните мне или дежурному, — он продиктовал телефоны.
Морозов положил трубку на рычаг и задумался.
— Итак, можно считать установленным, что наш миллионер не сгорел вместе со своей дачей. — Козлов молча кивнул, выжидательно глядя на Морозова. Сейчас многое зависело от того, что он решит, и Геннадий не хотел мешать своими предложениями. — Скорее всего, трюк с пожаром преследует все ту же цель: выиграть время, чтобы успеть окончательно замести следы. На Народной Лаевский долго не засидится. Мне кажется, есть одна зацепочка: в диспетчерскую поступил заказ на такси на Народную для господина Краузе к девяти утра. Попробуем потянуть за эту ниточку...
Старший инспектор связался с Черкасовым и дал задание подъехать с бригадой на Народную улицу и покараулить там Лаевского. В случае его появления — задержать, чемодан и прочие вещи оставить у него в руках и сразу же доставить в прокуратуру к Нарышкину, который будет предупрежден.
— А если объект выйдет в сопровождении? — спросил Черкасов.
— Зафиксируйте — с кем. На машину и за ним, с маршрута докладывайте, по ходу будем решать. Я — на месте.
Опыт и интуиция подсказывали Морозову, что операция вступила в завершающую фазу. Или они возьмут Лаевского с поличным, или он опять придумает что-то невероятное, и тогда его разоблачение снова может затянуться на неопределенный срок. Придется не только держать ответ перед руководством, но — а это главное — начинать все сначала.
В десятом часу позвонил Черкасов:
— Борис Петрович, я из автомата на Народной. Подошло такси, и из второго подъезда вышел толстый бородач. По походке немного похож на Лаевского, но одет иначе, чемодан другой и вообще что-то не то... Что будем делать?
Морозов быстро прикинул возможные варианты:
— Поступим так: двоих с машиной оставьте на Народной, а сами догоните такси и не спускайте с бородача глаз.
Вскоре Черкасов сообщил дежурному по рации, что следует за такси в направлении Шереметьевского аэропорта. Пассажир-бородач в машине. Морозов взял у дежурного оперативную машину и тоже помчался в Шереметьево, попросив передать Черкасову, чтобы тот ни в коем случае не обнаруживал себя раньше времени.
Выполнить это указание было не так-то просто. Часы пик, Ленинградское шоссе забито машинами, а тут еще попался лихой таксист, который то и дело менял рядность, проскакивал в «окна», временами развивал недозволенную скорость, заметив впереди патрульного или машину ГАИ, тормозил, а потом снова жал на газ. Черкасову стоило больших усилий создавать видимость дисциплинированного водителя и в то же время не упускать такси из виду.
В Шереметьево бородач вышел из такси, взял чемодан и не спеша направился в здание аэровокзала. Черкасов с одним из своих подчиненных вошел следом и занял место, удобное для наблюдения. Ничего общего с Лаевским, если не считать походки, у пузатого респектабельного бородача не было. Шло время, к нему никто не подходил. До посадки на венский рейс оставалось полтора часа, и вылетающих пригласили пройти в зал таможенного досмотра.
В это время подъехал Морозов и незаметно условным жестом отозвал Черкасова в укромный уголок возле киоска Союзпечати.
— Борис Петрович, кажется, мы здорово смитрофанили, — надо бы связаться с бригадой на Народной.
— Я только что говорил с ними, Лаевский не выходил.
— Что будем делать? А вдруг этот бородач действительно иностранец и его задержание может вызвать нежелательные последствия?
Между тем их подопечный взял чемодан и подошел к барьеру для таможенного досмотра. Борис обратил внимание на его ботинки, носки у которых слегка загибались вверх. «Как у Лаевского, — подумал Борис, — видимо, широкая ступня, берет обувь на два размера больше». Вдруг бородач повернулся в их сторону, встретился глазами. В какой-то миг Морозов прочел в них удивление, страх, растерянность. Но они промелькнули и исчезли. Толстяк отвернулся и не торопясь направился к досмотровым столам.
«А вдруг Лаевский! Сейчас он уйдет в самолет! — Морозов весь напрягся. — А если все-таки ошибка? Недоразумение, жалобы, нота протеста... Настоящий Лаевский еще на Народной, а мы крутимся здесь как... А если он загримированный? Тогда уйдет навсегда... Эх, семь бед — один ответ!»
Сотрудники уголовного розыска подошли к стойкам. Таможенники с удивлением смотрели, как люди в штатском, без вещей, в нарушение существующих правил вдруг проходят в досмотровый зал.
— Владислав Борисович! — громко позвал Морозов, подойдя к бородачу сзади.
У того как от удара дернулась голова, но толстяк, не оборачиваясь, продолжал открывать замки своего чемодана, хотя многие из пассажиров повернулись в их сторону. Морозов обратился вторично и дотронулся рукой до плеча иностранца. Только после этого бородач слегка повернул голову и спокойно спросил:
—
Вас ист лос?
У Морозова отлегло от сердца: на него смотрели редкие по цвету, рыже-зеленые глаза Лаевского. Да, это был он, хотя и с усами, шкиперской бородкой. Роговые очки дополняли маскарад, делая его почти неузнаваемым. Борис не отрываясь смотрел в эти очень живые, выразительные глаза и чувствовал, как вся усталость и нервное напряжение, достигшие предела в эти дни, постепенно уходят.
— Ничего не случилось, Владислав Борисович, прошу взять свои вещи и пройти в комнату милиции. Помогите ему, — обратился он к сотрудникам.
Черкасов и один из сотрудников подошли к задержанному и встали с двух сторон.
— Чемодан возьмите сами, Владислав Борисович, и хватит притворяться. Теперь это уже глупо, — спокойно сказал Морозов и, обращаясь к таможеннику, попросил: — Верните документы и назовите, пожалуйста, вашу фамилию, вам придется быть свидетелем.
Пока Морозов записывал, иностранцы с интересом наблюдали за происходящим. Лаевский в глубоком раздумье пошел в комнату милиции. Он не обращал внимания ни на сопровождавших его сотрудников, ни на любопытные взгляды проходящих досмотр пассажиров.
В помещении милиции его усадили на стул.
Он поднял глаза от пола и, казалось, ожил, когда в кабинет вошел старший инспектор МУРа. Нетерпеливо мотнув головой и наморщив лоб, Лаевский заговорил каким-то надтреснутым, не своим голосом:
— Я бы хотел, уважаемый, высказать определенное неудовольствие в ваш адрес и смею заверить, что, если у вас есть совесть и самолюбие, вы предпочтете разговор тет-а-тет.
Дежурный предложил им пройти в соседнюю свободную комнату, где Морозов с Лаевским остались наедине.
— Радуетесь, Борис Петрович? Торжествуете? — с мукой в голосе спросил Владислав Борисович. — А ведь в происшедшем виноваты вы. Да, да! Все остальное — следствие ваших поступков, вашего давнего бесцеремонного вмешательства в мою жизнь. Вы скомпрометировали меня в глазах любимой женщины. Ирина ушла... начала трудовую, так сказать, жизнь... — Он закашлялся, долго не мог остановиться, словно последняя фраза застряла у него в горле, как кость. — А я? В моем возрасте искать утешения с другой? Может быть, вам трудно понять, что это невозможно... Я знал Ирину еще ребенком, столько в нее вложил... каждая вещь о ней напоминает. Что мне было делать? Пить? Стреляться с вами? Добро бы — вы ее для себя увели, так нет — вроде как пряник из рук вышибли, сами лакомиться не стали и другому взять не дали... Так порядочные люди не поступают.
Морозов невольно улыбнулся: Владислав Борисович и в трудную, критическую минуту не терял способности выражаться с пафосом. Морозов не перебивал, решив набраться терпения и узнать, к чему приведет столь трогательно начатая исповедь. Мелкая месть не облегчит душу такому, как Лаевский. Едва ли он надеется разжалобить инспектора МУРа...
— Вы еще молоды, вам не понять, как может одиночество взять старика за глотку, если вдруг на него свалилось такое горе. Вы скажете: ученики, друзья? Во-первых, я слишком хорошо знаю им цену, во-вторых, оставшись здесь, я бы все время чувствовал себя брошенным. Вот так я и вышел на одного покладистого туриста, который за перстень с крупным бриллиантом отдал мне свой иностранный паспорт. После моего отъезда он должен заявить, что потерял его. В свою страну он в любом случае попадет. Впрочем, не о нем речь... — Лаевский помолчал, как бы давая Морозову время осознать услышанное.
— У меня, Борис Петрович, есть все основания вас ненавидеть. Но наши эмоции подчиняются обстоятельствам, а над ними мы, увы, не властны. Вы оказались сильнее, а я... весь нашпигован драгоценностями, миллионов на пять. Вы представляете, что значит все это потерять?
Сейчас перед Морозовым была карикатура на знакомый образ Лаевского — трясущиеся руки, прилипшие к вспотевшему лбу волосы, блуждающий взгляд.
— Я, конечно, понимаю, что сейчас вы не сможете взять да отпустить меня. Так вот... оставьте мне только фамильные драгоценности на пятьсот тысяч. Везите на Петровку, обыскивайте, составляйте опись. Экспертам не составит труда установить, что эти драгоценности изготовлены задолго до революции. А остальное — вы понимаете? — остается у вас. Когда все утрясется, вы мне вернете половину, вы же человек честный... Государству я отдам всю коллекцию...
— Интересное у вас представление о честности, — Морозов встал и сделал шаг к двери.
Лаевский с поразительной быстротой опередил его, вцепился в рукав.
— Что вы делаете, безумец? — шептал он, сбиваясь на хрип. — Мне же будет конец... Неужели думаете, что я смогу вас выдать? Или шантажировать? Да можете мне вообще ничего не отдавать! Это и то лучше, чем все разом никому, никуда... — Он заскрипел зубами, комкая в пальцах рукав Бориса. — Что вы теряете? Надо проработать всю жизнь, и то это будет мизер по сравнению с тем, что вы сейчас получите...
Морозов сдавил ему руку в запястье, и пальцы разжались.
— Ответьте мне только на один вопрос: почему, скопив такой капитал, вы продолжали мошенничать?
— Видите ли... Существует неписаный закон, который я давно постиг. Встав однажды на этот путь, свернуть с него нельзя. Те, с кем я был завязан, глупы, жадны и поэтому рано или поздно должны к вам попасть. Представьте, что незадолго до их ареста я отказался бы от их услуг. Пусть даже кто-то из них попался после этого по своей глупости. Все равно в первую очередь они будут подозревать в предательстве меня и соответствующим образом представят дело на суде. Вот поэтому я старался держать их в руках... Не представляете, как все это выматывает, — ждать, что вот-вот за тобой придут...
Лаевский искательно заглянул в глаза Морозову:
— Подарите мне жизнь... Так мало лет мне осталось пожить спокойно. Вы же верите, что я уже не способен ни на какие аферы после этого краха?
«Да, этот старый прожженный мошенник больше не совершит никаких афер», — Борис невольно кивнул своей мысли. Но Лаевский понял его по-своему: он торопливо задрал на себе рубашку и стал лихорадочно разматывать пояс, в котором были зашиты драгоценности.
— Товарищи, — Морозов открыл дверь, — прошу всех заходить, и понятых тоже...
Эпилог
Через два месяца после задержания Лаевского состоялось судебное разбирательство, в результате которого виновной в убийстве Хабалова Федора Степановича была признана его жена Хабалова Зоя Аркадьевна. Учитывая, что своими действиями она пыталась ввести следствие в заблуждение, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества мужа, нажитого преступным путем.
Огранщика Конина Олега Сергеевича незадолго до вынесения приговора судебно-медицинская экспертиза признала душевнобольным. Симулируя шизофрению, он настолько истощил свою нервную систему, что заболел на самом деле. Решением суда Конин был направлен на лечение в психиатрическую больницу специального типа. После излечения состоится повторный суд, который определит ему меру наказания.
После выяснения следователем Нарышкиным истины Соболев и Ярцев уехали обратно в Магадан, заявив, что к органам дознания у них нет никаких претензий.
Владислав Борисович Лаевский не дождался решения суда: он умер от инфаркта миокарда. Похороны были скромными: кроме домработницы Даши, Ирины Берг и дворника Ахмета, никто не провожал его в последний путь.
Ширма

Часть I
Глава 1
Был на исходе необычно теплый для москвичей май. Вода в автомате слабо пенилась. Валерий сделал несколько глотков, остальное вылил, передал стакан молодому мужчине, проворчал:
— Делают на нас бизнес, сволочи! Говорят, на одном сиропе тысчонку имеют. Пора к ним перебираться...
Мужчина пожал плечами и, увидев, что Валерий садится за руль служебной «Волги», оживился:
— А я смотрю — и у тебя место неплохое... Слышь, подбрось на Ордынку.
— Не могу, — сказал Валерий с сожалением, — пора к руководству.
Он лихо подрулил к дому, где жил директор кожгалантерейной фабрики, затормозил и открыл свою дверцу.
«Прибыл, госпожа ты мать наша начальница, — мысленно произнес он, глядя, как жена его шефа Раиса Семеновна с достоинством выглянула в окно, уверенная, что так шелестят шины только «их» персональной. — Прикажешь казнить или миловать...»
Он еще раз достал повестку с вызовом к инспектору ГАИ во вторник к одиннадцати часам, дважды перечитал и быстро убрал. Из подъезда вышли Раиса Семеновна налегке и Поликарп Фомич с двумя объемистыми сумками в руках. Всё погрузили в багажник. Как всегда, Раиса Семеновна села первой на заднее сиденье, директор — за ней и сразу принялся просматривать газеты.
— На дачу! — коротко распорядилась Раиса Семеновна, хотя еще с вечера все было обговорено и Валерий прекрасно знает, что это за дача — дом в деревне, доставшийся по наследству.
Ну, хочется им, чтобы это называлось дачей, и пусть — Валерию нравится работать на персональной: заработок приличный, время свободное есть, и директор, в отдельности от супруги, вполне приличный человек. На ее командирский тон он научился внешне реагировать вполне достойно, а в душе посылал куда подальше, но... не сейчас. Сейчас на душе лежала тяжесть — он все время ощущал в кармане повестку к инспектору ГАИ.
Поездка на дачу, как всегда, оборачивалась маленьким кругосветным путешествием — надо было по дороге заезжать в соседние деревни, где жили школьные приятельницы Раисы Семеновны, чтобы они знали, какой многоуважаемый человек ее муж, а она и того больше, раз руководит им.
Валерий остановил машину у знакомого крыльца и помог внести вещи. Из близлежащих домов высыпала родня, а некоторые, видимо менее приближенные, смотрели из окон.
— Побудь пока здесь, Валерий, — обратился к нему Поликарп Фомич, — возможно, к обеду сгоняем на станцию.
Время у водителя персональной всегда тянется медленнее, чем у людей других профессий. Лежа на влажной траве, он надеялся, как всегда, без снов и сомнений, вздремнуть, но в голову словно клином забило одну только мысль — явиться завтра к инспектору. И черт его дернул связаться с этим «левым» пассажиром... Он даже облегчение испытал, услышав требовательный зов Раисы Семеновны. Подошел к машине, на заднем сиденье уже ждали две женщины, смотревшие в затылок директорше с немым обожанием.
— Расторопности тебе не занимать. Отвези нас в Пряхино.
— Без распоряжения Поликарпа Фомича не могу... — И поспешил пояснить, увидев, что она едва не задохнулась от гнева: — Шеф сам поехать собирался.
— Ты что?! Если я говорю, значит, все согласовано. Поехали!
— Не велено, — неожиданно уперся Валерий.
Женщины на заднем сиденье притаились. Раиса Семеновна сузила глаза:
— Ну ладно... сбегай на речку, там тебе шеф так подтвердит...
— А я, так сказать, при исполнении... велено быть здесь.
Дело пошло на принцип. Он грыз конец травинки. Раиса презрительно скривила рот, процедив:
— Ла-адно, коль такой исполнительный...
И через несколько минут она уже вела за собой с речки мужа. Тот с трудом поднимался в гору, сильно потел, отдувался.
— Ты что это итальянскую забастовку устроил?
— Вы же сами сказали...
Он тяжело вздохнул, махнул рукой:
— Ладно... езжай сейчас в Пряхино. Раиса покажет куда.
Всю дорогу пассажирки отчужденно молчали, и от этого он устал больше, чем от заковыристой сельской дороги, где каждая кочка требовала, чтобы ей поклонились. На счастье, время подходило к обеду, и вернулись они в Березняки быстро, как раз когда накрывали на стол. На сей раз Валерия в дом не пригласили. Он постоял перед открытыми настежь окнами, из которых доносились запахи щей, свежих огурчиков, теплого хлеба, раздумывая, как быть — спросить разрешения уехать в буфет на станцию или рискнуть без разрешения. Но сейчас, перед грядущим визитом в ГАИ, ему не хотелось попусту гневить начальство, мало ли — могут характеристику с места работы запросить. А Раиса Семеновна... вернее, накрученный ею Поликарп Фомич такое тогда напишет! Дернул же его черт связаться с тем бородачом да еще удирать с ним от милиции — вот теперь и дрожи и язык вместо обеда соси!.. Тут из дома вышел мальчик с куском пирога в одной руке, кружкой с молоком — в другой.
— На, дядя... — И нахально ухмыльнулся: — Тетя сказала, что надо кормить козла, чтоб веревку не порвал...
Валерий вначале онемел, а потом как ни в чем не бывало взял пирог и кружку, откусил кусище, громко отхлебнул:
— Передай тете, малец... гранд мерси!
— Это как?
— Она поймет, это по-козлиному — спасибо.
Солнце стало клониться к западу, когда из дома вышел заспанный Поликарп Фомич и отпустил его домой, приказав приехать за ними в воскресенье, к девятнадцати часам.
Свернув с проселочной дороги на Московское шоссе, Валерий увидел отчаянно жестикулирующую фигуру, в сумерках было не понять кто — мужчина или женщина. Валерий сбавил ход.
— Шеф... — (теперь и Валерий был шеф), — домчи до Москвы.
— Даром только бабочки летают...
— Понятно. Твоя десятка... — согласился молодой человек и, сев рядом, вытащил серебряный портсигар, предложил Валерию сигарету. Закурили. Они были одного возраста, и между ними мгновенно установился контакт, который бывает у взаимно обязанных людей. У попутчика рот всю дорогу не закрывался. Подъезжая к Москве, он начал рассказывать длинную историю, и так эмоционально, что Валерию не удавалось даже вставить фразу.
— ...и вот она стала моей невестой, ее как раз и встречаю. К Курскому заворачивай... Когда мы познакомились, ей было восемь лет, мне шестнадцать, представляешь, сейчас ей — восемнадцать, а мне соответственно... а потом разницы вообще никто не заметит... жизнь она, знаешь, женского рода, а баба бабе спуску не дает...
Когда Валерий затормозил у вокзала, пассажир достал двадцать пять рублей — мельче не было. Не выпуская денег из рук, предложил:
— Слушай, друг, а может, подождешь? Поезд приходит в двадцать два, через десять минут. Отвезешь нас на проспект Мира, а я тебе за это небрежно брошу четвертак и скажу: «Сдачи не надо!» Идет?
Валерий улыбнулся и согласился. Так он проторчал на стоянке больше часа, пока наконец не догадался, что ждет напрасно. Но даже когда отъезжал от вокзала, на всякий случай поглядывал в окно, все еще на что-то надеясь. Затем решительно нажал на акселератор, машина взревела, и он на скорости помчался по Садовому кольцу. И вдруг милицейский свисток.
— Ч-черт... на красный проскочил! — но, увидев, что от милиционера его загородил грузовик, сильнее нажал на газ. Теперь — будто решал и действовал за него только страх — он свернул в первый попавшийся переулок, затем в другой, все увеличивая скорость, в третий, и вдруг... но было уже поздно. Душераздирающий визг тормозов, глухой удар, и женщина, что метнулась перед его машиной черной тенью, упала и замерла на мостовой. Он выскочил из машины, увидел только длинные белые ноги, протянувшиеся по асфальту, и опустился опять на сиденье.
В переулке никого не было. Ветер раскачивал висячий фонарь, высвечивая то один кусок улицы, то другой. Нигде никого, никаких свидетелей...
И вот с потушенными фарами петляет по московским улицам и переулкам черная «Волга». Наконец Валерий выдохся, остановился, осмотрел, в каком состоянии машина... вот оно тайное, что станет явным, как только он покажется в гараже: вмятина на левом крыле, разбитая левая фара, погнутый декоративный облицовочный ободок.
Он сидел, беспомощно опустив руки, тупо глядя перед собой. И вдруг увидел, что прямо на него идет сотрудник милиции. Валерий включил двигатель, развернулся и помчался обратно.
Через несколько минут он уже был на своей автобазе. Щедро одарив сторожа и диспетчера сигаретами, пошел заниматься машиной.
— А что случилось? — спросила диспетчер.
— Так, ерунда. Когда ехал по окружной, чуть в лося не врезался, ну — толкнул слегка. Махина такая...
Почти до утра возился Валерий, все выправил, подкрасил, ободок и фару переставил со старой списанной машины. Получилось незаметно. Домой возвращался пешком. Уже рассвело, завозились первые птахи, гуднула где-то машина, на первом этаже заплакал ребенок, и заворковала над ним мать. Все эти звуки растворятся потом в дневной суете, а сейчас каждый из них звучал отдельным вступительным аккордом. День только начинается... и вот теперь со всей остротой он осознал происшедшее, почувствовал, что, возможно, пережил конец чьей-то жизни. И сам будто повис между землей и небом, между своим беззаботным прошлым и пугающим будущим. Да, беда никогда не приходит одна.
Глава 2
Но все-таки был свидетель наезда служебной «Волги» на женщину. В то время как машина с погашенными фарами пронеслась по темному переулку, Андрей Андреевич Агафонов выходил из подъезда. Машина свернула за угол — и тут же он услышал раздирающий душу визг тормозов, отчаянный крик, глухой удар...
Когда он подбежал к перекрестку, на мостовой лежала женщина, а машина с погашенными подфарниками снова помчалась по пустынному лабиринту улочек. Агафонов едва успел разглядеть номерной знак. Не надеясь на память, он записал его в блокнот, подошел к потерпевшей, приподнял голову, нащупал пульс. Жива... Подобрал с земли сумочку, оттащил женщину с проезжей части на тротуар. Она застонала.
— Как вы себя чувствуете?
Ответа не было.
Он раскрыл сумочку, в ней лежали косметика, аэрозольные французские духи, немного денег и пачка чеков Внешторгбанка.
— Ого, — невольно произнес Андрей Андреевич.
Женщина вдруг с трудом приоткрыла глаза и, еле шевеля губами, спросила:
— Что со мной?
— Теперь все в порядке, — Агафонов захлопнул ее сумочку, подсунул ладонь под голову, чуть приподнял, — раз заговорили, уже хорошо. Вас сбила машина. Что болит?
— Не знаю... кажется всё.
— Сейчас вызову «скорую»... сейчас, только... — он опять открыл сумочку, достал из нее платок, а с ним и паспорт. Быстро пролистал, взглянув на место прописки, платком вытер сочившуюся из ссадины на лбу женщины кровь.
— Не надо «скорую»... — неожиданно твердо сказала женщина, — я хочу домой. Помогите лучше встать.
— Ай да мы! — удивленно, с невольным уважением воскликнул он. — Но дайте я сначала руки-ноги осмотрю, нет ли переломов.
— Смотрите. По крайней мере, за них мне стыдно еще не бывало...
Он оценил ее шутку и только было собрался сказать ответный комплимент, как увидел такси, замахал, прося остановиться. Но водитель, видимо, решил проехать мимо, тогда он загородил дорогу, и таксист вынужден был затормозить.
— Ты что, каланча? Подрезаться захотел?! В парк еду...
— Уголовный розыск, — не терпящим возражения тоном сказал Агафонов, — отвезите пострадавшую. Пожалуйста, зажгите большой свет, помогите посадить женщину на заднее сиденье. Если нужно, я отмечу в путевке вынужденную задержку.
— А... тогда конечно... я службу и без отметок понимаю.
Вдвоем они помогли ей сесть, шофер ехал так, словно сдавал на отметку самой высокой комиссии — быстро и в то же время плавно, мягко затормозив у подъезда, на который она указала. Агафонов достал бумажник.
— Да что вы, я и счетчик не включал... Привет Петровке, 38! — бодро сказал водитель и поехал дальше.
Много видел на своем веку Андрей Андреевич респектабельных квартир, но такую роскошную — впервые.
— Большое вам спасибо за все, — устало сказала женщина, опускаясь в кресло возле телефона, — теперь я в безопасности...
Она смотрела на него, не зная, как быть, — неловко сразу выпроваживать, и хотелось остаться одной. А гость, нечаянный избавитель, рассматривал развешенные по стенам маски, копья, чучела заморских животных, идолов, иконки. Впрочем, так вели себя все гости в их квартире. Она слабо улыбнулась.
— Мой муж — сотрудник МВТ, коммерсант, так сказать, международного класса. Сейчас в командировке, инспектирует финансовую деятельность одного нашего торгпредства.
— И не боится оставлять вас одну... в этом доме?
— Он к этому привык. Здесь все застраховано, кроме того, квартира на сигнализации в милиции. А свое главное сокровище... — она опять улыбнулась, уже с оттенком кокетства, — он поручил родственникам, и скоро они заполонят эти хоромы...
— Понял... — в том же тоне ответил Агафонов, — мавр сделал свое дело, мавр уходит.
— Вот там, в секретере, возьмите визитную карточку... когда муж вернется, то, наверное, захочет вас лично поблагодарить. Позвоните недели через две.
Агафонов достал карточку, протянул ей. На обороте она написала «Елена Викторовна», взглянула:
— Что-то не так?
— Я раздумываю, нет ли здесь расовой дискриминации, — с шутливой строгостью произнес он, — я сам готов благодарить судьбу за счастье видеть вас.
— Да ну вас... правда, я с удовольствием с вами увижусь, только не сейчас... мне надо раздеться, привести себя в порядок.
— О! Где-то ведь лежит у меня аттестат на лучшего в мире камердинера... Ладно, принесу в следующий раз.
Глава 3
Сегодня в одиннадцать дня Агафонову нужно было встретиться с инженером из университета Климовским, к помощи которого с недавнего времени он стал прибегать. И так как Агафонов был человеком осторожным, то и сегодня решил посмотреть, не привел ли Климовский на свидание кого-нибудь еще?
За четверть часа до назначенного срока Агафонов уже стоял на лестничной площадке третьего этажа у окна, рассматривая прохожих.
Климовский вышел из метро с какой-то милой женщиной, быстренько с ней распрощался, украдкой поглядывая по сторонам, в то время как она явно хотела повторить прощальный поцелуй. Наконец он наспех чмокнул ее и получил свободу. Со стороны все это выглядело забавно, и Агафонов не мог сдержать улыбки.
Он бесшумно возник у Климовского за спиной, сказал вкрадчиво:
— Ну здравствуй, обольститель...
— Добрый день, Андрей Андреевич! — Климовский от неожиданности даже руками взмахнул. — Вы всегда так внезапно появляетесь...
— На том стоим... Ладно, пойдем.
Облюбовав свободную лавочку в тени, они сели, закурили.
— Ну как, Володя, съездил в Пермь?
— Ничего городишко... Только разузнать все, что вы просили, не сумел.
— Почему?
— За две недели до приезда один деятель решил ограбить краеведческий музей, его, как и вас, интересовала коллекция Денисова — Уральского... Забрался ночью в хранилище через трубу, взял все, что нужно, сложил в вещмешок, вылез обратно и скрылся.
— Та-ак...
— Да вы не волнуйтесь, — махнул рукой Климовский, отгоняя от лица дым, — его тут же поймали. Грабитель с приветом оказался — принес золотую инкрустацию от вазы из яшмы ювелиру, тот его и выдал. А потом задержанного пристрелили при попытке к бегству, когда он хотел выпрыгнуть из окна второго этажа прокуратуры. Об этом в местной газете написано. В общем, когда я приехал, музей был на учете, администрацию захватила волна бдительности и всебоязни.
— Каталог? — быстро спросил Агафонов.
— Не достал... Зато удалось узнать адрес человека, который является коллекционером камней, живет в Москве, говорят, у него одна из самых богатых коллекций янтаря и есть интересующий вас каталог. Я достану.
— Кто он? Как к нему попасть?
— Баулин Викентий Мартынович. Может быть, так? Я могу прийти к нему как коллекционер. Положитесь на меня.
— Подходит, — задумчиво произнес Агафонов, — только не затягивай с визитом.
Так они расстались.
Со вчерашнего вечера у Агафонова появилось дело, и довольно заманчивое.
В записной книжке был записан номер «Волги», водитель которой с погашенными фарами от кого-то так удирал, что сбил женщину. То, что «Волга» не была угнанной, он не сомневался, иначе водитель после наезда не остановился бы рядом с жертвой.
Зайдя в ближайшее отделение милиции, он обратился к дежурному:
— Добрый день, товарищ капитан. У меня к вам убедительнейшая просьба отыскать одного водителя.
— Поконкретнее, пожалуйста.
— Вчера вечером я очень спешил к академику Троицину, все такси, как назло, были заняты, я остановил черную «Волгу»... Водитель — молодой парень — согласился меня подвезти по пути...
— Что же — он на служебной машине деньги с вас взял?
— Нет, что вы, честный парень. Только я забыл в машине свой портфель... Хватился, когда вышел, а он уже поехал. Я крикнул, да какой там. Это же Садовое кольцо, шум, как в преисподней. Только и успел записать номер. Вот он, пожалуйста.
— Все понятно, гражданин, — дежурный взял трубку звонившего телефона и попросил Агафонова обождать в коридоре на лавочке. Минут через десять Андрей Андреевич уже получил адрес и телефон автохозяйства. Было много дел, и он решил отложить поездку туда.
В среду, все взвесив, Агафонов в двенадцатом часу отправился в автохозяйство по адресу, полученному от дежурного по отделению милиции. Гараж находился при фабрике. Агафонов, пользуясь излюбленным методом, поднялся на лестничную площадку дома напротив, стал изучать обстановку: народ входил и выходил с территории через ворота, в которые изредка заезжали автомашины.
Время было обеденное. Агафонов решил зайти в столовую, а заодно навестить звонком свою новую знакомую Елену Викторовну, с которой прямо было связано новое дело. Он не беспокоил ее почти три дня, с того момента, как случай свел их в темном переулке. Пока он звонил из автомата, к зданию управления фабрики подкатила черная «Волга» со знакомым номером, из нее вышел тучный солидный мужчина, и «Волга» поехала к воротам. Агафонов закончил разговор, сошел с тротуара и знаком попросил остановиться.
— Слушай, друг, — обратился он к водителю, — подбрось на Мещанку, хорошо заплачу.
Водитель поколебался, посмотрел на часы, затем согласился.
Агафонов, как и подобает солидному человеку его возраста, не спеша сел на переднее сиденье и дружелюбно попросил:
— Пожалуйста, в сторону Колхозной, а там я вам покажу...
Они поехали.
— Большой начальник на моем месте сидит?
— Да уж не маленький.
— Вдвоем его возите?
— Пока один управляюсь.
«Ну, значит, ты мне и нужен», — радуясь удаче, подумал Агафонов и стал внимательно разглядывать водителя. Он умел это делать так, что объект наблюдения не чувствовал себя при этом неловко.
— Вот Колхозная, — произнес водитель, — здесь куда?
— Через один перекресток направо. Затем налево.
Это было повторение маршрута, которым ехал Валерий в тот самый злосчастный день, в пятницу одиннадцатого июня. Он быстро взглянул на пассажира, но тот сидел с невозмутимым видом.
— Теперь налево... Стоп! — голос прозвучал так требовательно и громко, что от неожиданности Валерий, как и перед наездом, резко затормозил и замер, втянув голову в плечи. Машина стояла на том самом перекрестке, только сегодня он был населен людьми — люди мелькали в окнах, люди проходили мимо. От этого ему было еще страшнее.
— Уголовный розыск, — сказал, как отрубил, Агафонов, профессиональным жестом показав служебное удостоверение, снова положил его в карман, — вы арестованы. Это был следственный эксперимент, а теперь поехали на Петровку, 38.
Валерий продолжал сидеть в прежней позе, тупо глядя перед собой.
— Думаю, у вас не возникает вопросов, за что вы арестованы?
— Нет... что с ней?
— Уберите машину с перекрестка, поставьте у тротуара.
Валерий выполнил его распоряжение.
— Вам не повезло, — коротко сказал Агафонов и сделал паузу, чтобы Валерий мог в полной мере осознать ситуацию. Затем протянул руку: — Ваше водительское удостоверение.
Агафонов вытащил блокнот, переписал с документа все данные и вернул Валерию, который затем назвал свой домашний адрес и телефон.
— Несколько вопросов, — Агафонов внимательно посмотрел в глаза собеседнику, — вы знали женщину, на которую совершили наезд?
— Нет...
— Почему вы так считаете? Вы видели ее лицо?
— Нет... но я... я просто уверен, что не знаю. Все так случайно получилось...
— От кого вы удирали с потушенными фарами?
— Проехал на красный свет, ну и...
— Понятно, — усмехнулся Агафонов, с сарказмом протянул: — Отчаянный парень. Даже не верится, что вы могли так позорно удрать вместо того, чтобы оказать пострадавшей первую помощь. Мне это пришлось сделать за вас... Да, я привел ее в чувство, ехать в поликлинику она наотрез отказалась, я на такси отвез ее домой.
Он смотрел, как оживают глаза Валерия, в них появляется надежда и оттого еще больший страх: а вдруг не так понял? И Агафонов медленно произнес:
— Но вам все-таки крупно не повезло. Эта женщина потеряла много крови, начался обширный сепсис, одним словом, ее мать только что сообщила мне, что дочь внезапно скончалась от аллергического шока при введении антибиотиков.
— Боже мой... — прошептал Валерий. На глазах выступили слезы, отвернувшись, он пытался справиться с ними, и Агафонов видел, как под клетчатой модной рубашкой ходят вверх-вниз острые лопатки, вздрагивает кадык на худой шее, шевелятся губы. Он дал ему время, а потом уже другим голосом сказал:
— Да, ей теперь уже ничем не поможешь. А ты, пожалуй, мне пригодишься. И хотя я сейчас в отпуске, у меня своих дел до черта, к начальству показываться не тянет... Знаешь, как в штрафных батальонах отвагой и кровью искупали свою вину? Вот так и попробуем. Предстоит одна работа, и очень серьезная. Задания, возможно, будут с риском для жизни... Ну как? Не рванешь от меня как тогда, с погашенными фарами?
— Да что вы... — сквозь слезы выговорил Валерий, — да я теперь...
— Добро, — сказал Агафонов, внимательно глядя в лицо парня, — вот проверим, на что ты годен. Возможно, мы сможем друг другу неплохо помочь. Я — полковник МУРа, зовут Андрей Андреевич. Тебе придется войти в доверие к одному из членов преступной группы. Но это — потом, а пока ты мне иногда нужен будешь как водитель «персональной». Только не нашего ведомства. Понял?
Глава 4
Во вторник утром, как обычно, Валерий подъехал к дому директора и стал ждать. Поликарп Фомич не торопился, и у Валерия было достаточно времени обдумать предстоящий день. Точнее — визит к инспектору ГАИ. На какой-то миг он вдруг словно увидел себя со стороны и ужаснулся: как он еще может ходить, разговаривать, даже улыбаться, волоча за собой груз происшедшего? Наверное, если бы не появление Андрея Андреевича, который, разоблачив его, подал какие-то надежды на спасение, Валерий не вынес бы нервного напряжения.
Он не заметил, как из подъезда вышли Поликарп Фомич с супругой. Они подошли к машине, и Раиса Семеновна безуспешно попыталась открыть дверцу. Только когда сам Поликарп Фомич сел с ним на переднее сиденье и открыл заднюю дверь, Валерий сообразил, что происходит.
— Ну и любезен, — шипела Раиса Семеновна, — избаловал ты его... — это уже адресовалось мужу.
Тот только хмыкнул, махнув рукой: трогай!
По дороге Валерий искоса поглядывал на шефа, пытаясь уловить его настроение. Сейчас, как никогда, Валерию нужно было быть внимательным, исполнительным — директор ведь может взять другого шофера на свою «Волгу», а ведь Андрею Андреевичу он нужен будет именно как водитель персональной. Кроме того, предстоит объясняться с директором по поводу вызова на разбор нарушения, чтобы он не планировал на это время какую-нибудь поездку, а также намекнуть насчет служебной характеристики, которую могут потребовать.
Когда Валерий остановил машину у подъезда учреждения, где работала Раиса Семеновна, он неожиданно для самого себя выпрыгнул, подскочил к задней дверце, открыл ее и помог ей выйти. Она взглянула на него с некоторым удивлением и с удовлетворением огляделась вокруг.
«Вот так и должно быть», — говорил ее взгляд.
«Так и буду», — отвечал всем своим видом Валерий.
На счастье, Поликарп Фомич отпустил его до обеда, избавив от необходимости объясняться. В назначенное время Валерий приехал в ГАИ, нашел нужный ему кабинет, постучал. Его принял молодой симпатичный инспектор.
Валерий отвечал на все вопросы четко, самой интонацией показывая уважение к представителю власти.
— Я зачитаю вам рапорт сотрудника ГАИ с поста у Никитских ворот, а потом будем решать, — сказал инспектор. — «В среду 6 июня сего года, примерно в 19.15 минут водитель черной «Волги» М-24 с номерным знаком МОК 0038 ехал по ул. Герцена от центра и, не доезжая перекрестка с ул. Станиславского, посадил в свою машину пассажира в зоне действия знака «Остановка запрещена». Я приказал водителю остановиться, но тот не только не подчинился сигналу регулировщика и тревожному свистку, но проскочил перекресток на красный свет, создал аварийную обстановку и затем, игнорируя предписывающий знак «Только прямо», свернул вправо на ул. Алексея Толстого. После этого нарушитель скрылся...» Итак, — посмотрел на него инспектор, — просматривается два нарушения, использование государственного транспорта в корыстных целях и нарушение правил дорожного движения.
— Да. Но меня вынудил к этим действиям пассажир, которого я подвозил.
— Кто этот пассажир, знали вы его раньше?
Этот вопрос и тон невольно напомнили разговор с Андреем Андреевичем: знал ли он ранее сбитую им женщину? Поэтому Валерий с горячностью, не совсем понятной в этой ситуации, сказал:
— Нет! Никогда!.. — Затем уже спокойнее пояснил: — Он стоял на остановке, показывая, что страшно опаздывает. А когда сел, сказал, что надо срочно к Белорусскому, хорошо заплатит. Только проскочил одну половину Бульварного кольца, вдруг «желтый», сотрудник ГАИ сигналит, а пассажир мне дуло в бок и говорит: «Остановишь — пристрелю».
Валерий взглянул на инспектора, увидел его живые, заинтересованные глаза и уже бодрее продолжал:
— Ну... проскочили на Патриаршие пруды, потом на Малую Бронную, на Садовое и затем к вокзалу. Ну, остановился, а сам весь дрожу от страха. А пассажир рассмеялся. «Я, — говорит, — пошутил, на́ возьми на память», — и бросил на сиденье зажигалку-пистолетик, хлопнул дверцей и убежал. А мне теперь из-за него дырку в правах.
— И штраф десять рублей, — подсказал инспектор.
Глава 5
Проснувшись рано утром, Агафонов сделал короткую, энергичную гимнастику, принял душ, не спеша побрился, позавтракал. Он любил свои утренние кропотливые приготовления к предстоящему дню, когда все учитывается наперед, чтобы потом никакая мелочь не могла вывести случайно из равновесия. И погода была под стать его планам: неяркое утро, облачность. Ему предстояло свидание с Еленой Викторовной. А у новой его знакомой за внешним лоском и манерами современной «эмансипе» угадывались тоска и одиночество.
Он позвонил ей в десять утра:
— Доброе утро, это Андрей.
На другом конце провода молчали, затем раздался вздох, его вспомнили.
Все тем же легким, уверенным тоном он продолжал:
— Диплом камердинера украли завистники. Взамен отыскался другой... — Он сделал обдуманную паузу.
— Какой же? — спросила она. Голос был хрипловатый — то ли от тяжелого сна, то ли от недавних слез.
— Могу пригнать к вашим дверям черного скакуна самых чистых кровей.
— Очень кстати... — врастяжку сказала она, — машину сама я водить не люблю, сейчас это трудно, а надо бы съездить в одно место... Вы знаете Авию?
— Если она ваш друг, то ее знают все, если враг — то о ней больше никто не узнает!
— О боже мой, — наконец засмеялась она, — у меня будет нервное истощение, если мы продолжим этот изощренный разговор. Слушайте: Авия — знаменитая... во всяком случае, страшно модная сейчас врачевательница биополем. Раньше говорили: исцелить наложением рук... Представляете?
— В таком случае, она просто ваша ученица! Вы исцелили меня одним мизинцем от одиночества и мизантропии...
— Уймитесь... Так вот, к обеду у нее собираются гости, там будет один знаменитый на Западе биолог Планк, я бы хотела на него взглянуть...
— Черный мустанг уже бьет копытом...
— Тогда жду вас. У Авии обед начинается рано и тянется иногда до самого ужина...
Агафонов позвонил в диспетчерскую автохозяйства и попросил Валерия Слободника. Слышно было, как диспетчер пригласила его через динамик к телефону, а потом Валерий, тяжело дыша, выдохнул в трубку:
— Слушаю.
— Это Андрей Андреевич. Нужна твоя помощь. На это уйдет часа три, встретиться надо в полпервого у метро «Кропоткинская». Сможешь?
— Не сомневайтесь! — почти выкрикнул Валерий.
За те пять минут, что они ехали от метро до дома Елены, Агафонов проинструктировал Валерия, чтобы тот ничему не удивлялся, вопросы не задавал и что в данной ситуации он, Андрей Андреевич, играет роль руководителя одного сильно засекреченного учреждения.
Валерий ему сегодня понравился своим подтянутым видом, свежевыбритыми щеками, от которых, правда, несколько резко пахло лосьоном. «Таким и должен быть шофер у современного, связанного с государственной важности делами руководителя», — подумалось Агафонову. Валерий предупредил, что свободен до шестнадцати часов.
Агафонов попросил остановить «Волгу» в торцовой части дома — подальше от любопытных соседских глаз — и пошел за Еленой Викторовной.
— Так, — сказала она, взглянув на часы, — если мы за полчаса не доедем, то на самое интересное можем опоздать.
— Ну что вы! За пятнадцать минут мой водитель доставит вас в любой конец Москвы. Включит сирену — «зеленая улица».
— М-м-м... — она внимательно к нему пригляделась, — так какое же ваше истинное призвание?
— Во мне погибает повар! А по недоразумению числюсь главным конструктором... одного «почтового ящика».
— Прекрасная ширма для мужчины — работа в «почтовом ящике»! — засмеялась она, но уже с новым оттенком и по-новому глядя на него. — Отрезает все дальнейшие расспросы... Ну, если так, у меня есть еще минут пять, чтобы поправить грим.
И она стала причесываться тут же, изредка взглядывая на его отражение в зеркале. Андрей Андреевич, когда не балагурил, казался задумчивым, даже печальным, зная, что это должно заинтересовать женщину больше, чем любые производственные тайны.
Когда Елена Викторовна со словами: «Итак, я готова. Надеюсь, не похожу на ушибленную машиной?» — повернулась к нему, Агафонов уже знал, что означают этот новый тон и взгляд. Она приняла его как равного, как человека своего круга. Уже с порога он еще раз с удовольствием оглядел ее на фоне квартиры — так антиквары оценивают порознь раму и полотно, а потом назначают общую цену.
Квартира Авии если в чем и уступала квартире Елены Викторовны, то только во вкусе, с которым размещались вещи. А может быть, так и было задумано — ошарашить вновь входящих, и, пока они будут рассматривать всевозможные портретные изображения целительницы, она успеет присмотреться к вошедшим. Как ни был тренирован на таких обстоятельствах Агафонов, но и он пошел по общему кругу — от огромного, во весь рост, изображения Авии в виде богоматери до картины абстракционистского толка, где мазками и пятнами выявлялась глубинная сущность биолечительницы. Между этими пиками знаменитых школ располагалось множество нео-, супер-, гипер- и прочих «измов» в овальных, круглых, звездчатых рамах. В ряде случаев рамами служили серебряные оклады икон, а на полотнах изображались сцены жития святой Авии.
А так... фарфор, хрусталь, золото, ковры, на полу — кожаные пуфы и подушки, на которых уже восседали гости. В огромных напольных вазах — охапки цветов. Уже было сильно накурено, пахло хорошими духами и почему-то по́том. Сочетание этих трех запахов было столь сильным, что Агафонов невольно закашлялся. В это время чья-то рука тронула его за плечо — дружелюбно улыбаясь, смотрел на него молодой парень с темными, навыкате глазами и блестящими залысинами, казалось, и щеки и лоб были натерты оливковым маслом. Парень навел на него объектив фотоаппарата и уже приготовился щелкнуть... Но Агафонов с проворством мангуста вытащил из кармана платок и стал в него кашлять. В это время затвор щелкнул.
— Что же вы... — разочарованно сказал фотограф, — лицо скрыли, фотография не получилась...
— И не надо, — внушительно сказал Андрей Андреевич, глядя в упор на парня.
— Да... но мы снимаем всех, кто приходит к Авии... — несколько растерялся тот.
— Но не меня.
— О’кей, — поднял руки вверх фотограф, — без вопросов... — И доверительно шепнул: — Вот этот, самый толстый на атласной подушке, который вещает... журналист, биограф Авии. Он всеми интересуется, так что имейте в виду...
Агафонов неторопливо, ощупывая взглядом биографа, кивнул.
— А меня зовут Захар, — представился фотограф, продолжая щелкать направо, налево, — я здесь в некотором роде на службе, так что, если понадобится какая информация, — помогу. Авия не делает ничего противозаконного, значит, власти должны ее охранять.
— Вот именно, — похлопал его по плечу Агафонов, — ты мне сразу понравился.
А Елена Викторовна шептала между тем что-то хозяйке, показывая глазами на Агафонова. Та, выслушав, подошла к нему и протянула свою знаменитую руку. Повинуясь безотчетной догадке, Агафонов, склонив голову, благоговейно коснулся губами каждого пальца. Он заметил, как покраснело от удовольствия лицо Елены Викторовны, и Авия благосклонно качнула головой:
— Оказывается, существует целительство иного вида, чем мое, — гортанным голосом произнесла она. — Вы спасли мою приятельницу щедротой своего сердца.
— Возможно, это всего лишь одна из красок на вашей палитре, — витиевато ответил он, — остальное для меня просто непостижимо.
Воистину так и было — он не понимал, чем занимается эта худая, словно иссушенная внутренним беспокойством женщина с черными, но такими яркими глазами, что было неловко смотреть в них — как на два огонька. Агафонову было не по себе от того, что он не мог никак определить их выражения, то ли жестокого, то ли бесконечно ласкового, а, может быть, было и то и другое и он просто не замечал между этим грани...
Здесь никто ни с кем не знакомился, а гости все подходили, заполняя другую комнату, прихожую, даже ванную. Между ними с трудом протолкалась маленькая толстенькая женщина в белом передничке — это была экономка Авии Марина. Невзирая на годы, ее все так и звали по имени. Марина строго велела всем расступиться, освободить середину комнаты для стола.
Внесли складной, похожий на шахматную доску на крошечных ножках стол, резной, инкрустированный перламутром. Когда его разложили, оказалось, что положение пуфов и подушек не было
случайным — все гости сидели теперь за столом, на котором появлялось одно блюдо краше другого. И еще — это острый взгляд Агафонова сразу отметил — отношение к гостям здесь не было равным: возле одних суетились, Марина, и Захар, и даже сама Авия предлагали попробовать то одно, то другое, остальных вниманием не тревожили. Среди этой группы Агафонов, к немалому своему удивлению, увидел знакомое лицо — это был Климовский, тоже удивленный и смущенный встречей. Но Климовский никак не показывал их знакомства, и Агафонов едва заметно кивнул: так и надо. Я здесь, потому что я здесь должен быть.
— Обратите внимание, это Планк, — со значением шепнул Захар, выкладывая на тарелку Агафонова пирог.
Елена Викторовна, сидевшая рядом с Агафоновым и слышавшая этот комментарий, с любопытством воззрилась на иностранца, которого посадили на самое почетное место — по правую руку от Авии. Агафонов исподволь следил за Климовским, гадая, что его могло привести сюда и почему он никогда раньше не рассказывал о своей близости к этим кругам. За столом царила относительная тишина, потому что Авия вела беседу с Планком, вернее, отвечала на его искусно поставленные вопросы. Планк неплохо говорил по-русски и, как заметил Агафонов, хитрил, делая паузы, как бы затрудняясь выбором слов, чтобы Авия подсказывала ему. А подсказав, она вынуждена была и ответить. Планка интересовало, какими приемами настраивает она себя как биолечительница, какие образы воспроизводит в сознании, нужна ли для нее обратная связь с пациентом, что она чувствует во время сеанса и после него. Авия отвечала крайне уклончиво, часто ища спасения в затейливых, по-восточному неоднозначных фразах.
— Теперь я еще лучше понимаю, — тонко улыбнулся Планк, — как много работы предстоит в нашем деле. Слухи страждущих, как всегда, выдают желаемое за действительное.
Тут Авия вспыхнула, черные глаза сузились и сверкнули, как две выброшенные навстречу Планку боевые рапиры. Вот тут Агафонов увидел, зачем состоит при ней весь этот штат — фотограф, биограф и прочие. Марина тут же поднесла ей сигарету, щелкнула зажигалкой — Авия глубоко затянулась. Биограф как бы невзначай махнул жирной ручкой:
— Захар, а не показать ли гостям твой фотомонтаж? Ведь это уникальный случай, когда актриса играет то, что она и есть в жизни. Видите ли, — обратился он к Планку, — Авия недавно вернулась со съемок фильма, где она исполняла роль знаменитой древней целительницы. Вам, конечно, известно, какая в Египте была медицина... Нет, давай не все, а пятый и шестой лист, — это уже относилось к фотографу, — там, где Авия спасла каскадера и вернула слух старику. Ведь то, что вошло в фильм, господин Планк рано или поздно увидит, а это, так сказать, «синема верите». Жизнь, как она есть...
Он протянул Планку листы с фотографиями, поясняя:
— Над этим парнем медики уже произнесли погребальные речи, когда появилась Авия, измотанная съемками. Одно желание — ванна, крепкий чай и постель, да, дорогая?.. И вот она видит его, кричит: «Нет! Он будет жить! Всех вас переживет, несчастные айболиты!» — воздействовала минут сорок, сама вся покрылась по́том, и парень ожил.
— Так и сказала — айболиты?! — спросил вдруг кто-то из важных гостей, засмеялся и захлопал в ладоши.
И все засмеялись и захлопали. Авия сидела величественно прямая, мерцая угольками глаз. Планк тоже вежливо рассмеялся и перевел взгляд на фотографию, где Авия была снята рядом с ликующим стариком.
— Этому деду — восемьдесят лет, — со вкусом, обстоятельно, явно наслаждаясь завороженными взглядами собравшихся, рассказывал биограф, — из них, говорят, восемнадцать лет он был абсолютно глух. Авия поработала с ним с полчаса...
— Достаточно, — подняла руку Авия. — Мне никому не надо доказывать, что я могу. Я — Авия, а кто этого не понимает, тем хуже для него.
За столом воцарилось молчание. Кто-то еще жевал, кто-то доскребал, у кого-то в горле булькало вино — в эту минуту к каждому, казалось, был приставлен мощный микрофон.
— Дорогая Авия, — поморгав светлыми без ресниц глазами и наивно улыбаясь, сказал Планк, — я не очень понимаю все оттенки русского языка и, наверное, не очень хорошо пользуюсь ими, вы должны понять. Я не практик-лечитель. Я экспериментатор, никаким даром, кроме отсутствия предрассудков, не обладаю. Наша пресса буквально пестрит заголовками на эту тему. Кстати, я принес вам журнал, там есть интересная для вас публикация. Она составлена по материалам двухсот статей из сорока парапсихологических институтов мира. Но я предпочитаю один раз увидеть, чем прочесть.
— Я тоже.
— Дорогая Авия... — похоже было, что Планк по-настоящему волновался, — я не собираюсь оскорблять вас недоверием. Нет! Речь идет о жизни моего друга. Медицина приговорила его, и он сейчас, в своем номере, ждет, чем окончится наша беседа. Если бы вы взялись его вылечить! У него...
— Не надо! — опять вскинула руку Авия. — Я сейчас сама скажу, что с ним. Постарайтесь представить его образ.
Она закрыла глаза, несколько минут сидела не шевелясь, как будто напряженно к чему-то прислушиваясь, затем сказала:
— Ему действительно недолго осталось... он начал принимать наркотики как обезболивающее, у него рак. Но на этой стадии еще можно попытаться его спасти...
Она открыла глаза и в упор посмотрела на Планка. Тот только беззвучно шевелил губами. Потом, словно задохнувшись от хлынувшего в гортань воздуха, стал судорожно глотать его и сквозь кашель, со слезами на глазах просил:
— Позволь... я привезу его... позвоню в номер, через десять минут он будет здесь... он очень богат, он все отдаст...
На это Авия только покачала головой. В ее глазах была жалость и мудрое понимание того, что происходит сейчас с Планком.
— Моя бабка, — наконец произнесла она, и при звуках ее голоса воцарилась удивительная тишина, — сказала, что умрет только тогда, когда я научусь лечить лучше ее. Она умерла... Так же и я: у меня есть ученик, который кое в чем меня превзошел. Он изучил много древних книг. Знает все рецепты Авиценны и силу драгоценных камней. Его фамилия Баулин. Он берется даже за исцеление рака. Я переговорю с ним... К тому же он должен прийти с минуты на минуту.
Все завертелось в голове Агафонова, все сомкнулось в одну цепь: Баулин — коллекционер, о котором говорил ему Климовский. Баулин — целитель, знающий силу драгоценных камней, и само присутствие здесь Климовского... значит, это один и тот же Баулин! Вот так удачу принес ему сегодняшний день, так нечаянно и счастливо состыковывались два разных дела.
Между тем разговор продолжался, и Андрей Андреевич боялся теперь упустить хоть слово.
— Сколько дней вы пробудете в Москве? — спросила Авия.
— Еще восемнадцать дней. Неделю до окончания выставки у вас в «Сокольниках», я там представляю фирму «Медицинское оборудование», а остальное время на заключение контрактов.
— Кто по профессии ваш друг?
— О... — поднял руки Планк. — Мой босс достаточно богатый.
В это время раздался звонок, и головы всех повернулись к двери.
Баулин привел с собой дочь, девушку лет восемнадцати, изысканно одетую. Оказалось, Елена Викторовна прекрасно их знает. Она расцеловалась с Катериной — так звали Баулину, протянула руку ее отцу. Тот с улыбкой приложился к ней и с ходу подключился к разговору. Авия вкратце изложила ему просьбу Планка.
— У вас были случаи излечения рака? — спросил иностранец.
— Да, и Катюша не даст соврать, — он потрепал дочь по плечу. — Что самое интересное: онкологи после моего лечения отказывались от своих первоначальных диагнозов...
— Может быть, действительно ошибка в диагнозе?
Баулин только рассмеялся и принялся за еду, посматривая по сторонам, кивнул Климовскому. Новый кумир выглядел крепким жизнерадостным человеком, далеким от образа ученого мужа, «звездочета», каким рисовал его себе Агафонов со слов Климовского.
— Я и мои коллеги, — сказал Баулин, — не употребляют слово «лечение». Мы занимаемся биорегуляцией и добиваемся, чтобы организм человека сам начинал бороться с недугом.
— Сколько вы берете за такую регуляцию? — спросил Планк.
— Никакой платы за лечение я не назначаю. Если больной обретает здоровье, он сам определяет вознаграждение.
Планк с удивлением посмотрел на него:
— Мне кажется, я недостаточно понимаю, в русском языке такие богатые оттенки...
Взялась пояснить Авия:
— Мы придерживаемся старых строгих правил и никогда не требуем с пациентов денег. Каждый сам, в силу своих возможностей, оценивает, сколько он способен пожертвовать на общее дело. Заплати он хоть рубль, хоть мелочь, мы все примем с благодарностью.
— Если выживет, значит, Баулину рублик, — скептически шепнул Агафонову Захар, разгоряченный напитками, — а умрет, что делать, все люди смертны.
— А все-таки — если ничего? — не унимался Планк.
— Тогда это становится его проблемой, — с какой-то даже беспечностью ответил Баулин, — по законам природы за все надо платить, и притом соразмерно принесенной пользе. Если у излеченного нами человека есть только слова благодарности, он обязательно должен сказать их. Если он мог отблагодарить большим, но поскупился, то... улучшение может оказаться недолговечным.
— О’кей... — сказал Планк и, боясь, что Баулин передумает, тут же встал из-за стола, пошел к телефону звонить своему боссу.
Воспользовавшись паузой, Марина стала убирать со стола, подготавливая место к десерту.
В это время Баулин отозвал Климовского в соседнюю, пустую комнату. Агафонов, пользуясь тем, что многие встали с подушек и пуфиков, разминая затекшие ноги, тоже вышел в прихожую, затем в ванную. Отсюда, приоткрыв дверь, он мог видеть, что делается в этой комнате. Баулин и Климовский, тихо переговариваясь, доставали из саквояжа какие-то непонятные приборы, среди которых были пирамидки, статуэтка с зажатым прозрачным кристаллом у ног, старинные браслеты, перстни с металлическими ободками, свободно перемещающимися вдоль камней.
В комнату заглянул Планк.
— Однако... между нами, господин Баулин, гонорары у вас, по-видимому, неплохие, если вы можете содержать помощника?
— У нас с ним другие отношения, — донесся до Агафонова озабоченный голос Баулина, — я — ученик Авии, он — мой, и вся наша компания держится на энтузиазме и преемственности.
Он надел на средний палец огромный перстень из белого металла с массивным драгоценным камнем в форме кабошона. В это время раздался долгожданный звонок. На пороге стоял маленький человечек с землистого цвета лицом, рядом — водитель такси. Он спросил:
— Все правильно? Этого господина я сюда должен был привезти? Тогда я буду внизу ждать, мне вперед заплатили...
Планк подхватил босса под руки, потянул в комнату, где встречали его во всеоружии Баулин и Климовский. В большой комнате гости заволновались, тоже хотели взглянуть, но поток их был остановлен поднятой вверх рукой Авии.
Баулин приказал пациенту снять с себя все металлическое, встать и стал обходить его по ходу часовой стрелки, словно ощупывая вокруг него воздух. Затем надел на руку браслет, перстень с камешком и стал водить рукой вдоль тела больного, изредка поворачивая на перстне ободки. Наконец спросил:
— Что вы чувствуете?
Планк перевел вопрос — больной прошелестел что-то на своем языке. Планк перевел:
— Ему кажется, что печень нагрелась и пульсирует в такт сердечным ударам.
Баулин молча продолжал свои манипуляции, а Климовский сказал:
— Что ж... это совсем неплохо. Есть шансы...
Баулин внезапно прекратил свою работу, снял перстень, разрубил перед собой воздух наподобие креста.
— Я проведу с вами еще девять сеансов с интервалом через день. На сегодня всё, — и он повернулся спиной, давая понять, что не только сеанс, но и само общение с ними закончено.
Однако Планк не отпускал его.
— Господин Баулин, — вкрадчиво спросил он, — еще одну минуту займу у вас. Что это за чудесный перстень и браслет?
— От деда достались, привезены были из Маньчжурии во время русско-японской войны. Дед получил за отвагу Георгиевский крест, за что был удостоен звания дворянина без надела землей и направлен в войсковую разведку. Там и приобрел у пленного самурая этот реквизит с замечательной историей... Однако, господа, у меня свой ритуал... — и он с поднятыми руками прошел в ванную. Агафонов уступил ему место возле крана и мешкал уходить, соображая, можно ли использовать этот момент, чтобы завязать знакомство.
Баулин открыл кран холодной воды, подержал руки под струей и коротко попросил:
— Достаньте, пожалуйста, из навесного шкафчика салфетку.
Агафонов достал. Баулин тщательно вытер каждый палец, затем бросил салфетку в специальный бак.
— Кофе будем пить? — спросил вдруг его Баулин. — Там, говорят, роскошный торт из Вильнюса прибыл.
Он первым прошел в гостиную, за ним — Агафонов.
На столе возвышалось странное сооружение — похожее на огромную башню, полую внутри, с многочисленными отростками наружу. Во внутренней полости была спрятана ваза с цветами, таким образом торт сверху был увенчан шапкой ярко-красных гвоздик. Один из гостей, — вероятно, тот, кто привез этот торт, — рассказывал, как он приготовляется:
— ...над огнем вращается огромная железная болванка с шипами, на нее прелестные девушки в бикини льют из чанов желтую вспененную массу. В этом тесте, кроме взбитых яиц, есть только сахар, немного масла, пряности. Руки этих жриц пахли обворожительно...
— Старо как мир, — тихонько вздохнула Елена Викторовна, — руки жены пахнут гарниром, у остальных — благоухают. Послушайте лучше, что Баулин рассказывает этому Планку, — шепнула она Агафонову.
— Так вот, самурай, у которого дед его приобрел, был начальником карательного отряда, служил в охране тыловых коммуникаций. И как-то раз его войско вошло в одно тибетское селение, остановилось там на несколько дней. Жизнь шла своим чередом. Местный махатма с помощью этого перстня лечил калек и делал чудеса. Самурай был человеком богатым и попросил махатму продать ему этот перстень, тот и слушать не хотел. А тут вдруг пропали два японских солдата из гарнизона, их начали искать и нашли зарезанными. Решили, что это дело рук жителей, месть за изнасилование малолетних. Самурай расправился с жителями, а заодно и с махатмой, а его перстень взял себе. И после этого, по словам японца-адъютанта, начались у него неприятности. Наконец он попал в плен и, как истинный самурай, сделал себе харакири. Его воины были убеждены, что это им мстит убитый махатма, и боялись даже дотронуться до перстня. А дед мой его взял, освоил, передал отцу, а тот мне. Вот и все...
— Значит, это он... — в волнении Планк потирал суставы пальцев. — Я читал о нем в журнале «Дайджест». Все сходится: камень из породы рубинов, похож на кровавик, в двадцать три карата, в виде кабошона, оправа из платины особой формы. — Он перевел это своему боссу — тот закивал, о чем-то прося, требуя.
Баулину не хотелось продолжать разговор о перстне. Он обернулся к вошедшему в гостиную Климовскому, жестом пригласил его присесть рядом, к столу. Но Планк не отставал:
— Видите, я сам набиваю цену вашему камню. Продайте его нам. Я уполномочен вести дела шефа.
Предложение было так нелепо, что Баулин рассмеялся. Даже Авия посмотрела на Планка с укором.
— Что вы, профессор его никогда не продаст, — ответил за учителя Климовский.
— Я предлагаю двести тысяч долларов.
— Да нет же... — ответил Баулин, улыбнулся, пожал плечами и встал из-за стола: — Простите, у меня дела.
Планк тоже встал и, подойдя к Баулину, тихо заговорил:
— Лет через пять, шесть вам просто по возрасту нельзя будет заниматься практикой. Вы подумайте над нашим предложением, вот моя карточка... мы остановились в гостинице «Россия», я сейчас запишу телефон... А если будет улучшение, шеф может заплатить за перстень дороже. — Он стал рыться в карманах, ища авторучку. Агафонов сориентировался сразу, вскочил и протянул свою и в ожидании, когда Планк ее вернет, смог увидеть все, что было написано на визитной карточке, и номер телефона в гостинице.
— Карточку я возьму, — сказал Баулин, — ведь надо будет созвониться относительно следующих сеансов... раз уж я взялся. Теперь следующее: на период активной биорегуляции вы должны пить специально приготовленную мною воду. Володя привезет ее в гостиницу. Накануне отъезда я дам вам биологически активный раствор, который будете принимать по моему рецепту, для закрепления результата, иначе процесс может пойти вспять. Итак... — Он оглядел присутствующих, помахал рукой дочери: — Катенька, ты, конечно, останешься? Мы с Володей уйдем... дела.
Как бы между прочим Агафонов сказал Баулину:
— Я тоже должен идти, у меня машина — может быть, подвезти? Все-таки с аппаратурой...
— Нет, мы с Володей любим пройтись по воздуху...
И Баулин с Климовским откланялись. При этом Климовский, играя свою роль до конца, простился с Агафоновым, как и со всеми, ничем не обнаружив знакомства.
Агафонов задержался у окна и, чуть отодвинув шторы, следил за тем, как они выходили из подъезда.
Баулин тут же подошел к черной «Волге», за рулем которой сидел Валерий, о чем-то спросил, тот покачал головой. Между тем Климовский поймал такси, и они уехали.
«Однако, — подумал Агафонов, опять возвращаясь к столу, — Баулин очень осторожен...»
Разговор за столом продолжался. Авия решительно отодвинула от себя маленькую коробочку, в которой, по-видимому, было спрятано ювелирное украшение. Сказала с укором и обидой тому, кто это предлагал:
— Вы-то должны знать, что я ничего не приму, пока не будет подтверждения официального медицинского заключения... — Уже обращаясь ко всем: — Иначе давно бы прослыла за шаманку. А я хочу помочь нашей медицине, развязать руки врачам! Не только в голове их сила, а в сердце и руках, это знал великий Авиценна!
Наверное, ни одна драматическая актриса не смогла бы произвести такого эффекта — как загипнотизированные все смотрели на нее, слушали хрипловатый сильный голос. Когда она кончила, гости разом, как по команде, перевели дыхание. Биограф, как хороший дирижер, взмахнул руками, захлопал первым, остальные вслед за ним.
— Спасибо, Авия, — говорил он, вытирая потное лицо, — ты напомнила мне счастливое время, твою роль... боже мой! Если бы не ты, я бы давно перестал удивляться, и зачем бы я жил?!
— Елена Викторовна, — прошептал Агафонов на ухо своей знакомой, — мое время вышло. Вы поедете со мной или останетесь здесь?
— Что?.. — она с трудом оторвалась от лица Авии, посмотрела на него увлажнившимися глазами. — Ах, да... я, конечно, останусь. Авия обещала поработать над моими ногами. До встречи...
— До скорой... — шептал он, целуя ее руку, — и запомните, для меня здесь единственная королева — вы.
— Не забудьте захватить свой поварской диплом в следующий раз, — кокетливо улыбнулась она.
«Интересно, — подумал он, — чего бы она потребовала, узнав, какую услугу оказала мне сегодня... Какой удачный день, даже слишком... Впрочем, у веревки два конца, на один клюет удача, на другой... может и вокруг шеи».
Когда он уходил, гости решали, какой из видеофильмов будут смотреть. Остановились на фильме ужасов.
Елена Викторовна задержала Катю Баулину, которая тоже собиралась уходить, и стала рассматривать ее украшение. Прекрасные камни стоили внимания.
Агафонов сел в машину, Валерий сразу включил зажигание.
— Еще несколько минут подождем... для страховки. Ты запомнил человека, который просил тебя подвезти?
— Нет, — несколько растерявшись от своей невнимательности, сказал Валерий, — я же не знал...
Из подъезда в сопровождении одного из гостей вышла Катя Баулина. Агафонов прикрыл часть лица ладонью.
— Стоп, Валерий! Смотри в оба. Это — его дочь. Ничего себе, верно? Особенно аксессуары. Так вот тебе первое задание: любым путем познакомиться с ней, войди в доверие, при первом удобном случае снимешь слепок с ключей от их квартиры. Вот тебе коробочка с пластилином, пусть она всегда будет с тобой.
— Но ведь... — неуверенно начал Валерий.
Агафонов усмехнулся:
— Неудобно?.. Но ведь ее отец — преступник, занимается незаконным промыслом, огранкой драгоценного камня, шаманством дурит народ, тысячи гребет, а ключи нужны, чтобы провести в его квартире негласный обыск. Слушай меня внимательно, и твои наивные возражения лопнут как мыльный пузырь. Государственным органам ошибаться нельзя, и, прежде чем идти на обыск, мы должны знать, что в его квартире найдем нужные улики. А если их там нет, что тогда? Допустим — получим санкцию прокурора, пойдем на обыск, а того, что мы ищем, нет. Представляешь, чем все кончится?
Он пристально смотрел на Валерия, а тот внимал с благоговением: перед ним раскрывалось таинство оперативной работы, ему оказывали несомненное доверие.
Катерина Баулина и ее провожатый на углу перекрестка остановили машину и уехали.
— Кончится тем, — продолжил Агафонов, — что наш объект разработки сразу же после неудачной акции напишет на нас жалобу за нарушение соцзаконности. То, что нам поделом всыпят, — не самое главное. Но преступник с этого момента будет настороже, и никакой прокурор не даст нам санкцию на повторный обыск без стопроцентной вероятности успеха. И — что должно быть тебе небезынтересно — твоя попытка грудью закрыть амбразуру, искупить вину не состоится. Ну, как?
— Как вы скажете! — решительно ответил Валерий.
И Агафонов показал ему, как нужно обращаться с ключом, чтобы на нем не осталось следов пластилина и отпечаток получился четким.
Глава 6
Андрей Андреевич был человеком дела и верил в свою звезду.
Если, например, при подготовке того или иного мероприятия всем его начинаниям сопутствовал успех — он надеялся на удачу и шел на риск, что называется, напролом. Но если что-то не ладилось, он переставал заниматься этим делом, благо других ему хватало.
Созвонившись с Еленой, он приехал к ней в квартиру.
— Припадаю к вашим ногам, прекрасная Елена! Диплом повара по дороге обменял на учебник по черной магии. Теперь я — ученик самого господа бога!
— Или дьявола? — засмеялась Елена Викторовна, впуская его в комнату. — Не думала, что вы такой впечатлительный... Впрочем, на ажиотаже вокруг этих дел можно лучше заработать, чем на венских ватрушках. Вы...
— А почему «вы»? — подходя к ней ближе, сказал он. — Разве так называет сиятельная дама самого скромного своего слугу?
— Ах ты боже мой... — опять засмеялась она, несколько, правда, тревожно. И отошла от него в глубь комнаты, показала на кресло: — Садись.
Она села напротив него на маленький пуфик и, опершись рукой о колено, выжидательно смотрела на гостя.
— Как твоя нога? Помогла Авия?.. Знаешь, на меня все это действительно произвело впечатление. Не столько сама Авия, сколько Баулин. У меня тяжело болен друг детства, я все бы отдал за его излечение.
— У тебя много денег?
— У меня самые хорошие в мире друзья... — ответил он сухо, помолчав.
— Тогда я дам вам телефон Баулина, — мягко, как бы прося ее извинить, сказала Елена Викторовна, — учтите, я это делаю в исключительных случаях.
— А я и есть исключительный случай, — ответил он серьезно. — Поэтому и засиделся в холостяках. Повторяю, для меня главное в жизни — друзья и работа.
— Поверьте моим профессиональным наблюдениям... — записывая для него телефон, небрежно сказала она, — скоро биополя войдут в нашу жизнь и станут стандартом. Итак, деловая часть свидания закончилась, теперь я пойду собирать на стол.
Оставшись один, Агафонов еще раз внимательно оглядел комнату. На подзеркальнике трюмо среди бус и разной бижутерии стояла лаковая коробочка в виде старинного комода, верхний ящичек которой был выдвинут и там виднелись драгоценности из золота и серебра. Сверху лежало кольцо с бриллиантом и бриллиантовые сережки.
Когда хозяйка с серебряным подносиком, уставленным рюмками и тарелочками с закуской, вошла в комнату, он, не сводя глаз со шкатулки, сказал:
— Ах, Леночка! Таким методом вы проверяете надежность своих гостей? Здесь каждая безделица не меньше пяти тысяч стоит.
Она удивленно взглянула на него, потом, догадавшись, в чем дело, усмехнулась:
— Однако... вы разбираетесь... в вещах. А я — в людях. Я по профессии психолог.
— Значит, я уже протестирован? — воскликнул Андрей Андреевич, беря у нее из рук поднос. Поднос он поставил на стол и, не отступая, тихо спросил: — Так что у меня сейчас на уме?
— Ежику ясно, — насмешливо протянула она.
— Черт возьми, в этом доме даже ежики — психологи...
— Однако руки...
— Ах они подлые! — со смехотворной серьезностью он посмотрел на свои руки, нависшие над ее плечами. — Ведь сколько я просил их, умолял... Но ведь их можно понять, когда такая женщина...
— Да ведь мне скоро сорок, — грудным, воркующим голосом пыталась она изобразить упрек, — я далеко не девочка...
— Вы как раз сидели у Авии рядом с девочкой, причем ухоженной, наряженной, как кукла...
— Вы имеете в виду Катю Баулину? Очень миленькая...
— Глупа, словно сувенирная матрешечка.
— Да что вы! Первый курс мединститута заканчивает, отличница.
Агафонов махнул рукой, как бы признавая бессилие слов, потом с досадой сказал:
— Послушайте, обладательница бриллиантов! Вы же себе цены не знаете!.. Есть у вас какое-нибудь фото этой Катерины?
Елена Викторовна подумала, достала из секретера конверт с недавно сделанными фотографиями Авии, Баулина, Катерины. Агафонов просмотрел все и выбрал ту, где Елена Викторовна стояла рядом с Баулиным, чуть поодаль — Катя. Они были сфотографированы у подъезда медицинского, вероятно, в день зачисления Кати.
— Вот, например... даже бумага передает то состояние, которое испытывает рядом с вами Баулин... Если это увидит ваш муж или его жена...
— Мой муж не ревнив, а у Баулина жены нет, — сказала она, полюбовалась на фотографию и притворно вздохнула: — Однако от греха подальше надо это убрать, могу вам отдать...
— Правда? — с подлинным восторгом крикнул Агафонов. Он схватил ее за руки, крепко сжал их: — И я смогу положить это у себя под стеклом?! Господи... да я буду ежеминутно вылизывать это стекло своим болтливым языком! Глядя, разумеется, только на вас.
Она выглядела явно польщенной. Легонько вздохнув, тут только вспомнила про закуски:
— А что же мы...
— Нет, нет! Трапеза от нас не уйдет...
Фотографию Агафонов в тот же день передал Валерию:
— Вот тебе новая информация. Девочка учится на первом курсе медицинского. Здесь на фотографии видишь его врата. Подъедешь туда, найдешь повод познакомиться. Например, спроси, как проехать на улицу Чернышевского, а она как раз там живет.
Адрес Баулина Агафонов уже установил через адресное бюро и успел побывать возле этого серого, мрачного на вид, подавляющего своей солидностью дома. Поэтому он с уверенностью рассказал, как надо ехать, чтобы остановиться возле киноафиши и, по возможности, пригласить девушку в кино.
— ...кино, кафе, дискотека — на твое усмотрение. Не будь навязчивым, но и покажи свой интерес... Задание понял?
— Понять-то я понял, но мне легче в бой, чем это...
— А ты думал, наша работа — пряник? И все же лучше, чем сухари за решеткой. Тем более что тебе, гляжу, и носить-то их будет некому. Девушка есть?
— Была... до армии.
— Тем легче тебе сейчас будет, — удовлетворенно подытожил Агафонов.
Глава 7
В понедельник утром Валерий отпросился у Поликарпа Фомича на дневную поездку по личным делам.
В час он уже был у Первого медицинского и растерянно оглядывался по сторонам. Из подъезда выходили преподаватели, студенты, на лавочке перед входом сидела, греясь на солнышке, молодежь.
Время шло, и Валерий начал нервничать. А вдруг она сегодня не придет? А вдруг она уже прошла? Может быть, она среди стайки вон тех развеселых девушек, а он ее не узнаёт? И можно ли узнать среди сотни лиц одну-единственную Катерину, образ которой и на фотографии получился каким-то невнятным?
«Наверное, она должна быть очень хорошо одета, — решил Валерий, — раз ее отец жулик».
Подошел к девушке, листавшей учебник:
— К экзаменам готовитесь?
— Скоро сессия...
— Волнуетесь?
— Сразу видно, что вы не из наших. Это ведь первокурсники трясутся, а я уже четвертый кончаю. Столько всего было... из-за чего нервы портить?
— Вы так молодо выглядите... я думал, на первом курсе.
— О-о... — она поправила дымчатые очки на пол-лица, — вы бы присели, может, еще что-нибудь во мне откроете?
— Рад бы, да... неправильно понять могут.
— Ага! Ждете кого-то?
— Да, с первого курса.
— Вы пока не стесняйтесь, приглядывайтесь ко мне, может быть, у вас появятся новые идеи... вы ведь на машине приехали? Эт-то мне очень нравится... А я пока объясню: в нашем институте первокурсники с лекций не сбегают, раньше трех не ждите. Зато когда повалят по домам, ни с кем не спутаете. Это уж точно... — меланхолично заметила она, — к старшим курсам все эмоции притупляются...
Валерий соображал, что ждать ему еще долго. А девочка рассматривала его, готовая над чем-нибудь посмеяться. Улыбнулась:
— Тут, на Горького, есть кафе «Марс», нижний этаж — а ля фуршет.
— Это для кого? — осторожно спросил Валерий.
— Для водителей персональных «Волг»... Ну все, парень. Я отдохнула, а теперь мне пора заниматься.
Перекусив в кафе, Валерий начал изучать висевшую в проходе к институту киноафишу. Но, поскольку любителем кино он не был, названия фильмов ему ничего не говорили.
Около трех он опять пришел к подъезду, его неожиданной собеседницы не было, и он этому почему-то был рад.
Когда повалили толпой первокурсники, их действительно нельзя было не узнать. Казалось, они до сих пор не остыли от штурма, с которым брали во время вступительных это здание, и продолжали демонстрировать свою победу всем и вся. Когда первая, самая шумная волна схлынула, последовала другая — эти шли размеренно, отчужденно глядя на всех, кто не посвящен в их круг. К ним Валерий приглядывался тщательно, но, по крайней мере, пять студенток показались похожими на Катерину, и он чуть было не бросился их догонять. Наконец он заметил держащуюся особняком троицу. Каждая из этих девушек обходилась своим родителям, наверное, не меньше чем в пятьсот инвалютных рублей в квартал — Валерий знал рыночную цену этих джинсов, мокасин, батников, курточек. Но вот в ушках одной из них что-то сверкнуло... и Валерий понял — она! Катя Баулина носила бриллиантовые серьги.
Он сверился с фотографией и, облегченно вздохнув, направился в машину. Странно, но теперь он уже так не волновался, хотя самая сложная часть задания была еще впереди.
Подружки свернули в переулок, где висела афиша, и Валерий притормозил около них.
— Девушки, не знаете, где здесь улица Чернышевского? Как выехать?
— Так ты только к «гаишнику» выедешь, — съязвила одна, — разворачивайся назад... — и отвернулась к афише.
А Катерина удивилась:
— Почему «здесь»? Чернышевского на пересечении Покровского и Чистопрудного бульваров, я там живу...
— Пожалуйста, — искренне взмолился Валерий, — я вас довезу, только покажите...
— Не знаю даже...
— Ты что, — удивились подруги, — в кино не пойдешь?
— Нет, девочки, занята до вечера. Папе обещала помочь...
— A-а... ну, чао, — и подруги углубились в изучение афиши.
«Значит, сегодняшний день отпадает, никуда она не пойдет, — думал он, исподволь приглядываясь к девушке. — Как быть? Нужна какая-то зацепка на будущее...»
Катерина оказалась бледнолица, черты ее лица были приятны. При том, что одета она была со вкусом и обладала неплохой фигурой, держалась скромно, и поэтому выглядела незаметной.
Валерий вел машину не спеша. Наконец решился:
— Смотрю я на вас и думаю: пока этой медицине выучишься, свое здоровье потеряешь.
— Я выгляжу такой больной? Откуда вы узнали, что я из меда?
— Присмотрел вас...
— Меня?! Чем же это я выделяюсь? — почти испугалась она.
— Ну, конечно, не сережками...
Кажется, она была довольна. И заинтригована. Помолчав, вздохнула:
— Наверное, действительно — устаю. И дома дел много...
— Наверное, вам мама пальчиком шевельнуть не дает...
— А у меня нет мамы, — просто сказала она, — так что весь дом и часть папиных дел — на мне.
Надо же было это ей так сказать! У него в прямом смысле опустились руки.
— Что вы? — удивилась она, увидев, что машина останавливается у тротуара. — Правила нарушили?
— Да нет... так... у меня, знаете, тоже матери нет. И тоже — отец беспомощный... инвалид войны.
— Ну, у меня папа, — улыбнулась Катя, — в расцвете лет мужчина, увлеченный работой. Вот я ему и помогаю... Скоро мой дом.
Пока они медленно ехали, в голове Валерия крутилось настоящее беличье колесо: сейчас она уйдет, что сказать, куда пригласить на завтра? Не похожа она на шумных, любящих светские удовольствия девиц. О чем говорить? Не о болезнях, конечно. Вот если бы он что-нибудь интересное вспомнил!
— Приехали, спасибо.
— Подождите! — почти закричал он, когда девушка, любезно улыбнувшись ему на прощание, собиралась уйти. — Не могли бы вы мне помочь?
— К сожалению, ни рецептов, ни справок я еще не могу выписывать.
— Да нет! Мне друг с БАМа привез один камень, говорит, только у нас в Союзе есть, американцы за ним дико охотятся...
— Камень поделочный? — спросила она. — Общий фон сиреневато-красный, с многочисленными вкраплениями? Отливает, как фазанье перо?
Валерий обалдело смотрел на нее, пожал плечами:
— Да вроде... вот бы отцу вашему показать, вы вроде говорили, что он в камнях разбирается?
— Скорее всего, это чароит. Пока во всем мире найдено его месторождение только у нас в Союзе, — задумчиво сказала она, — ну... Привезите завтра к институту в это же время. Подходит?
— Еще как!.. До завтра, Катя!
И тут же спохватился — Катя удивленно обернулась:
— Откуда вы знаете мое имя?
— Так вас подруги называли... — едва выговорил он, чувствуя, как колотится сердце. Надо же — такой пустяк, и мог все испортить.
Конечно, если ее отец — жулик и она об этом знает, то должна быть настороженной. А может быть, не знает? Сейчас ему хотелось верить именно в это.
— Ну да, — засмеялась она, — конечно. А вас как зовут?
— Валерий.
— До завтра, Валерий.
Радостный и взволнованный, он помчался на работу.
Вечером Агафонов позвонил Валерию домой и был обрадован успеху своего нового помощника.
— Молодец! Теперь твоя задача войти в доверие. Сходи с ней в ресторан, шикуй, купи что-нибудь сногсшибательное, пусть и бестолковое, но дорогое — специально для нее. Деньги я тебе дам... что еще? Говори что-нибудь трогательное, даже если она тебе противна.
— Почему?.. Она мне даже нравится.
Агафонов помолчал, обдумывая новый поворот дела, потом сказал быстро:
— Вот и хорошо. Потом возьмешь над ней шефство. Не виновата же девчонка, что отец прохиндей. Но смотри! Раньше времени никакой жалости! Иначе я тебе помочь не смогу, тогда ты и ей не понадобишься. Есть вопросы?
— Все ясно.
— А тон — мрачный... Нестреляный ты еще воробей. Конечно, к этому трудно привыкнуть. Мне тоже бывает не по себе, когда приходится арестовывать преступника, а он — муж, отец, и тех, невиновных за его спиной, — очень жалко. Но закон есть закон.
— Это понятно.
— Еще один совет. Говорить с Катериной об ее отце надо очень осторожно, она уверена, что он — непревзойденный мыслитель, благороднейшая личность. Узнавай только то, что может нам пригодиться. Найди любой предлог, чтобы она отлучилась в туалет или позвонить из автомата, — и сумочку пусть доверит тебе. Времени тогда не теряй, делай слепки с ключей, как учил. Понял?
— Да.
Тяжело было на душе у Валерия, когда он положил трубку на рычаг.
— Ты что, Валерка? — хриплым голосом спросил отец, оторвавшись от любимой газеты «Советский спорт». — Перемелется — мука будет. Ты лучше послушай, какие беспорядки в «Спартаке» творятся, — и он хлопнул левой единственной рукой по столу.
Валерий посмотрел на него как на дитя, покачал сочувственно головой и ушел в свою комнату
Здесь, над столом, веером были развешены фотографии молодой матери, отца, его — смеющегося пацаненка с добрыми глазами. И таким далеким, забытым теплом потянуло от прошлого, что он заплакал. Благо, некого было стесняться...
Глава 8
Агафонов назначил свидание Климовскому на Пушкинской улице возле Театра оперетты. Зная пристрастие своего шефа появляться неожиданно, Климовский решил, что тот выйдет из театра, и постоянно косил глазом на парадный вход. Вдруг откуда-то сбоку на его плечо опустилась рука, он вздрогнул.
— Здравствуй, Володя, ты что такой нервный стал? — спросил Андрей Андреевич.
— Эта ваша привычка вырастать из-под земли! Тем более тут ничего не слышно...
— Конечно, в «Артистическом» кафе лучше. Тем более конец месяца, поработали мы славно, и сэкономленные казенные деньги можно наконец потратить.
Климовский отказываться не стал, хотя именно на этот вечер у него имелись свои планы.
Оказывается, Агафонов обдумал все заранее, и столик в кафе их ждал. По отношению персонала было видно, что Андрей Андреевич здесь завсегдатай.
— Ну-с, — разливая коньяк, взглянул исподлобья Агафонов, — скажи, Володя, почему ты многое скрывал о Баулине, о его сомнительных связях и «левой» деятельности на поприще целительства?
— А вот потому... — занервничал Климовский, — поэтому самому. Для вас — сомнительные, спасибо не сказали — преступные, а для меня — новое направление в медицине и вообще в науке. Беда в том, что иногда практика опережает теорию, но, кстати, практика — и критерий истины. Непознаваемых вещей нет, есть еще непознанные. В частности, биополе.
— Володя, ты что мне хочешь доказать? Истмат я знаю, но Уголовный кодекс — тоже, и лучше. Что же это за гонимое новое направление, которое оборачивается для своих приверженцев тысячами? Ты видел, что за бирюльки навешены на дочери твоего Баулина?
— Ну и что, — буркнул Климовский, — у него, между прочим, зарплата приличная, все траты только на дочь. И на коллекцию...
— Вот-вот... — назидательно сказал Агафонов, — а тебе следовало бы знать, что ни один коллекционер без махинаций не обходится.
— Почему? — вдруг серьезно спросил хлебнувший коньяка Климовский. — Вот, например, Третьяков.
— Кто такой?!
— Пал Михайлович, чей дом на Лаврушинском...
Агафонов некоторое время смотрел на него озадаченно, потом, сообразив, о чем речь, рассмеялся:
— А ты шутничок-старичок... — В глазах его было что-то недоброе: — Ну да ладушки. Времени у меня мало. Выкладывай, что знаешь о Баулине.
Климовский повертел в руках рюмку с коньяком, вздохнул и нехотя начал:
— По профессии он минералог. Имеет самую большую частную коллекцию янтаря, причем есть образцы с уникальными инклюзиями...
— Что это? — нетерпеливо спросил Андрей Андреевич.
— Это разного рода включения — растения, насекомые, почва и так далее. Ценность отдельных образцов зависит от многих факторов — цельная эта инклюзия или часть, редкий экземпляр или нет. Один кусок янтаря с целиком вмурованной редкой бабочкой стоил... шесть миллионов, точно! Но он в чьей-то коллекции за рубежом, к Баулину тоже приезжают из разных институтов Академии наук, вот недавно один очкарик, студент — стипендиат какой-то... — Климовский тут замолчал и заметил с завистью: — Между прочим, у него из Кембриджа консультации просят... Так вот он по заданию ВАСХНИЛ неделю сидел у Баулина, изучал инклюзии исчезнувшего вида лесной моли. Эта моль уничтожала огромные площади леса и потому...
— Неглупый ты парень, Володя... — перебил его Агафонов, — но до умного одного не хватает: не чувствуешь разницы между главным и ерундой. Зачем мне твои васхнилы нужны? Скажи лучше, не занимается ли твой научный пастырь огранкой пяти видов минералов: алмазов, изумрудов, рубинов... тех, что частным образом огранять запрещено?
— Нет, — испуганно и даже с какой-то обидой сказал Климовский, — ну что вы!
— Значит, или он не слишком доверяет тебе, или ты темнишь.
Как раз в это время подошел официант. Агафонов разговаривал с ним, краем глаза наблюдая, как волнуется Климовский, видимо прокручивая в голове варианты ответов.
— Зачем мне эта грамота? — по-свойски обратился Агафонов к официанту. — Давай, как обычно, все свежее, салатик, рыбку, что там еще?
— Судачок фри, судачок арли, котлеты деваляй, маришаль тартарчик можно изобразить.
— Изображай... и еще, Пал Палыч, бутылку минеральной.
— Будет... только я — Пал Иванович, а Палыч — в другой смене.
— Ох, извини! Но вы чем-то похожи...
— Главное сходство у нас в бабочках, — угодливо пошутил официант.
Агафонов засмеялся, не прекращая следить за сумрачным Климовским, а потом резко перешел к делу:
— Я ведь не случайно спрашиваю. На дочке в тот достопамятный день были ажурные золотые серьги кустарной армянской работы, которые делают под полудрагоценные камни, а он заменил их на бриллианты. Заметь-ка, на очень хорошие бриллианты. Надеюсь, разницу между бриллиантами и фианитами ты знаешь?
Климовский только обиженно хмыкнул. Впрочем, слушал он Агафонова очень внимательно.
— Перстень на девице я не смог толком разглядеть, а вот дешевизна и безвкусица браслета явно не соответствуют тем камням, которыми он инкрустирован. Вывод: твой Баулин по металлу не работает, занимается только огранкой, заменяя дешевые камешки и стекляшки в готовых изделиях на драгоценные, увеличивает их товарную стоимость. Вот чего ты не знаешь или не хочешь знать.
Официант поставил перед ними закуску, минеральную воду и удалился.
— Андрей Андреевич, — тихо произнес Климовский, — напрасно вы меня в чем-то подозреваете, я служу вам верно. А если за Баулиным что-то незаконное есть... давайте задание, я проверю.
Агафонов поглаживал ладонью пузатый бок рюмки, ласково глядя на него. Вдруг спросил:
— Володя, а как у тебя на работе дела?
— Да так... с диссертацией сложности.
— Вернусь из отпуска — переговорю с начальством, чтобы посодействовали тебе. Что же это? Ведь тебе за тридцать?
Климовский уныло кивнул.
— Ну вот, а теперь давай стараться, это нам обоим нужно. Скажи-ка, Баулин тебя во все комнаты пускает?
— Только в гостиную... На моей памяти только этого
очкарика допустил в кабинет... Представляете?
— Не истекай завистью, — брезгливо поморщился Агафонов, — забудь... Кроме кабинета, сколько у него комнат?
— Спальня, комната Катерины, огромный холл, большая кухня. Живут вдвоем с дочкой...
— Понятно... а теперь выпьем-ка за наше дело!
Климовский выпил коньяк залпом и почувствовал некоторое облегчение. Всегда, даже когда они встречались в уютном месте, Климовский испытывал неприятное волнение и скованность. А иногда возникал прежний первородный страх и благоговение, с которым смотрел когда-то провинившийся Климовский на Агафонова, сумевшего отвести от него наказание.
— Как ты думаешь, Володя, эти перстень и браслет Баулина действительно обладают целебными свойствами?
— Как вам сказать... Только договоримся: я сейчас выскажу сугубо личные впечатления, то, к чему я пришел сам, наблюдая за Авией и другими экстрасенсами. Некоторые из них как будто не нуждаются ни в каких внешних опорах, могут работать в любой обстановке, перерабатывая информацию, которая идет от человеческих органов...
— А что... от них действительно что-то идет? Ты прости меня, ни черта в этом не смыслю...
Климовский вздохнул, махнул рукой, разгоняя дым перед лицом.
— А кто в этом смыслит?.. Но ведь в литературе описаны факты, когда некоторые чувствовали беду, случившуюся с его близкими, находящимися за тысячи километров. Мне кажется, что когда человек борется за жизнь, то его клетки генерируют максимум энергии, и кто-то умеет воспринимать ее, получать необходимую информацию... в общем, это мои домыслы. Я считаю, что Баулину все его приборы нужны как раздражители, по теории Павлова об условных рефлексах, которые вызывают у него определенную реакцию настройки на повышенную отдачу своей биоэнергии.
Во взгляде Агафонова было нечто такое, что заставило Климовского замолчать и поежиться, пробормотав:
— Что вы меня, за идиота считаете? Ну, я не знаю... может быть, он вложил в эти штуки квант своей энергии, и они, как идеальные носители его поля, помогают ему всегда выходить на один и тот же уровень... не знаю! В конце концов вы сами объяснения просили.
— Ох, Володька, вижу, ты действительно засиделся в науке как в девках. Времени много, вот ты на работе всю фантастику перелопатил... Скажи, тот камень, что в лечебном перстне, сколько может стоить?
— Если бы он был нормальной огранки, да с таким весом, — то тысяч шестьдесят-восемьдесят, наверное. То, что Планк двести тысяч давал, так ведь это не за сам камень, а за его якобы фантастические возможности.
— Помог Баулин его приятелю?
— Как сказать — боли прекратились, состояние улучшилось, но это еще не окончательный результат... Моча у него идет жутко мутная, Баулин считает, что это выходят разрушенные клетки. Планк сейчас пьет специально приготовленную им воду, а у себя дома начнет принимать особый биологический раствор. Вот таможенники лоб почешут, когда увидят бутыль литров на двадцать.
— Когда иностранцы отбывают?
— Завтра в двадцать. Они должны успеть встретиться с Баулиным, правда, не знаю, в каком он будет состоянии. Обычно после подобных сеансов он выжатый лимон, и Авия подкачивает его своей энергией... Он у нее уже третий день живет.
— Экий он вампир... — усмехнулся Агафонов, думая о своем. — Я сейчас на минутку, подожди...
Климовский видел, как он протянул что-то портье, и тот пропустил его к служебному телефону.
Климовский взялся за цыпленка, рассуждая при этом про себя, что в его положении при Андрее Андреевиче есть свои плюсы и свои минусы, что-то от состояния канарейки: и полетать хочется, и от жизни на всем готовеньком отказываться не с руки.
Агафонов позвонил Елене Викторовне и стал проситься к ней в гости.
— Ну, Андрей... — лениво сказала она, — уже поздно. Давай хоть раз в неделю перерыв сделаем, а то иссушишь меня, как Джеймс Баулина.
— За него не беспокойся, он может перстень с браслетом продать за двести тысяч долларов и снова воспрясть.
— Что ты! У них вчера такой торг был... Джеймс почувствовал улучшение и уже четыреста тысяч предложил. А Баулин ни в какую.
— Ну, это их дело, а наше... через полчаса буду.
Агафонов позвонил Валерию и справился:
— Как успехи?
— Задание выполнил. Слепки в кармане.
— Молодец!.. — воскликнул Агафонов и вытер вспотевший лоб. — Завтра же попрошу отметить тебя в приказе!
Он помолчал, пытаясь определить состояние Валерия, и, убедившись, что тот от счастья буквально язык проглотил, добавил:
— Ты даже не представляешь, как все вовремя! Я сейчас же приезжаю к тебе забрать слепки. А завтра ты часам к десяти подъезжай к скверику у дома Баулина. Подробности при встрече. Через десять минут жди меня у подъезда со своим подарком... Ты мне прямо день рождения устроил!
Вернувшись в зал, Агафонов протянул Климовскому полсотни:
— Расплатись с официантом, мне надо срочно ехать.
Климовский смекнул, что гулянье можно продолжить, и отправился тем же путем к портье, положил ему в карман рубль и стал названивать своей приятельнице, которая жила недалеко от этого самого кафе.
Глава 9
Агафонов встал рано. Позавтракал, оделся и стал раскладывать необходимый инструмент по карманам. Ключи по слепкам он успел изготовить, вернувшись от Елены Викторовны. Для него и раньше это не составляло труда.
Опыт всех предыдущих дел подсказывал ему, что проблем с открыванием замков здесь не будет.
Когда он прибыл к условленному месту в половине одиннадцатого, Валерий уже ждал его.
— Слушай внимательно. Мы с тобой тут не одни, и каждый знает свое дело. В твои обязанности входит караулить Катерину. На тот случай, если она придет домой раньше обычного. Тогда сажай ее в машину и увози... в кино, к себе на квартиру, куда угодно. Сделай так, чтобы она к квартире не подходила. Хочет есть — приглашай в ресторан, переодеться — в этом платье она тебе больше нравится, занести учебники — полежат в машине, позвонить отцу — вот автомат. И все в таком же духе. После операции с Катериной не встречайся и не звони ей, пока не скажу. Понял?
— Так точно, — почему-то по-солдатски ответил Валерий.
Агафонов скрылся в подъезде. Валерий прошел во двор. Там стали появляться мамы и бабушки с детьми. Валерий решил что лучше у них на глазах не маячить. В конце концов не будет греха, если он пройдется до будки с мороженым. Он не верил, что Катерина может ни с того ни с сего вернуться. Вчера она сказала ему, что отца до вечера не будет дома и она без него домой не спешит.
Поминутно оборачиваясь, Валерий дошел до киоска, отстояв небольшую очередь, купил два эскимо и не спеша пошел по другой стороне улицы к дому Баулина.
Прохаживаясь по тротуару, он никак не мог понять, почему так беспокойно на душе. Ведь все идет правильно, более того, он ждал этого момента, когда сможет помочь органам милиции и этим облегчить свою участь. Даже если бы и не это — он все равно готов помочь разоблачить преступника. Странно, считая Баулина таковым, он никак не мог к самому себе отнести это слово, хотя мысль о погибшей по его вине женщине бросала мрачноватый отсвет на прошедшие дни. Так что же сейчас? Что мешает, не колеблясь, исполнять свой долг? Валерий не сомневался теперь, что принял судьбу Катерины Баулиной близко к сердцу, даже, пожалуй, слишком близко...
Он думал о ней и потому, вдруг увидев в конце переулка знакомую фигуру, не сразу понял, что именно произошло. Да, это была Катерина! Она, помахивая сумочкой, приближалась к дому. На какое-то мгновение он замер, а потом, размахивая руками, кинулся ей наперерез.
— Катя!! — крикнул он истошным голосом.
— Ой! Ты что?.. — испугалась она и тут же рассмеялась, указывая на остатки эскимо, стекающие по брюкам. Вытащила из сумки платок, начала оттирать. — Это ничего, отчистить можно... — утешала она, — только ты теперь будешь ко всему липнуть, и к тебе все... — она лукаво посмотрела на встревоженного Валерия, — а мне этого как раз не хочется. Давай-ка поднимемся, я попробую одно средство...
— Катя! Слушай! Что мы время теряем! Если я и приклеюсь к кому, то к тебе уж точно... ведь я тебя жду, потому что пустили всего на один сеанс потрясный американский фильм в «Иллюзионе».
— Но, Валера...
— Да нет же, — отчаянно торопился сказать он, — ты никогда этого больше не увидишь, осталось двенадцать минут.
— Нет, нет... — Катя смотрела на него с ласковой сожалеющей улыбкой, — не до того сейчас. Дали билеты к экзамену, срочно надо переписать и вечером отвезти подружке... Хочешь помочь?
Ну что было делать Валерию? Раз у него имелось время на кино, он уже не мог сослаться на занятость, отказаться помочь ей, когда она просит, — как можно?
И он покорно пошел за ней, утешая себя лишь тем, что лучше ему оказаться с ней рядом в ситуации, когда она узнает правду о своем отце. Однако хорошее «спасибо» скажет ему Андрей Андреевич... Мысль о нем заставила предпринять последнюю попытку.
— Катя... — он остановился как бы в нерешительности, — а вдруг неожиданно придет твой отец, а мы незнакомы...
— Ну и что? Он современный человек...
— А мне неудобно... Тот камень ведь я не привез... вернее, даже не взял у своего приятеля. Давай по-быстрому к нему сгоняем? — И он потянул ее за руку к машине.
Старушки с интересом следили за ними. Еще бы! Катю Баулину здесь знали.
— Да у папы этих чароитов ящик целый! Я уже с картотекой не справляюсь! А впрочем... — она отступила на шаг, раздумывая, — что-то я тебя сегодня не пойму.
И, вскинув голову, медленно пошла к своему парадному, чувствуя, что он поплелся за ней.
Они поднимались на лифте, и Катя, все еще изображая обиду, исподволь испытывающе посматривала на Валерия. Она отперла входную дверь, прошла в квартиру, оглядываясь на Валерия, который топтался у входа, толкнула дверь в гостиную и... страшно закричала — на полу в луже крови лежал человек.
— Па-па... па-апочка... — застонала Катя и замерла, сжав безжизненную руку отца.
Валерий видел, как мокнет в крови подол ее юбки и пальцы убитого Баулина сплелись с ее пальцами. Тошнота подкатила к горлу, в глазах все закружилось. Вдруг в жуткой тишине начали отбивать полдень напольные часы. Сияющий медный маятник гулко раскачивался туда-сюда, и так же все гудело и отдавалось в его голове.
Валерий сделал шаг к двери, затем быстро, будто за ним гнались, спустился по лестнице.
Часть II
Глава 10
— Оперативная группа капитана Морозова, на выезд! — услышал Борис голос дежурного по селектору. — Запишите адрес: улица Чернышевского, двадцать, дробь один, квартира семьдесят шесть. Произошло убийство.
И вот, включив сирену, две машины «Волга» и специализированный «рафик» выехали на место происшествия. Вот он, высокий современный пятиподъездный дом, вход со двора. Жители дома еще ни о чем не подозревают и с изумлением видят, как из двух машин торопливо выскакивают люди, кинолог с собакой, и все направляются в пятый подъезд. Число любопытных растет, наиболее смелые пытаются проследить, на какой этаж поднимается лифт, — так легче строить догадки. Но оперативная группа пока действует молча, ни к кому не обращаясь.
Дверь квартиры была приоткрыта. Сделав знак сотрудникам следовать за ним, Морозов вошел в квартиру и увидел в холле неподвижно сидящую девушку в испачканной кровью одежде.
— Старший инспектор уголовного розыска Морозов, разрешите?
— Там... в гостиной... — прошептала она.
Морозов открыл дверь, быстро оценил обстановку и пригласил эксперта-криминалиста и судебного медика. Видно было, что в квартире побывал грабитель, который что-то сосредоточенно искал.
Морозов вернулся в кабинет.
— Ваше имя и отчество, пожалуйста, — обратился он к девушке.
— Екатерина Викентьевна.
— Вы открывали эти ящики и дверцы?
— Я ничего не трогала...
— Вы поступили правильно.
— Только руку... пульс, — все же тихо добавила она.
Морозов понимающе кивнул.
— Смерть наступила около трех часов назад, — сказал медик.
Морозов сделал знак эксперту, и тот, осторожно продвигаясь по комнате, начал фотографировать. Морозов тщательно осматривал двери, пол, надеясь найти хоть какие-нибудь следы, оставленные преступником, но в гостиной ему ничего найти не удалось, и он перешел в кабинет.
Все ящики письменного стола были выдвинуты, на полу лежали выброшенные вещи. Шкаф с коллекцией минералов был открыт, все в нем перевернуто вверх дном, часть коробок с ячейками сложена рядом на полу. Видно было, что убийца, совершая свое черное дело, больше всего внимания уделил именно коллекции и топтался возле шкафа дольше, чем возле других предметов.
Морозов пригласил кинолога с собакой, та взяла след, и они пошли на его проработку.
В спальне почти ничего не тронуто, одна из двух кроватей, стоящих рядом, не убрана.
Раздался звонок в дверь, дежурный милиционер открыл и впустил следователя прокуратуры.
— Борис Петрович, — сказал он, протягивая руку Морозову, — что, опять работаем вместе?
— Здравствуйте, Николай Николаевич! Если бы вместо вас приехал кто-то другой, я б записал себя в неудачники...
К следователю подошел судебный медик:
— Здравствуйте, товарищ Нарышкин, криминалист нашел орудие преступления, зайдите, пожалуйста...
Двое понятых, стоящих в дверях, почтительно расступились, у окна эксперт-криминалист изучал и обрабатывал найденный под диваном окровавленный кровельный молоток.
— Преступник работал в перчатках, отпечатков пальцев никаких, даже хозяйских, нет, — заключил он.
— Отправьте на всякий случай в лабораторию, на идентичность крови с потерпевшим, — попросил Нарышкин.
— Николай Николаевич, возможно, молоток принадлежит преступнику, — предположил Морозов, — тогда это убийство — преднамеренное.
Нарышкин тихо спросил у Морозова имя и отчество дочери убитого, которая сидела сейчас возле трупа отца, отчужденная, с остановившимся взглядом.
— Екатерина Викентьевна, в интересах следствия я бы хотел задать вам несколько вопросов, соберитесь с силами, пожалуйста.
— Да, — тихо сказала девушка.
Нарышкин предложил ей сесть к столу рядом с ними и положил перед собой блокнот.
— Скажите, пожалуйста, где у вас в квартире находится разный инструмент?
— В нижнем ящике стенного шкафа.
Морозов следил за ходом допроса и удивлялся ей. Казалось, что Екатерина Баулина не отдает отчета в происходящем, но она все слышала и анализировала.
— Тогда давайте подумаем, кто бы мог совершить убийство, — продолжал Нарышкин, — были у вашего отца завистники, прямые враги или скрытые?
— Нет, я таких не знаю. Отец многим помогал... слишком многим.
— Не торопитесь, подумайте. Без причины ведь ничего не бывает. Преступник искал что-то конкретное, дорогостоящее из коллекции. Не могли бы вы сказать, что пропало?
— У отца очень много дорогих минералов. Я проверю их по картотеке.
— Есть картотека? Отлично... Но ведь могли быть какие-то особо ценные предметы или драгоценные поделки, не занесенные в каталог?
— Не знаю...
— Я понимаю, как вам сейчас трудно. Но когда немного придете в себя, пожалуйста, просмотрите коллекцию. Ведь без вашего описания пропажи трудно искать преступника и доказывать виновность.
Она молча покачала головой. Пришел эксперт и тихо сообщил:
— Замок был открыт ключом.
— Это лишний раз подчеркивает, — сказал Нарышкин, — что убийцу надо искать среди своих... Ваш отец собирался сегодня куда-нибудь с утра?
— Не с самого утра... часам к одиннадцати. К Авии... это наша знакомая. Отец в отпуске, он лечил ее друзей, иностранцев.
— Кто-нибудь знал, что он должен был сегодня утром уйти?
— Дома — только я. Он вечером вернулся от нее и сказал, что опять поедет и пробудет до вечера.
— Может быть, он по телефону кому-нибудь об этом сообщил?
— Может быть...
— А с кем он общается и кому мог поведать о своем намерении поехать к ней?
— У него такое количество друзей... Не знаю.
— Екатерина Викентьевна, — внимательно глядя на нее, сказал Нарышкин, — сообщение об убийстве по 02 передал какой-то мужчина. Расскажите, пожалуйста, кто он и как все произошло?
Катя потерла лоб, как бы вспоминая, потом устало начала рассказывать:
— Недели две назад около института... я учусь в 1-м меде, на первом курсе, познакомилась с одним парнем. Он водитель на персональной «Волге». Мы встречались почти каждый день... Сегодня я вернулась домой раньше обычного, около двенадцати, а он ждал меня возле дома. Он звал в кино, но мне надо было к экзаменам билеты переписать... попросила его помочь. Мы пришли домой, и вот... — она замолчала, вытирая слезы.
— Значит, это он вызвал милицию?
— Да... Наверное.
— А почему он до нашего приезда ушел?
— Он же на работе.
— Но если бы вы по его приглашению пошли в кино, то, возможно, и сейчас бы сидели в кинозале?
Катя на мгновение задумалась, пожала плечами:
— Может быть, не захотел быть свидетелем. Его шеф связан с какими-то секретами...
— Пожалуйста, назовите его фамилию, имя, отчество.
— Знаю только, что его звать Валерий, а фамилию не спрашивала. Как-то ни к чему было.
— Адрес?
— Тоже не знаю... — смущенно посмотрела на следователя, — он давал телефон, но я куда-то записала... не помню. Он сам появится.
Морозов и Нарышкин переглянулись.
— Номер автомашины помните? Тоже нет... А шефа его видели?
— Наверное, видела у Авии, только не помню. Как-то мелькнуло это в разговоре с Валерием...
Следователь вызвал «синий крест», тело Баулина отправили в морг. К восьми часам вечера бригада сотрудников опергруппы, закончив осмотр места происшествия, опрос соседей и жильцов дома, покинула квартиру. Морозов, видя, в каком тяжелом состоянии находится девушка, решил побыть с ней некоторое время. Минут через десять раздался телефонный звонок. Катерина взяла трубку:
— Слушаю... — сказала слабым голосом, — а, это ты... Спасибо. Да, приезжали... Да, сейчас одна... А надолго? Кстати, кто у тебя шеф?.. Нет, просто так. Звони, как вернешься... — она хотела положить трубку на аппарат, но Морозов перехватил ее:
— Это и есть ваш Валерий?
— Да... — растерянно мигала она, — но ведь он уже положил трубку.
— Неважно. Только вы не кладите. Я сейчас быстро вернусь, позвоню на АТС от соседей, узнаю, откуда он звонил.
Морозов вышел и быстро вернулся.
— Трубку пока не кладите, — предупредил он, — так что же ваш друг сказал?
— Он уезжает с шефом на какой-то секретный объект под Москвой, когда вернется, позвонит. Я спросила, кто у него шеф, — он, оказывается, не имеет права говорить...
Морозов еще раз сходил к соседям и, вернувшись, сообщил новость:
— Ваш приятель десять минут назад звонил из автомата, что возле подъезда вашего дома.
Глава 11
На следующий день Морозов и Нарышкин с утра отправились к Авии. Их встретила экономка Марина, загородила проход, уперев руками в бока:
— Кто такие? Я вас не знаю...
Из комнаты раздался грудной сильный голос:
— Не валяй дурака. Без звонка приходят только друзья... проходите же, проходите...
Но когда Авия увидела вошедших, в черных глазах мелькнуло недоумение. Она величественно выпрямилась, запахнула узкой рукой полы халата, встряхнула черными волосами:
— Я вас не знаю.
— Следователь прокуратуры Нарышкин, — он показал ей свое удостоверение, — а это старший инспектор МУРа Морозов. Сожалею, что мы не числимся в ваших друзьях.
— Это будет от вас зависеть, — просто сказала Авия, а взгляд у нее был пронизывающий, от которого, казалось, ничего скрыться не могло. — Я так поняла — вы хотите мне что-то сказать?
Она приоткрыла дверь в гостиную, взглянула, закрыла — там убирала Марина. Авия провела их на кухню. После экзотической роскоши комнаты кухня поражала своей обыденностью. Ее отличала разве только стерильная чистота.
— Присаживайтесь. Что вас ко мне привело? Обычно приходят с недугами, а от вас так пышет здоровьем. Правда, у вас, — она обратилась к Нарышкину, — легкий сердечный невроз, а вы... — пододвинула Морозову сигареты и спички, — хотите курить.
— Очень хочу, но, к сожалению, давно бросил.
— Кажется, мы поменялись местами, — улыбнулся Нарышкин.
— А сейчас допрос? — зажав сигарету в зубах, спросила она.
— Мы должны допросить вас в качестве свидетеля по делу об убийстве вашего знакомого Баулина Викентия Мартыновича.
Услышанное поразило Авию — незажженная сигарета выпала изо рта, взгляд остановился, рука с поднесенной ко рту зажигалкой замерла в воздухе. Единственно, что она смогла наконец произнести:
— А Катя... Что с ней?
— Она была в институте.
— Если кто-то охотится за его богатством, надо ее поберечь. Она многих знает.
— А вы? Что бы вы могли сказать о нем?
— Ко мне он приходил в основном со своей дочерью, и все замыкалось на круге моих знакомых. Последний раз большое общество собиралось позавчера, снова были два иностранца. Джеймс прошел курс лечения и вчера вечером улетел на родину. Его друг интересуется проблемами биорегуляции... хотя — зачем я вам об этом? — она потерла руками виски. — Никак не могу освоиться с этой мыслью.
— Расскажите поподробнее, кто приходил к вам позавчера, — попросил Нарышкин.
— Как всегда, был мой приятель Захар, он фотографирует. Потом подруга по школе Рахиль с мужем, этих сто лет знаю. Другая подруга, Леночка, жена дипломата, без мужа. Да, однажды она была с каким-то приятелем, его я впервые видела, думаю, что он в крупных чинах и связан с какими-то секретами. С Баулиным приходил его ученик Климовский Володя, но я его не очень хорошо знаю. Так — воспитанный, исполнительный молодой человек, научный сотрудник. И вообще все мои знакомые — порядочные люди.
— Где живет, работает и что собой представляет ваш приятель фотограф? Его фамилия, отчество?
— Кузнецов Захар Михайлович, живет в доме напротив. Работает где-то, а фотография — его хобби и заработок.
Увидев, что следователь в некотором недоумении, пояснила:
— Многие гости любят фотографироваться рядом со мной. Естественно, Захар не дарит им эти снимки...
— Понятно. А что за ответственный товарищ был с вашей подругой Леной? Его фамилия, имя, отчество?
— Это можно узнать у нее, одну минуту, — она достала записную книжку, надела очки, продиктовала номер.
— Я думал, те, кто лечит других от всяких сложных болезней, безукоризненно здоровы, — пошутил при виде очков Морозов.
Авия только рукой махнула:
— Что вы, дорогой. Я же сама себе помочь не могу, за меня вот Викентий иногда брался... — и она опять помрачнела. Помотала головой, прошептала что-то.
— Пожалуйста, все о муже Рахиль.
— В нем не сомневайтесь. Его фамилия Челомчили Реза Гаянович, администратор на каком-то рынке... — Помолчав, сказала: — Я знаю, как относятся к людям этой профессии, но за него ручаюсь. Вот, пожалуй, и все. Может быть, потом еще что-нибудь вспомню. Извините.
Она улыбнулась через силу. Было видно, с каким трудом дался ей этот разговор.
Нарышкин оставил ей свой телефон, и они, попрощавшись, вышли.
— И какое впечатление? — спросил Нарышкин, когда они спускались по лестнице.
— Впечатление есть только от хозяйки и от ее квартиры, — признался Морозов, — остальное пока перевариваю. Но какая женщина! Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с проблемами биорегуляции. С ума сойти — личный фотограф, домоправительница, лечат друг друга руками... Как вы к этому относитесь?
— Я могу как-то относиться только к тому, что знаю... Я знаю, что у Авии есть патент на бесконтактный массаж, она добросовестно платит государству деньги за лицензию и то, что она делает, по крайней мере, не выходит за рамки дозволенного. Кстати, Борис Петрович, вы газеты регулярно читаете?
— Как придется... — смущенно признался Морозов, — времени на все просто не хватает.
— Э-э, дружок, поверь мне: на информации времени экономить нельзя. Больше потом потратишь. Так вот, в прессе писали о ней и хорошо и не очень, но уникальные ее возможности признают.
Он глянул на Морозова, дышавшего легко, свободно, и с оттенком доброй зависти добавил:
— Зато ты у нас спортсмен!
— Понятно. Прессу не просматриваю — зато спортсмен! — Морозов даже обиделся. — Это как у Чехова: если девушка некрасива, то говорят, что у нее прекрасные волосы...
— Сдаюсь! — засмеялся Нарышкин. — Давай сразу лучше о деле... Вон и лавочка пустая.
Они сели.
— Я думаю, Николай Николаевич, надо начать с жены дипломата, — высказал предположение Морозов. — Она знает и Авию и Баулина, вместе с ней был какой-то засекреченный товарищ. До заключения эксперта я все равно ничем толком заняться не смогу, разве что изучать прессу.
Они созвонились с Виолетовой, и Нарышкин попросил ее приехать к нему на допрос в прокуратуру города.
— К четырнадцати обещала быть у нас, — он взглянул на часы, — думаю, за это время мы сумеем еще и перекусить в пирожковой.
— Николай Николаевич, я знал вас как гурмана... — засмеялся Морозов.
— Заметь при этом — тонкого... Но тонкие гурманы не могут без пирожковых оттачивать свое мастерство.
Наскоро перекусив, они приехали в прокуратуру.
В кабинете Нарышкина, как всегда, было по-солдатски чисто и строго, а сегодня особенно — на столе, кроме старенького чернильного прибора и телефона, ничего не было. Поэтому, когда в кабинет вошла одетая со строгим изяществом Виолетова, запах ее тонких духов как будто говорил, что она по недоразумению оказалась в этом унылом помещении.
— Вы меня вызывали? Я Виолетова.
— Садитесь, пожалуйста, Елена Викторовна, — предложил Нарышкин, указывая на стул.
Она села, предварительно с сомнением взглянув на него и на стол, на который ей пришлось облокотиться.
«Почему так устало и тягостно всегда начинает Нарышкин допрос?» — думал Морозов, устраиваясь на стуле у окна. Он слушал, как Нарышкин предупреждает об ответственности по статье 181 УК за дачу заведомо ложных показаний и с той же монотонной, выматывающей душу интонацией задает другие вопросы. По мере того как Виолетовой приходилось на них отвечать, она утрачивала свой запас уверенности и блеска, с которым сюда входила. А Нарышкин по мере окончания заполнения официальной части протокола преображался. Когда, отложив в сторону авторучку, посмотрел на свидетельницу, во взгляде его было понимание ее состояния, а в голосе — дружественные нотки:
— Елена Викторовна, и мне и вам понятно, что наша беседа не самое лучшее времяпрепровождение, а скорее вынужденная необходимость. В связи с убийством Баулина многим придется сидеть тут и отвечать на вопросы. Итак, когда вы с ним познакомились, как часто вы бывали в его обществе?
— Часто... — она пожала плечами, задумалась, потом, расстроившись от этих воспоминаний, промокнула платком глаза: — Вы даже не представляете, какой это был интересный человек. С ним у меня связывалось представление о чуде... ну ладно, — она покачала головой, отгоняя ненужные мысли, — вам ведь нужны подробности? Впервые я увидела его на семинаре парапсихологов в клубе какого-то предприятия... примерно полгода назад.
— Как назывался этот семинар? — спросил Нарышкин.
— Не знаю... мой приятель сказал, что там парапсихологи соберутся на свои посиделки. Будет интересно. Я и пошла... Баулин тогда, доказывая свои возможности, начал раскручивать движением рук по кругу стрелку компаса. Я помню, как она сначала не шевелилась, а потом даже забегала по кругу. С ним был его ассистент Володя, он подавал разные круглые предметы, которые Баулин тоже заставлял двигаться по столу. Он мог держать секунд тридцать шарик от пинг-понга между расставленными в воздухе ладонями, я не поверила, думала, там есть нить... Он пригласил меня проверить. Вот так, собственно, и разговорились... не знаю только, что вам этот случай даст.
— Значит, это была ваша первая встреча, — отметил в записях Нарышкин, — а последняя?
— Два дня назад, у общей знакомой.
— Авии?
— Да, — Виолетова удивленно взглянула на них, — она вам сама сказала?
— Конечно. Ей пришлось назвать многих, кто был в тот вечер. Только фамилию вашего спутника она не смогла вспомнить.
Елена Викторовна помолчала, потом сказала небрежно:
— Честно говоря, я сама его не очень хорошо знаю. Но он мне помог. Примерно месяц назад меня сбила машина, к счастью, все обошлось незначительными ушибами, но в тот момент я валялась на дороге поздно вечером, водитель удрал... а Андрей Андреевич помог мне добраться домой.
— Кто он, где работает?
— И этого толком не знаю. На какой-то секретной работе. У него персональная «Волга», симпатичный водитель...
— Имя водителя? — быстро спросил Нарышкин.
— Кажется, Валера... — Она помолчала, опять пожала плечами: — Помню номер этой «Волги», как-то искала на стоянке. Наверное, по номеру можно узнать место работы... Дать вам его?
Она нашла пометку в блокноте.
Морозов записал.
— Расскажите, пожалуйста, как проходил этот раут у Авии. Было ли что-нибудь особенное?
— Там всегда интересно и особенно. Пришел один иностранец, Планк, который прочитал в югославском издании книгу о нашей Авии. Сам он на родине занимается экспериментами по биоэнергетике, но не лечит. А у него друг смертельно болен. Так он уговорил Баулина, чтобы тот вылечил его. Это было при мне, — расширив глаза, она смотрела на следователя. — Баулин при помощи своего знаменитого перстня и браслета снял у несчастного иностранца боли...
— Но ведь это могло быть гипнозом? — спросил Морозов.
— Знаете, это нас пресса бережет от ложных сенсаций и реклама не балует. Мы, может быть, поэтому очень доверчивы. А на Западе народ искушенный и не стесняется копейки считать. И если уж за этот перстень импортные господа предлагали четыреста тысяч, то будьте уверены... — возбудившись, Виолетова заговорила более свободно.
«Так, должно быть, она говорит в кругу близких», — отметил про себя Морозов. А вслух попросил:
— Опишите, пожалуйста, этот перстень и как проходил торг?
Виолетова проделала это блестяще, передавая даже мимику того или иного персонажа. Морозов и Нарышкин не могли сдержать улыбки.
— Елена Викторовна, теперь я вижу, что вы, конечно, душа любой компании, — сказал следователь.
— Нет, я как раз люблю сидеть в стороне и за всеми наблюдать.
— Тогда не заметили ли вы, чтобы кто-то завидовал Баулину?
— Как можно ему завидовать? Это дар, он или есть, или его нет. И кстати, такой дар требует от человека очень многого. Была бы трагедия, если бы он выпал на другие плечи... Боже мой! — она прикрыла глаза. — А говорю я еще так, будто он есть... Нет, завидовать могли только его деньгам. Деньги были немалые.
— Так... не припомните, где проживали эти иностранцы?
— В гостинице «Россия», кажется.
Поблагодарив Виолетову, они с ней распрощались, предупредив, чтобы она не разглашала тайну допроса.
В гостинице «Россия» Морозов выяснил, что группа иностранных туристов, среди которых были Планк и Джеймс, позавчера в двадцать ноль-ноль покинула пределы Советского Союза.
Морозов сообщил по телефону эту новость Нарышкину.
— Борис Петрович, если это были гангстеры, убившие и ограбившие Баулина, теперь мы уже не можем ничего поделать, даже допросить их в качестве свидетелей.
— Я это понимаю. Надо сегодня же узнать у Катерины Баулиной, похищены ли у них эти перстень и браслет.
Глава 12
Борис Петрович пришел сегодня на работу раньше обычного. Ему хотелось до звонков и вызовов к руководству сосредоточиться и нанести на карту связей все, что им удалось установить за это время, и затем попытаться наметить, в каком направлении вести поиск.
На сегодня пока было ясно одно: убийца знал, что у Баулина имеются дома драгоценные камни и изделия. По заявлению его дочери часть из этой коллекции была похищена, и если выяснится, что пропали именно эти «магические» перстень и браслет, то можно предположить, что именно ради них было совершено ограбление, так как более дорогих изделий в доме не было. Вероятно, преступник, проникнув в квартиру, сразу прошел в кабинет, твердо зная, что хозяина и его дочери нет. В противном случае он бы сначала прошелся по комнатам. Возможно, услышав, что кто-то пришел, Баулин направился в кабинет, застал вора, завязалась борьба, и тот проломил ему голову кровельным молотком, нанеся два смертельных удара. Похоже, что убийца был профессионалом и действовал по наводке человека, который не только хорошо знал квартиру Баулина, но и дал ключи от квартиры или слепки с них...
Размышления прервал телефонный звонок — звонили из дактилоскопической лаборатории и сообщили, что найденные на внутренней стороне ручки входной двери в квартиру отпечатки пальцев принадлежат вору-рецидивисту Сумцову Федору Прокофьевичу, 1937 года рождения.
— Вот за эту новость спасибо! — поблагодарил Морозов лаборанта, и не успел он как следует увязать эту новость с предыдущей раскладкой, как в кабинет вошел подчиненный Морозова, инспектор, старший лейтенант Козлов.
— Разрешите доложить, товарищ капитан.
— Слушаю, Геннадий, садись.
— Машина черная «Волга» МОА 63-36 принадлежит кожгалантерейной фабрике, закреплена за водителем Слободником Валерием Николаевичем. На этой фабрике среди руководящего состава, кому бы мог давать директор свою машину, нет ни одного Андрея Андреевича.
— Адрес Слободника известен?
— Да.
— Завтра днем доставь его ко мне на допрос, но так, чтобы на работе ему не нужно было отпрашиваться по повестке, не хотелось бы огласки до поры до времени.
— Понял. А вот вам данные на Кузнецова Захара Михайловича.
Геннадий достал из папки листок и протянул его Морозову. Захар числится художником-ретушером надомником, но почти не работает, живет на содержании у Авии, на случайных заработках. По данным товарищей из местного отделения милиции, Кузнецов иногда промышлял по детским садам, делая цветные фотографии детей. Продавал их по два рубля за снимок девять на двенадцать. В прошлом году за нарушение финансовой дисциплины был привлечен к ответственности. По данным финорганов, он за десять дней заработал около пяти тысяч рублей.
— Ты не ошибся? — изумился Морозов...
— Именно так. Ведь он кое-каких знаний о человеческих слабостях поднабрался, пока возле Авии вращался. Представлялся фотографом от Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, говорил, что эти фотоснимки будут занесены в картотеку студии, по ним-де отбирают детей для участия в фильмах. И родители не скупились, заказывали фотографии в разных позах.
— А может, он действительно по договору от студии работал?
— Нет. Во-первых, у них картотека черно-белая, во-вторых, родители уже замучили студию звонками, спрашивая, когда те их пригласят?
— С этим ясно. А что в отношении Челомчили?
— Борис Петрович, — Козлов развел руками, — ну, не успел еще, ведь не чугунный же я, и поспать надо хоть иногда.
Морозов усмехнулся:
— Ты молодец, Гена. А сейчас срочно подними дело на Сумцова Федора Прокофьевича, затем проверь, что собой представляет Челомчили, и не забудь завтра Слободника Валерия на допрос.
Морозов подъехал к Нарышкину и сообщил ему новые данные розыска.
— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! — воскликнул следователь. — Раз есть такие обнадеживающие сведения — жди сюрпризов, что-то еще всплывет. Кстати, Екатерина Баулина сообщила мне, что тибетские перстень и браслет пропали, кроме того, пропали образцы якутских алмазов, которые отец приобрел несколько лет назад. Когда я спросил, занимался ли отец их огранкой, она ответила, что не знает, он много времени проводил у себя в гараже, где есть алмазный круг.
— Сейчас это уже устаревшие детали, — сказал Морозов, — что-то она знает еще. Пожалуй, я навещу ее в ближайшее время.
— Она подготовила список пропавших из коллекции изделий и драгоценных камней, возьмите его.
— Николай Николаевич, вы вчера прошлись по соседям?
— Обошел всех. Никто из них не слышал никакого шума борьбы, криков, драки, кроме старушки, живущей под ними. В десятом часу, когда по радиотрансляции исполнялась песня «Арлекино», старушка, которая не почитает Аллу Пугачеву, радио выключила и тут же услышала глухой удар, донесшийся из верхней квартиры. Все остальные в это время были на работе. Еще одна женщина из соседнего подъезда видела во дворе двух незнакомых мужчин, один из них вошел в подъезд, где жил Баулин, другой, немного побродив, направился за ворота. Потом женщина сама ушла домой. Было, по ее мнению, около одиннадцати часов утра.
— Здесь можно предположить три варианта, — задумчиво сказал Морозов. — Первый: соседка из нижней квартиры неточно сориентировалась по времени, надо проверить по радиопрограммам, когда исполняли «Арлекино». Второй: время названо свидетельницей точно, и эти двое мужчин могут оказаться соучастниками. Возможно, что один из них — Валерий Слободник, это надо уточнить с помощью официального опознания.
— Я это могу сделать только после его допроса.
— Хорошо... — согласился Борис. — И третий вариант: эти двое вообще не имеют никакого отношения к убийству, ведь их видели около одиннадцати, а шум в квартире Баулина слышали в десятом часу, и убийство, по заключению судебного медика, произошло тоже в десятом. Не могли же преступники искусственно охладить тело убитого?
Морозов позвонил в отдел и попросил одного из сотрудников съездить в Госкомитет по телевидению и радиовещанию, чтобы выяснить время исполнения песни «Арлекино».
— А почему бы вам сейчас же не съездить к Баулиной? — спросил Нарышкин и улыбнулся: — Вы у нас такой симпатичный, молодой... вам и карты в руки. Сейчас началась экзаменационная сессия, возможно, девушка сидит дома. Попытайтесь узнать у нее побольше о Слободнике.
Морозов созвонился с Екатериной Баулиной, и она назначила ему встречу через полчаса возле своего дома, в скверике.
Морозов сразу увидел ее на лавочке. Она держала перед лицом книгу как щит, искоса поглядывая на щебетавших на соседних лавочках десятиклассниц. Катя выглядела растерянной и одинокой на их жизнерадостном фоне и одета была кое-как, без каких-либо украшений. Начала говорить первая, с ходу извинившись, что встретила не дома:
— У меня не убрано... ничего не хочется делать. И потом — я все время там чего-то боюсь. Думаю, теперь моя очередь... Так боюсь, что, наверное, сойду с ума... — вздохнула прерывисто, еле сдерживая слезы: — Вы уж скорее найдите, кто это... Невыносимо ждать...
«Милый ты человек, — с жалостью подумал Морозов, глядя на бледное издерганное личико, — ведь не сомневается, что найдем».
Она все-таки не удержалась, заплакала, спрятавшись за книгу от любопытных взглядов окружающих.
— Когда папа был, телефон звонил не умолкая, а теперь... все будто разбежались... Скоро девять дней, я боюсь... вдруг никто не придет.
— Не мучьте вы себя этим, Катя. Мне часто приходится встречаться с подобной реакцией людей, когда дело связано с убийством. Одни боятся допросов, другие — встретиться с чужой бедой, а есть люди, для которых вместе с Баулиным ушли связанные с ним дела, и другой формы отношений они не представляют. А кто-то сейчас, может быть, мучается, не знает, как к вам лучше обратиться, чтобы не причинить боль. Понимаете?
— Да, да, вы, конечно, правы... — вздыхала она, вытирая лицо, — но я начала сразу о себе... А ведь вы узнать что-то пришли?
— Вот и не угадали, — улыбнулся Морозов, — я пришел навестить вас просто так. Почти просто так, все, что вы рассказываете, мне очень и очень помогает. Поэтому давайте еще поговорим о вас. Ведь вы будущий медик?
— Ох, вы так говорите... я ведь только начинаю!
— Такие, как вы, Катюша, институты не бросают. Тем более что у вас к медицине наследственный, можно сказать, интерес?
Катя внимательно посмотрела на него, затем опустила глаза и сказала тихо:
— Вы имеете в виду, что мой отец лечил без медицинского образования и тем самым нарушал закон? Да, это так. Вас, наверное, удивляет, что я так говорю? Но мой отец... — девушка стиснула кулачки, закусила губу, чтобы не расплакаться снова, — удивительный был человек. Знаете, в его возрасте люди уже приходят к какому-то своему результату и становятся чванливы, а он только жить начинал. Каждый день что-то открывал. Если бы вы знали, скольким людям он помог и как ему были благодарны!
— В чем заключалась эта благодарность? Катя, не толкуйте мой вопрос превратно — мне надо знать все...
— Да, я понимаю, — устало махнула она рукой, — он, между прочим, и тогда не скрывал... не знаю — почему? Иногда брал большие деньги, иногда — только копейки.
— Значит, это не могло быть местью человека, который не излечился, но заплатил?
— Вряд ли... Знаете, мой отец вообще не любил слова «лечить». И те, за кого он брался, должны были очень сильно сами работать над собой. Не то что в поликлинике — каждый требует, чтобы его немедленно вылечили, а сам никаких усилий приложить не хочет... У отца была своя система...
Она замолчала, уронив руки, тихо добавила:
— Вы знаете, чего я больше всего сейчас хочу? Чтобы тот, кого вы найдете, был просто вор... только вор... понимаете!
— Да, да, конечно... — с сочувствием сказал Морозов, — вам бы сейчас отдохнуть, успокоиться...
Она первая встала, подала руку:
— Нет, нет, не провожайте... звоните почаще, если можете.
Морозов задержал ее руку в своей.
— Катя, еще один вопрос... Я не видел вашего знакомого Валерия и хочу сразу оговориться, что ничего против него лично не имею, но мы сейчас проверяем многих... Вам ничего не казалось подозрительным в ваших встречах, отношениях?
Катя подумала и отрицательно покачала головой:
— Он неплохой парень... Простой и какой-то наивный. Наше знакомство было чистой случайностью, он подъехал на машине к институту и спросил, где улица Чернышевского, а я там живу. Он довез меня до дома и, что странным показалось, назвал по имени. Правда, может быть, кто-то из подруг возле института назвал меня... не помню... Еще какие-то были мелочи, не помню...
— До свидания. Я буду звонить вам.
Морозов поехал к себе в управление. Но мысли его невольно сбивались на жалость и тревогу за судьбу Кати Баулиной. Не объявится ли снова убийца в ее доме?!
После обеда к Морозову явился Козлов. По выражению его лица
никогда нельзя было понять, успешно прошло у него то или иное мероприятие или наоборот. Он бросил на стол папку, вытер со лба пот и сказал:
— Ну и жара!
— Это самая главная новость?
— Здесь судебное дело на Сумцова, я с ним ознакомился. Интересный вырисовался тип, но о нем, я думаю, потом. Подвернулся случай, и я привез сюда Валерия Слободника, вернее, он подвез меня на черной «Волге» и ждет аудиенции в коридоре.
— Ну, Геныч! У меня слов нет! Когда ты только повзрослеешь! Пижон. Сколько у него свободного времени?
— Сколько нужно, — спокойно ответил Козлов.
Морозов взялся за телефон:
— Николай Николаевич, это Морозов. Ваш любимец Козлов привез на допрос Валерия Слободника, начинать или подождать вас? — Иронически взглянув на Козлова, добавил: — Я уже высказал, что я о нем думаю, могу и от вас передать... Хорошо, жду.
Морозов положил трубку и протянул руку за папкой:
— Давай дело Сумцова... Теперь выйди в коридор, извинись и попроси Слободника полчасика подождать.
— Понятно... Инициатива, конечно, наказуема, — сказал тот, вставая из-за стола, — но имейте в виду, завтра этот добрый молодец уходит в отпуск, как и его шеф.
Морозов подумал, что зря обидел Геннадия — у этого парня с каждым днем прибавляется опыта, и из него получается инициативный и находчивый оперативный работник. И когда Козлов вернулся в кабинет, уже иным тоном предложил:
— А скажи-ка мне, добрый молодец, чем знаменит Сумцов?
— Трижды сидел за воровство личной собственности. Решением суда в шестьдесят восьмом году ему присвоено звание рецидивиста с запрещением проживать в Москве и в столицах союзных республик в течение пяти лет. Последний раз осужден в семьдесят третьем на пять лет. После освобождения в сентябре семьдесят восьмого отправился проживать в город Спас-Клепики Рязанской области к своей двоюродной сестре. По истечении нескольких месяцев выехал от нее, не выписавшись из домовой книги. Возможно, как и прежде, гуляет по графику сезонников: зимой на юге, летом — на севере.
— Маловероятно, на чердаках ночевать — возраст не тот.
— Да, и, судя по биографии, этот человек — крупный вор-профессионал с большой школой за плечами. Может быть, на ограбление и убийство Баулина его вывел какой-то наводчик. Давайте, я пока проверю по учету всех, кто проходил по делу, — возможно, кто-то из них когда-то сидел с Сумцовым. А затем продолжу выборку по записной книжке Баулина.
Вошел запыхавшийся Нарышкин:
— Ну, Геннадий, любимец публики!..
— А мы, Николай Николаевич, у него, оказывается, в долгу — Слободник с завтрашнего дня уезжает в отпуск...
И Морозов ввел следователя в курс дела. Затем попросил Козлова пригласить Валерия на допрос, а самому идти заниматься по намеченному плану.
— Разрешите? — робко, надтреснутым голосом долго молчавшего и волновавшегося человека спросил Слободник и замер в дверях, смущенно откашливаясь в руку.
— Садитесь, — Морозов показал на стул, — допрос будет вести следователь прокуратуры города Николай Николаевич Нарышкин.
Морозов отошел от стола и встал у окна. Нарышкин достал протокол допроса.
— Гражданин Слободник, я должен допросить вас в качестве свидетеля по делу об убийстве Баулина Викентия Мартыновича.
Валерий согласно и как-то испуганно кивнул.
Нарышкин официальным сухим тоном задавал вопросы, фиксировал их в бланке протокола и затем, предупредив об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по статьям Уголовного кодекса, дал ему расписаться и отложил авторучку в сторону. Морозов, как обычно, следил за поведением допрашиваемого. Слободник нервно сжимал кисти рук и, похрустывая суставами, перебирал один за другим пальцы.
— Вам нравится Катя Баулина? — спросил Николай Николаевич.
— Да...
— Вы ежедневно встречали ее в пятнадцать часов у 1-го медицинского института и затем ходили в кино, гулять и даже в ваше рабочее время. Вы подтверждаете это?
— Да... но я отпрашивался у директора и подъезжал к нему, когда он приказывал.
— Меня не интересуют ваши отношения с директором. Пожалуйста, ответьте, почему в день убийства Баулина вы ждали его дочь не как обычно у института в пятнадцать часов, а во дворе ее дома, причем не зная, что она должна вернуться раньше?
Нарышкин стал записывать вопрос в протокол, и Валерий сразу покраснел от волнения.
— А вот на этот вопрос я вам ответить не имею права. Если у вас есть такие полномочия, то вы можете узнать об этом у самого Андрея Андреевича.
— А кто он такой?
— Полковник МУРа.
— Его фамилия, телефон? — спросил Морозов и, видя, что Валерий в замешательстве медлит, объяснил: — Ведь нам надо его найти...
— Но я не помню фамилию... — растерянно пробормотал юноша, — а телефона он мне не оставил. Когда нужно, он мне сам звонит на работу или домой, назначает время и место встречи.
— При каких обстоятельствах вы с ним познакомились? — спросил Нарышкин.
— Давайте так: все, что касается Андрея Андреевича, вы узнаете от него лично, мне на эти вопросы отвечать запрещено.
— Николай Николаевич, если он полковник МУРа, то я его быстро разыщу. Полковников Андреев Андреевичей у нас, думаю, не так уж много. — Морозов пошел в картотеку кадров.
— Опишите внешность Андрея Андреевича, — попросил Нарышкин.
— Ему лет около пятидесяти, волосы русые, на висках седые... Нос прямой. Глаза светлые. Да, еще: борода и усы.
— Он показывал вам свое удостоверение?
— Да... но я в него не заглядывал.
Вскоре вернулся Морозов и объявил, что ни в МУРе, ни в районных и других оперативных управлениях человека по имени Андрей Андреевич в звании полковника нет.
— Он объяснил мне, что работает в каком-то очень секретном отделе, где проводятся особо опасные операции. Может быть, там его можно найти, — с оттенком отчаяния сказал Валерий.
— Хорошо, мы постараемся разыскать его, — пообещал Нарышкин. — Следующий вопрос: о чем вы говорили с Катериной Баулиной, когда встретились у ее дома?
— Я предложил сходить в кино, но она сказала, что ей надо переписать экзаменационные билеты, и предложила ей помочь. Я согласился, и мы пошли в ее квартиру.
— Вы с желанием пошли с ней или продолжали искать повод удержать ее от захода в квартиру?
— Мне было неудобно... перед ней, и я... уговаривал пойти на американский боевик в «Иллюзион». Она отказалась. Ну, вот мы вошли, дверь была приоткрыта, она туда заглянула и закричала. Я ей помог, а потом вызвал милицию... — Валерий замолчал, понурив голову.
— А почему вы не дождались приезда опергруппы?
— Нужно было на работу.
— В таком случае, почему вы предлагали пойти в кино?
Валерий вздохнул тяжело и сказал с тоской:
— Я и сам сейчас мало что понимаю... Было стыдно, что вроде удрал, оставил одну. И боялся, что возьмут в свидетели, сообщат на работу, а я ведь отпрашивался к зубному.
— Вы знали имя Баулиной до знакомства с ней?
— Да, — ответил удрученный своими мыслями Валерий, — ведь я познакомился с ней по заданию Андрея Андреевича, он вел разработку ее отца-жулика, и слепки с ее ключей снял я и передал ему.
Это было сказано так искренне, что у следователя не осталось сомнений в правдивости парня.
Взяв с Валерия подписку о невыезде и попросив его при очередном свидании со своим полковником МУРа взять у него телефон, узнать фамилию, Нарышкин отпустил свидетеля. Морозов проводил Валерия до проходной.
Когда Морозов вернулся, Нарышкин заканчивал оформление бумаг.
— Что делать будем? — спросил, не поднимая головы и отложив авторучку. — Жаль парня, кто-то его здорово обманул.
— Да... мне кажется, он по своей инфантильности в это дело влип. Если бы он имел отношение к убийству, то зачем сидел у дома и ждал возвращения дочери убитого? Какой смысл?
— Никакого, — согласился Нарышкин.
— Предположим, что пресловутый Андрей Андреевич не сотрудник милиции, а наводчик. Подговаривает рецидивиста Сумцова ограбить квартиру. Тот убивает Баулина, они скрываются, тогда зачем же они подставили Валерия? Не возьмет же он за здорово живешь вину на себя?
— Так-так, ясно... ничего не ясно! По логике вещей Сумцов в такой ситуации мог действовать один. Если так, то ни «полковник МУРа», ни Слободник к убийству отношения не имеют. Тогда все это походит на абсурд или чистую случайность!
— Что-то здесь не то, — согласился Морозов. — Интуитивно я чувствую, что и Валерий, и Андрей Андреевич имеют какое-то отношение к преступлению, но какое? Прямо клубок какой-то, не знаешь, с какой нитки начать...
— Наверное, с поиска Сумцова? А я еще раз допрошу Виолетову...
Глава 13
Валерий, подавленный случившимся, вернулся домой. Он не стал ни есть, ни пить, ни переодеваться, а сидел возле телефонного аппарата как будто в ожидании звонка. Он и сам не знал, на что надеется. Катя никогда не звонила первой, а сейчас, наверное, думает, что он «в командировке». Где-то в глубине сознания уже вызревала мысль, что Андрей Андреевич подло его обманул. Валерием овладело тупое, безысходное отчаяние, когда разом вспомнились все несчастья, свалившиеся на него за столь короткий срок: визит к инспектору ГАИ по поводу нарушения дорожных правил, затем сбитая женщина, его позорное бегство от наказания, приведшее к новому преступлению. Ведь ни телефона, ни фамилии своего покровителя он назвать не может.
Вдруг — телефонный звонок, он рывком снял трубку, сказал:
— Слушаю!
Приятель звал его в кино. Он сказал, что болен, положил трубку и отчетливо представил себе того счастливчика на другом конце провода. Люди в кино ходят, а он... Сейчас его раздражало все — музыка за стеной, голоса на улице и само присутствие рядом людей, на совести которых не было таких черных и постыдных грехов.
Снова звонок. И он крикнул раздраженно:
— Да! Слушаю!
— Это Андрей Андреевич.
Валерий даже подскочил:
— Где вы?!
— Не шуми... Тебя допрашивали?
— Да... Но что же вы...
— Что ты сказал?
— Ничего, как велели.
— Про слепки сказал?
— Нет... Они спрашивали, как ваша фамилия и телефон.
— Понятно... У меня мало времени, так что слушай внимательно. Так получилось, что я не нашел тебя, когда вышел из квартиры. Но в этом ты сам виноват, что ушел с поста. Я жалею, что не позвонил тебе сразу и не объяснил, что за любое групповое преступление ответственность и срок выше, а ты мой сообщник, доставал слепки и так далее. Как ты уже сообразил, я не полковник МУРа, а тот, кого они ловят. Но меня им не найти, я сегодня же уезжаю в другой город, а ты не будь дурачком, помни про свой наезд и все прочее — помалкивай. Тогда тебя трудно будет взять...
— Ах ты сволочь... сволочь ты, — и сгоряча Валерий повесил трубку...
Напрасно он ждал повторного звонка. Когда возмущение прошло, его сменил страх, к прежним опасениям прибавилось еще одно: а что, если этот бандит и с ним захочет расправиться? А главное, что он не смог узнать ни подлинной его фамилии, ни телефона.
Исчезновение Агафонова поставило перед Валерием Слободником альтернативу: или по-прежнему умалчивать о поручениях этого лжеполковника, которые приходилось ему выполнять, или, во всем признавшись, положить конец своему двойственному положению.
В это время Нарышкин вел повторный допрос Виолетовой. Он более детально, чем в первый раз, расспросил ее об Андрее Андреевиче, выяснил, при каких обстоятельствах они познакомились, как Агафонов играл роль ответственного работника.
— Теперь многое в отношении этого гражданина ясно, — сказал наконец он, — помогите мне еще кое в чем разобраться. Сижу я в своем кабинетишке, — Нарышкин обвел вокруг себя рукою, как бы показывая, что осознает его убогость, — а вокруг такое делается! Я имею в виду биолечительство... что вы об этом думаете?
— Ну, то, что я думаю, вы, кажется, в прошлый раз спрашивали, — несколько воинственно начала она, — и если вопрос возник еще раз, то лучше я дам вам журналы, наши и зарубежные, по этой проблеме. Что касается меня лично... мне Авия неплохо помогла!
— А врачи?
— Боже мой! Вы, наверное, очень здоровый человек... Пока пройдешь обследование, высидишь у всех кабинетов, насмотришься, наслушаешься, а в итоге если тебе что-то и скажут, назначат лечение, то опять-таки надо быть здоровым и неработающим, чтобы все это выполнять...
— Ну да, а тут без всяких анализов поводят над тобой руками... — хмыкнул Нарышкин, — убедили. Действительно здорово. Но пока, как я понял, это только экспериментальное направление...
— А до появления научного направления конечно же никто никого не лечил, — съязвила Виолетова.
— Елена Викторовна, — шутливо погрозил он ей. — А с вами ухо держи востро. Но я другое имел в виду. Предположим, нашли в лесу новый гриб. Может быть, его предки несколько веков произрастали в этих местах, может быть, его уже открывали и забывали, но для наших современников — он новый. Скажите, вы будете пробовать его на вкус или подождете, пока его свойства изучат в лаборатории?
— Конечно, подожду, — улыбнулась Виолетова.
— Вот видите, а многие «едят», еще не зная, чем это для них может кончиться. И платят при этом большие деньги... Ведь Авия и Баулин — только единицы из числа лечителей... даже не знаю, как их назвать, какая-то новая образовалась специальность... Да, Нарышкин слушает, — он снял трубку звонившего телефона, — кто говорит?
— Это Слободник, — услышал он тихий голос, — мне только что звонил этот самый... признался, что он не полковник МУРа, а бандит. А я ему помогал, от него зависел. Вот... судите меня теперь, пожалуйста.
— Хорошо, что вы сами все осознали и позвонили мне, гражданин Слободник. Теперь вопрос: вас шантажировали тем, что вы сбили женщину и скрылись?
Некоторое время в трубке было молчание, потом раздался взволнованный голос:
— Да... Откуда вы это знаете?! Я думал, он действительно сотрудник МУРа, а я хотел, помогая органам, искупить вину за смерть.
— Смерть, говорите? А Елена Викторовна жива и сидит сейчас передо мной. Ладно, поговорим обо всем на месте, завтра приезжайте, и письменно оформим ваше заявление.
Нарышкин положил трубку, помолчал, что-то взвешивая в уме, и сказал Виолетовой:
— Вот так бывает, уважаемая Елена Викторовна... Это звонил водитель машины, которая вас сбила. Ваш Андрей Андреевич каким-то образом нашел его, шантажировал и втянул парня в темную историю. Во всяком случае, незадолго до убийства Баулина он знакомился с Катей по заданию Андрея Андреевича, которого считал полковником милиции.
— Боже мой... — Виолетова закрыла глаза и так сидела некоторое время. Потом в упор посмотрела на следователя: — Так мне, дуре, и надо... Я уже начала подозревать, что с ним что-то неладное, но такого... Сдаю свой диплом психолога! Стыд какой!.. — она вытащила платочек и начала сморкаться.
— Это вы зря, — успокаивающе сказал Нарышкин. — Диплом есть диплом, а здесь, я думаю, другое. Все мы живем в какой-то спешке, а хочется праздника, особенно женщинам. Вот он вам и показался таким праздником...
— Нет, нет, нет... это чудовищно! Еще сегодня он приходил, сказал, что едет на полигон, и звал с собой... — она выпила воду из стакана, который передал ей Нарышкин. — Спасибо, не стоит меня успокаивать, получила, как говорится, свое... Единственное, о чем прошу... как вам это объяснить? Я этого человека не знала — понимаете? Никогда...
Глава 14
Два дня прошли незаметно. В пятницу, к обеду, из командировки вернулся Козлов, пропыленный, усталый.
— Ну, какой же ты... типичный командированный, с голодным блеском в глазах, — оглядев своего любимца, сказал Морозов. — Пойдем-ка вместе в столовую, там расскажешь, как Спас-Клепики...
— Я и в Рязани побывать успел. И кажется, нашел Андрея Андреевича! Ладно, обедать так обедать, — посмеялся Козлов.
— Какой обед!.. Я уже сыт по горло. Давай про Андрея Андреевича. Ну, не томи душу, рассказывай!
— Приехал я, значит, в эти Клепики и даже расстроился: кого ни спрошу, никто не знает, где у них загс и где милиция. Вот, думаю, сильно авторитетные организации...
— Гена, то, что ты молодец, я знаю, давай ближе к делу.
— Хорошо, раз я молодец, то, конечно, нет смысла рассказывать, какую я проявлял смекалку и расторопность, а результаты моих титанических усилий таковы: после освобождения в семьдесят восьмом году Сумцов Федор Прокофьевич приехал на жительство к своей матери в Спас-Клепики, Сумцовой Клавдии Михайловне (девичья фамилия Рожкова), жившей в одном доме со своей сестрой, по мужу Лоховой Розой Михайловной, тысяча девятьсот десятого года рождения. Ее муж, как и отец Сумцова, погиб в сорок втором на фронте. Наш уголовничек после возвращения из заключения быстро женился и перешел жить к жене, тоже в частный дом на другом краю городка. В семьдесят девятом году осенью родной дом Федора сгорел вместе с его родственниками и с домовой книгой. Вскоре он развелся с молодой женой и уехал, по ее словам, в Сибирь деньги заколачивать, так как в Спас-Клепиках не мог найти себе работу по душе. Далее, оказывается, у этой его тети Лоховой есть приемная дочь, еще с войны, она ее официально не удочеряла. Та в пятьдесят втором году вышла замуж за Агафонова Андрея Андреевича, тридцатого года рождения, и переехала жить в Москву на улицу Чкалова, тридцать восемь. И может оказаться, что Сумцов Федор Прокофьевич, чьи отпечатки остались на двери убитого Баулина, работает в паре с Агафоновым.
— Что ж... в этом есть логика, все-таки родственники.
Морозов тут же взялся за телефон, навел справки в отношении Агафонова Андрея Андреевича, но оказалось, что тот проживает по Подсосенскому, 12, квартира 85.
— Возьми, Геныч, мою электробритву, приведи себя в порядок, пообедаем, и за дело. Сгоняешь в жэк и соберешь необходимую информацию... Кажется, мы напали на след.
В течение дня Морозов встречался и беседовал с сослуживцами, но, завидев кого-либо из руководства, старался до поры не показываться на глаза: зачем докладывать не проверенные пока факты?
К вечеру вернулся Козлов и радостно сообщил:
— Борис Петрович, Агафонов Андрей Андреевич, тридцатого года рождения, действительно проживает по данному адресу, его жена скоропостижно скончалась в 1974 году, с тех пор он живет один, в отдельной двухкомнатной квартире, и очень может быть, что Сумцов скрывается у него. Я взял на всякий случай копию фотокарточки Агафонова в паспортном столе из формы пятнадцать.
Геннадий положил снимок на стол. С фотокарточки на них смотрел симпатичный мужчина средних лет с темной окладистой бородой и усами.
— Инженер-физик по специальности, — продолжал Козлов. — Работал в атомной промышленности, в пятьдесят лет ушел на заслуженный отдых, больше не женился. Все-таки странно — в пятьдесят один год киснуть дома? Только если он больной...
— Наведи справки в ведомственной, районной поликлиниках, в собесе и по прежнему месту работы. А я займусь проверкой другим методом.
Глава 15
Когда Нарышкин обычным в таких случаях официально-скучным тоном пригласил Виолетову прийти к нему на допрос в любое удобное для нее время, он услышал резкий, с надрывом, голос:
— А можно немедленно?
— Как вам будет угодно, — невозмутимо ответил следователь и, положив трубку, про себя подумал: «Их, видите ли, побеспокоили... А может быть, что-то случилось?»
— Деловая женщина, — сказал он с усмешкой Морозову, — больше минуты на разговор не тратит... — и еще раз, через очки с более сильными линзами, вгляделся в небольшую фотокарточку Агафонова, которую Морозов привез с собой. — Нет, не верится, чтобы этот человек в таком возрасте мог изменить своему прошлому. Убийцей так вдруг не становятся. И что может связывать Агафонова с Сумцовым? Совершенно разный уровень...
— Не скажите, Николай Николаевич. Я просмотрел уголовное прошлое Сумцова, это своего рода талантливый преступник. Изворотливый, даже какой-то артистичный. С равным успехом бывал вхож в круги интеллигенции и уголовного мира. Сильный, коварный. В Нарымском лагерном подразделении он пришел к власти над заключенными очень волевым и рискованным путем, расправившись чужими руками с предшественником, сам стал «паханом» и продержался в этом звании все свои пять лет. Любитель книг, в заключении перечитал всю тюремную библиотеку.
В дверь постучали.
— Разрешите? — спросила Виолетова и прошла, искоса взглянув на Морозова.
— Быстро вы добрались, — мягко сказал Нарышкин.
— Наверное, Андрей Андреевич свою машину прислал... — добавил Морозов.
— Вы зло шутите, — закусила губу Виолетова, — я действительно приехала быстро, потому что он был у меня... Ну что ж вы его не поймаете! Видеть не могу мерзавца, подлеца такого... и боюсь, понимаете! Впервые в жизни страшно боюсь...
— Чего конкретно? Вы дали ему понять, что знаете, кто он? — посерьезнев, спросил Нарышкин.
— Нет! Ни намеком... Я же сказала — безумно боюсь, животный какой-то страх. И вообще, я не поняла, зачем он сегодня явился. Нес какую-то любовную ахинею...
— И все?
— Все... — растерянно подтвердила Виолетова. — Мы расстались с ним навсегда... но вы ведь тоже меня зачем-то вызвали?
— Да, мы пригласили вас только затем, чтобы провести неофициальное опознание. — Нарышкин положил перед Виолетовой фотокарточку Агафонова и спросил: — Узнаете это лицо?
— Похож на этого типа... но в чем различие — не пойму.
— Фотоснимок сделан несколько лет назад...
— У него шире лицо, более светлые волосы.
— На контрастность снимка можете внимание не обращать, — подсказал Морозов, — вглядитесь в очертания бровей, носа, ушей и другие детали лица.
— Я же сказала, что это он... что еще? У меня завтра возвращается муж из заграничной командировки. Скажите лучше, что мне делать, как быть?
— Радоваться... и готовиться к встрече.
Виолетова вздохнула, кивнула головой и ушла.
Морозову невольно вспомнилось, как вошла она сюда в первый раз — наступательно, легкой походкой уверенной в своем обаянии и непогрешимости женщины. Теперь, как бы он к ней в душе ни относился, а вид ее взывал к жалости.
Оставшись одни, они долго обсуждали и анализировали сложившиеся обстоятельства, прикидывая и разбирая варианты. Как организовать розыск Сумцова? Ведь он может проживать совсем в другом месте. Задержав одного Агафонова, им не удастся доказать его виновность, веских улик против него нет. Надо начинать с Сумцова. А тот, почувствовав опасность, наверняка скроется в неизвестном направлении.
— Знаете, в чем парадокс, — усмехнулся Морозов, когда оба уже изрядно вымотались, — у оперработников и преступников в одинаковой степени бывает развита интуиция, только пользуются они ею в разных интересах.
— Да, да, — согласился Нарышкин, — интуицию сбрасывать со счетов нельзя. Придется очень аккуратно следить за Агафоновым, но, пока не найдете Сумцова, нужно быть предельно осторожными.
Они расстались. Морозов поехал к себе в управление.
К концу дня возвратился Козлов и принес новости, которые никак нельзя было назвать утешительными:
— Борис Петрович, докладываю: обегал все, и даже больше... Агафонов Андрей Андреевич — уважаемый человек, лауреат Государственной премии, кандидат физико-математических наук. За успешную ликвидацию аварии на атомном реакторе получил орден Трудового Красного Знамени, правда, после этого сильно заболел, получив большую дозу облучения. А облучение, как известно, вызывает много недугов, в том числе и патологическую импотенцию. Говорят, что сейчас он сильно изменился, порвал с друзьями, отводит душу накопительством, живет отшельником. На приглашение товарищей прийти на работу на разные торжества даже не отвечает.
Морозов взял его записи, еще раз перечитал и сказал:
— Ладно, Геныч, поработал ты хорошо, но от этого не легче.
Теперь неосознанная тревога получила подкрепление. Морозов начал серьезно сомневаться в правильности выбора объекта разработки. Такая положительная характеристика Агафонова могла означать, что они ошиблись в направлении поиска, потратили массу времени, а где-то есть другой, нужный им Андрей Андреевич, по-настоящему связанный с Сумцовым. Возможно, сидели они вместе в одном лагерном подразделении или пересыльной тюрьме или ехали в одном эшелоне... Надо было срочно начинать разрабатывать новую версию.
— Геныч, я в «Динамо» на тренировку опаздываю. Позвони Нарышкину и доложи ему все новости.
Глава 16
На другое утро Морозов позвонил Нарышкину:
— Николай Николаевич, полночи думал, и все впустую.
— Эх, милый Борис Петрович, молод ты да зелен, как в русских сказках пишется. А у меня сколько дел было, когда преступление совершали на первый взгляд добропорядочные люди. Но это на первый взгляд, а мы с тобой обязаны приглядеться. Вот, помню, в шестьдесят седьмом году раскрыл убийство по делу Раскина. Его выродок-сын, чтобы получить наследство, приехал ночью на дачу и убил там отца, знаменитого адвоката, и мать. Да ты помнить это должен, в «Комсомолке» писали... Поэтому давай-ка мы доработаем эту версию, потом будем думать о другой.
Нарышкин хорошо понимал сейчас состояние Морозова. По своему многолетнему опыту он знал, что розыскнику, который сам разработал, обосновал и определил направление поиска, всегда трудно от него отказаться. А если он еще и затратил на реализацию много сил, то версия становится для него чуть ли не частицей души. Учитывая эти особенности человеческой психики, руководители, которым дано право формировать группы поиска, никогда не объединяют противников одной версии и другой. Обычно в крупных делах поступают так: сколько версий, столько и разработчиков со своими группами.
После разговора с Нарышкиным Морозову стало спокойнее на душе, и, чтобы собраться с мыслями, он начал приводить бумаги на столе в порядок. Снова звонок. Морозов снял трубку и сразу узнал взволнованный голос Виолетовой. Она, выпалив с ходу «здрасьте» стала упрашивать перехватить мужа, который поехал на Петровку, 38.
— Елена Викторовна, — перебил он невнятный поток слов, — я толком не понял, что, как произошло? Давайте по порядку...
— Муж вчера возвратился из Стокгольма, привез подарки, и среди них одну безделушку, взял шкатулку, где лежали ювелирные изделия, а там — пусто. Его чуть удар не хватил, да и меня тоже. Я ответила, что не знаю, куда они делись. Он стал засыпать меня вопросами, кто приходил, не теряла ли я ключи, не была ли в долгах, о, надо только его знать! Он сейчас всю милицию на ноги поднимет! Не представляю, что теперь будет?!
— А что может быть?.. — только и успел сказать Морозов, как она тут же заплакала в трубку, при этом быстро приговаривая: — Вы хороший... умный... умоляю! Возьмите его заявление сами. А то попадет к другим, начнут рыться в грязном белье... будет гнусно...
У Морозова под настроение чуть было не сорвался с языка ехидный вопрос: «А до этого лучше было?» — но он сдержался и пообещал ей сделать то, что в его силах.
Морозов позвонил в приемную:
— Тамарочка, с нашим к вам уважением... Правильно, угадала — Борис, Петров сын. Там должен к вам прийти заявитель Виолетов.
— А он уже здесь... с начальником беседует.
— Вот как побеседует всласть, направьте его ко мне, пожалуйста.
Через пять минут пожилой, но достаточно энергичный мужчина уже стучался к нему в кабинет.
— Вы товарищ Морозов?
— Да, проходите, пожалуйста, Вениамин Николаевич.
— Простите... — прищурился тот, поправив очки в модной оправе. — Но я вас что-то не припоминаю. Впрочем, я забыл, куда пришел. Как ваше имя-отчество?
Морозов назвал и попросил изложить устно суть заявления. Виолетов сдержанно рассказал все, что Морозов уже услышал от Елены Викторовны.
— У вас есть какие-либо предположения? Кто, по-вашему, мог это сделать?
— Представьте мое положение. Я возвращаюсь домой после полуторамесячной командировки и сразу обнаруживаю, что самое дорогое, что у меня было... кроме жены, конечно... кем-то похищено! В шкатулке лежали драгоценности примерно на сумму около пятидесяти тысяч рублей. Кто мог взять их? Только тот, кто приходил в гости в мое отсутствие, ее знакомый или вор...
— В вашем рассказе между ними ставится знак равенства?
— Я уже не представляю, что и думать. Вы знаете — тем сильнее удары, чем они неожиданнее. И я не могу допрашивать жену не только по морально-этическим соображениям, но и в силу специфики своего положения — я старше ее и часто бываю в разъездах... Одним словом, прошу помочь... Знаю, что это почти невозможно, но в приемной мне сказали, что вы один из лучших сыщиков... впрочем, у вас это называется как-то по-другому?
— Вы можете составить описание пропавших предметов?
— Да, заявление у меня в приемной, а опись похищенного вот, пожалуйста. — Виолетов достал из «дипломата» прозрачную папку. — Здесь есть все, даже цветные вырезки из рекламного журнала «Неккерман» — тех ювелирных изделий, которые пропали. Стоимость может оказаться другой...
Морозов пересмотрел все бумаги, записал необходимые данные и попросил прислать для беседы его жену и добавил: — Ваше присутствие при этом необязательно.
— Да я и сам хотел вас просить об этом. Не могли бы вы сейчас же позвонить ей домой, пригласить? И если можно... — он замялся, сказал просяще: — Помягче с ней.
Морозов, не сдержав улыбки, кивнул. Тут же созвонился с Виолетовой, назначил ее приход на двенадцать часов, после чего Виолетов ушел. А Морозов опять позвонил Нарышкину и сообщил ему новые сведения о пропаже драгоценностей Виолетовой.
— Ну, Морозов, у меня слов нет! Как с вами свяжешься, так сам не рад будешь. Все наши дела по какой-то нелепой закономерности разрастаются, как снежный ком. Ну что же, желаю удачи, звоните.
Морозов положил трубку и подумал, что дело делу рознь. Например, когда он выезжал на место преступления и собака по следам находила убийцу прямо на перроне вокзала, его обезвреживали, дело передавали в суд. Морозова хвалили за быструю раскрываемость. Но в памяти такие дела обычно надолго не сохраняются.
Виолетова приехала раньше назначенного срока и минут десять томилась у кабинета в ожидании. На ней было красивое, может быть, только что привезенное мужем из Стокгольма платье, но вопреки современной интерпретации истины: «Женщина хороша настолько, насколько она одета», — Елена Викторовна в своем наряде была совсем нехороша. Она ежилась, оттягивала воротник, будто он ее душил, и кожа на шее при этом морщилась, немилосердно выдавая возраст.
— На основании заявления, поступившего от вашего мужа, Виолетова Вениамина Николаевича, я вынужден буду допросить вас в качестве свидетельницы, — произнес вступительное слово Морозов и взялся за протокол допроса: — Скажите, пожалуйста, кто из ваших знакомых мог это совершить?
— Я абсолютно точно знаю, что это дело рук Андрея Андреевича.
— Как его фамилия?
— Ведь я уже говорила, что не знаю. Какой мне смысл скрывать?.. Я думаю, что его последний визит был как раз с целью воровства. Как же я расскажу обо всем мужу? Он меня приревнует, и возникнет не просто скандал, я абсолютно точно знаю, что жизнь в нашей семье будет невыносимой.
— Вы были близки с этим человеком? — спросил Морозов, вроде бы и не глядя прямо на Виолетову, но и не упуская малейшего изменения в ее лице.
— Борис Петрович, — сказала она неестественным голосом, — есть вопросы, которые даже задавать женщине неприлично.
— И тем не менее я должен получить на него ответ. Это принципиально и очень нужно для дела. Можете не бояться, по закону материалы следствия огласке не подлежат.
— Ну знаете!.. — Она пыталась скрыть раздражение.
— А правда, что он импотент? — быстро спросил Морозов.
— Я что-то за ним такого не наблюдала, — ответила она, и тут же ее лицо покраснело. Она открыла сумочку, что-то ища.
Морозов отложил ручку в сторону, задумался...
— Елена Викторовна, я прошу извинить, но мне нужно прервать ваш допрос. И еще одна просьба: посидите сегодня дома, возможно, понадобится ваша помощь, а пока распишитесь в протоколе... До свидания.
Виолетова ушла. Морозов по телефону попросил Козлова срочно подготовить оперативную группу из сотрудников их отдела.
— Борис Петрович, я вас понимаю, но если этот Андрей Андреевич уехал, то уехал еще вчера, а если он врал Виолетовой, то такая спешка необязательна.
— Гена, мы сориентируемся по обстоятельствам. Закон позволяет нам в исключительных случаях действовать без санкции прокурора, с последующим ее оформлением. Я чувствую, что мы можем упустить момент. Едем к Агафонову. Все объясню по дороге.
Морозов позвонил дежурному и попросил у него две оперативные автомашины. Группа получила короткий инструктаж и выехала.
Глава 17
Техник-смотритель позвонила сразу в две двери. Соседка Агафонова по лестничной площадке спросила, кто там. За дверью Агафонова было молчание.
— Это я, Зинаида Кирилловна, техник-смотритель и инспектор из РСУ Кравцова, обход по состоянию здания.
Соседка открыла дверь, впустила комиссию. Техник-смотритель бегло осмотрела помещение, кивнула на соседнюю дверь:
— А есть кто-нибудь в этой квартире, не знаете? — и позвонила еще раз.
Агафонов открыл, впустил женщин, они осмотрели помещение. Техник-смотритель спросила:
— В сентябре-октябре будете дома? Рабочие после ремонта школ освобождаются, за нас возьмутся.
— Ну пожалуйста — с сентября так с сентября. Спасибо, милые дамы, до свидания, — выпроваживал их Агафонов, но у дверей появилась группа мужчин, один из которых был в форме сотрудника милиции. Агафонов хотел тут же захлопнуть дверь на замок, но подставленная нога помешала. Сильные молодые плечи перебороли усилие Агафонова, и группа вошла в прихожую.
— В чем дело, я вас не звал! — возмутился хозяин квартиры.
— Старший инспектор уголовного розыска Морозов, — представился Борис Петрович, предъявляя свое удостоверение. — Это наши сотрудники, — Морозов обвел рукой присутствующих. — Пройдемте в комнату.
— В чем дело? Что за произвол?
— Уж коль скоро мы вошли против вашего желания в квартиру, нам придется допросить вас в качестве свидетеля по делу об убийстве гражданина Баулина, которого вы знаете, и провести обыск.
— Вы что-то путаете! Я вообще никогда не слыхал такой фамилии. Где и когда это произошло? — спросил хозяин квартиры, садясь за стол.
— Вот это уже деловой разговор, сейчас мы с вами обо всем поговорим, — сказал Морозов, тоже усаживаясь за стол напротив и доставая из портфеля бланки протокола допроса. — Назовите, пожалуйста, мотив, по которому вы, увидев сотрудника милиции и других лиц, не хотели нас впускать? Этот вопрос я заношу в протокол.
— Думал, грабители... — пожал плечами Агафонов. Он был в спортивном костюме фирмы «Адидас», в кедах, тщательно выбрит, благоухал одеколоном, и этот молодецкий вид никак не соответствовал сонному выражению, которое он нагнал на лицо.
— Однако вы не бросились в эту комнату, где у вас на стене висит оружие...
— Какое оружие? — зевнул Агафонов. — Вы прямо делаете открытие в моем доме...
— Вон мачете висит — холодное оружие. Продолжаю: вы о нем не вспомнили, а стали пугать грабителей нарушением соцзаконности. Где же логика?
— В таких случаях за логику не отвечаю. Выкладывайте остальные ваши вопросы, ей-богу, я сегодня плохо себя чувствую.
— Вы знаете гражданку Виолетову Елену Викторовну?
— Не представляю, кто такая.
Морозов показал ему фотокарточку Виолетовой, а Козлов подошел к телефону, взял записную книжку, лежавшую у аппарата, и стал смотреть, есть ли там запись номера Елены Викторовны. Нашел и кивнул Морозову. Агафонов занервничал, увидев в руках одного из вошедших свою книжку, но понял, что возмущаться бесполезно, криво усмехнулся:
— С некоторых пор эта особа перестала для меня существовать.
Морозов снял трубку и позвонил Виолетовой:
— Елена Викторовна, вы не могли бы сейчас подъехать по адресу Подсосенский переулок, двенадцать? Спасибо... Встретят вас.
Агафонов, переставший разыгрывать сонливость и высокомерие, тяжело вздохнул:
— Такого нахальства я не ожидал, ну молодцы!
— Вот вам и второй вопрос, по которому мы будем говорить особо, — это похищение вами драгоценностей у Елены Викторовны Виолетовой. Признаете себя в этом виновным?
— Нет, конечно.
— Я так и думал. Но обыск мы все же у вас проведем. Согласно закону. А потому предлагаю вам добровольно до решения суда выдать нам похищенные у Виолетовых драгоценности.
— Я у нее ничего не крал, — повторил Агафонов и заерзал на стуле.
Морозов попросил Козлова пригласить понятых и начать обыск. Вошли понятые, представились. Морозов объяснил им их обязанности и, подойдя к Агафонову, громко сказал:
— Предъявите ваши подлинные документы, гражданин Сумцов Федор Прокофьевич.
Агафонов побледнел, обвел вокруг себя затравленным взглядом и выругался бессвязно. Эта брань походила на сдавленный крик. Потом он опустил голову и сидел как невменяемый.
Морозов знал, что время теперь работает на него, и терпеливо ждал. Наконец задержанный пришел в себя и исподлобья взглянул на окружающих.
— Гражданин Сумцов, я думаю, что в вашем положении нет больше смысла играть чужую роль. Нам достаточно снять у вас отпечатки пальцев, и все сразу станет на свои места.
— Да, я знаю... — медленно произнес Сумцов и, уже все оценив, деловито продолжил: — Занесите в протокол мое чистосердечное признание в том, что я действительно Сумцов Федор Прокофьевич, но к убийству своего родственника Агафонова не имею отношения. Вернее, убийства его не было...
Морозов дал знак Козлову подождать с обыском.
— А как попали отпечатки ваших пальцев в квартиру Баулина?
— Давайте, я по порядку. После освобождения из заключения я приехал в Спас-Клепики, женился. А вскоре дом родительский сгорел вместе с сестрой, матерью... Уехал я в Москву. Там поселился в этой квартире у мужа приемной сестры, покойницы. Он чем-то сильно болел и часто уезжал на дачу в Кратово. Пил там, и спал, а я продукты возил. В сентябре прошлого, семьдесят восьмого года приезжаю я к нему, как сейчас помню, двадцатого сентября... А он уже разлагаться стал. Лежал скрюченный на кровати, его даже в гроб втиснуть было нельзя. Представьте теперь мое положение: моего духу в столице быть не должно, а я есть, да еще рядом с трупом. Вот и смекнул, почему бы мне не воспользоваться его документами, мы вроде лицами схожи, особенно если заиметь такие же усы и бороду, как у него. Закопал я его прямо на дачном участке ночью. Можете провести эксгумацию трупа, — он с подчеркнутой легкостью ввернул этот специфический термин, — и убедиться, что я не убивал, а что с ним, ей-богу, не знаю. Может, сердце... А убивать зачем? Он мне не мешал... Я отрастил усы, бороду, как у Андрея, и стал жить за него. Пенсию получал по его паспорту в сберкассе, в этом нет уголовного, а только финансовое нарушение. Ну а то, что выдавал себя за ответственного работника, — это, извините, моя голубая мечта юности... — Увидев вошедшую Виолетову, Сумцов саркастически усмехнулся: — Выдавал яички простые за золотые, однако некоторым курицам это нравилось.
— Подонок! — простонала она. — Сволочь... — И закричала истошно: — Куда ты дел мои драгоценности?!
— Гражданин следователь, — куражился он, — я в такой обстановке не привык работать. Пусть эта женщина сядет, как и мы, только по другую сторону стола. Очная ставка, мадам...
Виолетовой предложили успокоиться и сесть за стол.
— Я хочу сделать заявление, что эта женщина была моей любовницей и сама дала мне побрякушки, чтобы на вырученные деньги я снял квартиру для интимных встреч с нею, а потом испугалась и стала требовать обратно. А может быть, решила, что я продешевил, продав все за полторы тысячи? — нахально глядя Виолетовой прямо в глаза, заявил Сумцов.
— Господи, он к тому же идиот! Полторы тысячи... бриллианты...
— Я прошу занести в протокол. Сейчас же при свидетелях верну все ее деньги до копеечки.
Сумцов хотел было встать, но стоявший за спиной инспектор остановил его.
— Вы арестованы, — сказал Морозов, — и будете делать только то, что вам предложат. Где лежат деньги, которые вы хотите вернуть Виолетовой?
— В среднем ящике письменного стола, — ответил подследственный.
Козлов в присутствии понятых произвел выемку — в конверте оказалось всего полторы тысячи рублей. Этим, конечно, дело не ограничилось. Дальнейший осмотр ящиков стола принес успех, были изъяты драгоценности, сличены с описью похищенных вещей и внесены в протокол. Не найденным оказался лишь перстень с двумя маленькими бриллиантами, стоивший, по оценке хозяина, около двух тысяч рублей по международным ценам.
После этой акции Сумцов сник.
— Федор Прокофьевич, как видите, лгать не имеет смысла. И теперь ваше предыдущее заявление о чистосердечном признании и раскаянии не имеет юридической силы. Сначала вы заявили, что все драгоценности Виолетовой продали, а теперь мы обнаружили их в столе. Значит, можно сомневаться и в том, что вы не убивали Агафонова, чтобы воспользоваться его документами, квартирой, пенсией.
— Нет, гражданин начальник, я законы знаю. Исходя из презумпции невиновности, нельзя делать вывод, что если Агафонова нет, то убил его я. Я оправдываться не буду — вы докажите, если подозреваете. Что касается этой мадам... то я ей нервы помотать хотел. Разве я не знаю, что уж если вы ищете — то найдете, тем более что все хранится открыто. Зато она подрыгалась. Когда я к ней на «Волге» подкатывал «большим начальником», то она по-другому пела, а ведь это — все тот же я... Шлюха она, вот и все, только хуже шлюхи, потому что у нее муж есть.
После оформления протокола Виолетова ушла. Козлов вызвал эксперта-товароведа, чтобы составить опись имущества, которое вместе с квартирой должно будет отойти в пользу государства, а Морозов приступил к продолжению допроса.
— Теперь, гражданин Сумцов, перейдем к вопросу выяснения факта убийства Баулина. Что вы имеете сообщить следствию по этому поводу?
— Ну, знал я этого... Баулина. Один раз видел, когда ездил с Виолетовой к ее знакомой ведьмочке. Она без лекарств лечит, и Баулин тоже, с помощью перстня. Его ученик сказал, что он якобы собирался вылечить иностранца от рака, и тот за перстень чуть ли не полмиллиона готов был отвалить, ну и я решил, что валюта мне будет кстати.
Открывать чужие квартиры я вроде еще не разучился. Был у меня паренек на подхвате, он меня в этот адрес подбросил, я часов около одиннадцати вскрыл замок. Сами знаете, что это работа деликатная, каждый цугалик в замке чувствовать надо, работаю без перчаток. Вошел, и вдруг вижу... на полу труп. Я прямо одурел, а вдруг уже милиция вызвана? Рванул назад и про отпечатки свои забыл... я, товарищ начальник, вор в законе и на мокруху не пошел бы. Что мне, плохо жилось?
— А кто, по-вашему, мог это совершить?
— Хм... да за такие деньги каждый мог бы, вот только случай не каждого уважает, его ведь с умом готовить надо.
— Вы упомянули про ученика Баулина. Его фамилия Климовский?
Сумцов кивнул.
— Мог он пойти на убийство учителя в корыстных целях?
Сумцов взглянул на него, ухмыльнулся и вдруг, преобразившись, хриплым голосом завзятого уголовника процедил:
— Ты мне подлянку не крои, начальник, я по фене ботаю. Сегодня я его заложу, завтра он меня в параше искупает. Но я, — Сумцов опять заговорил нормально, — от этого давно в отставке, вошел в роль уважаемого члена общества и с удовольствием стал бы с вами сотрудничать, чтобы извести этих дурней. Вы мне — свободу, я — точный адрес, и убийца у вас в кармане.
— Нет, Федор Прокофьевич, убийцу мы и без вас найдем, но, если ваше признание окажет помощь следствию, это обязательно зачтется судом при вынесении приговора.
— Замечательно, когда встречаются два деловых человека! За моим раскаянием дело не встанет, а вы займитесь Климовским, это он долбанул. Но учтите, без меня вам его не найти. На работе он больше не появится — ушел в отпуск. Живет он не с родителями по месту прописки, а снимает квартиру у своего друга Бронецкого. Я его там выследил и с удовольствием передаю его в ваши надежные руки, адрес и телефон есть в моей записной книжке. С божьей помощью и с моей подачи — действуйте!
Глава 18
Климовский вышел из лифта, остановился у двери квартиры. По лестнице сверху вниз послышались торопливые шаги, и не успел он открыть замок, как двое в штатском встали за спиной, и на подходе было еще несколько человек.
— Гражданин Климовский, вы арестованы, уголовный розыск. Прошу открыть дверь и вместе с нами пройти в снимаемую вами квартиру.
— Пожалуйста, — ответил Климовский и, с видимым спокойствием пропустив вперед двух человек, сопровождаемый остальными, вошел сам.
— Кто старший? — спросил Климовский, меняя туфли на комнатные шлепанцы.
Нарышкин предъявил свое удостоверение и санкцию на обыск. При виде последнего Климовский выразил недоумение:
— Я ждал, что вы придете, товарищи, но не с обыском. Как ученик Баулина, я мог бы осветить круг его знакомых, привычки... и помочь продумать, среди кого искать убийцу.
Нарышкин предложил ему сесть за стол и начать допрос.
— Видите ли, вы мне не назначали встречи, и я не смог соответственно привести в порядок мои дела. Сегодня в четырнадцать тридцать поездом «Тихий Дон» в Москву приезжает племянница, Наташа... Первый раз в Москве, и вещей много. Я обещал встретить. Как же теперь быть?.. Дайте мне провожатого, лучше, если с машиной.
— Не будьте наивны. Я должен допросить вас в качестве подозреваемого по делу об убийстве Баулина и провести обыск с целью обнаружения улик, а именно вещественных доказательств, похищенных вами из его коллекции. Если вы признаете себя виновным и предъявите все драгоценности, камни, валюту, чеки, деньги, то, естественно, никакого обыска мы проводить не будем.
— Но это просто несерьезно, — с натугой засмеялся Климовский, — и скоро вы убедитесь, что вас кто-то ввел в заблуждение... Но как же все-таки быть с Наташей? Она-то ни в чем не виновата... Разрешите, пока еще есть два с половиной часа до прихода поезда, я по телефону попрошу кого-нибудь из родственников встретить ее.
— Пожалуйста, но учтите, если вы начнете говорить, что у вас обыск или что-либо в этом роде, я моментально нажимаю на рычаг.
Нарышкин взял телефонный аппарат и передвинул Климовскому, не выпуская его из рук. Климовский торопливо набирал номер. Когда в трубке послышались гудки, Нарышкин нажал на рычаг. Морозов запомнил и записал номер набора.
— Простите, а кому вы сейчас хотели звонить? — спросил следователь.
— Своему младшему брату, Роману. — Климовский с досадой и нетерпением смотрел на телефонную трубку. — Он художник... живет и работает в своей студии... дни и ночи... срок договора кончается.
Видно было, что говорил он для того, чтобы получить отсрочку во времени, собраться с мыслями.
— Что вы хотели ему сказать — напишите, пожалуйста, я сам передам от вашего имени.
— Зачем так сложно?
— Не хотите — не надо, другого предложить не могу.
Климовский поколебался, потом написал на листке:
«Роман, Володя просит встретить племянницу Наташу, поезд «Тихий Дон», Казанский вокзал, вагон девятый, место десятое. Прибытие в 14.30».
Нарышкин, прочтя содержание записки, спросил:
— Адрес вашего брата?
— Где-то в районе Красной Пресни в переулке стоит четырехэтажный дом, и чердак приспособлен под студию, зрительно помню — как-то раз был у него, адреса, хоть убейте, не знаю.
— Хорошо, мы вам поможем... Борис Петрович, займитесь, пожалуйста, братом...
Морозов позвонил одному из своих подчиненных и попросил уточнить через телефонный узел, где установлен разыскиваемый номер телефона, группе выехать в этот адрес и оттуда позвонить сюда, доложить о готовности действовать.
По мере того как до Климовского доходил смысл этого телефонного разговора, его лицо покрывалось красными пятнами.
— А теперь перейдем к допросу, — и Нарышкин обычным в таких ситуациях казенным голосом стал задавать протокольные вопросы, устанавливающие личность допрашиваемого.
— Итак... где вы были около девяти часов утра в понедельник второго июля сего года, то есть в день убийства Баулина?
— Если это был понедельник, значит, в университете.
— Припомните, кто вас видел, с кем вы общались, что делали?
— Время... — удрученно вздохнул Климовский, — для алиби самое неподходящее. Ну, кто летом так рано приходит в учебные заведения? Занятий у студентов нет... Утром я дома не завтракаю, поэтому выпил в кафетерии кофе, заглянул на кафедру... там, кажется, кто-то был. Да, преподаватель Храпов, взял у него тематический план, ушел в лабораторию. Часам к десяти пришла наша Верочка... остальные — после обеда.
Нарышкин аккуратно записывал его показания. Оторвался только, чтобы спросить:
— Когда вы взяли у Баулина его знаменитый перстень? Тот самый, за который американец Планк предлагал ему четыреста тысяч долларов, и что вы с ним сделали?
— Еще раз повторяю, что это недоразумение. Перстень Баулина, конечно, я знаю, но мой учитель никому, в том числе и мне, никогда его не доверял. Скорее всего, убийца знал о существовании этого перстня и совершил преступление, чтобы завладеть им.
— Вы правы... — Нарышкин взглянул на него, достал конверт нестандартной формы с иностранными марками. — Узнав о случившемся, Авия, которую вы также знаете, решила написать в США Планку и вчера принесла нам его ответное письмо... Вам, наверное, будет небезынтересно знать, о чем он пишет?
— Ну и что там у вас? — сорвался Климовский. — Читайте... хотя не уверен, что этично совать нос в чужие письма.
— Этично? — усмехнулся Нарышкин, изменив на этот раз своей бесстрастной манере ведения допроса, надел очки и начал читать: — «...Мне очень жаль, что ваш коллега Баулин тяжело заболел, после того как помог моему другу Джеймсу и удовлетворил его просьбу: продать свой перстень. Вас интересует, какую сумму вознаграждения выплатил Джеймс? От вас у меня секретов нет. За сокровища, которые принес к нам в номер гостиницы Владимир Климовский, шеф при мне выписал ему чек на предъявителя на 400 тысяч долларов и отдал почти всю наличность — 12 тысяч с чем-то, оставив себе необходимый минимум на обратную дорогу. Владимир поинтересовался, как получить деньги по чеку. Мы посоветовали передать Баулину, что он мог бы приехать к нам по приглашению или просто купить тур, прилететь в США и получить остальные деньги...» Далее Планк подробно пишет о состоянии здоровья Джеймса, но это, я думаю, в данной ситуации вам уже безразлично.
Вот так, гражданин Климовский. Штемпеля наших и иностранных почтовых отделений сомнений не вызывают. Экспертиза по другому письму к Авии, датированному двенадцатым мая семьдесят восьмого года, подтверждает идентичность почерков. Признаете ли вы себя виновным?
— Ничего не могу понять, — развел руками Климовский, — здесь какое-то страшное недоразумение.
Раздался телефонный звонок. Морозов снял трубку:
— Слушаю... Хорошо, Яков Иванович, поступим так, я сейчас позвоню Роману, и если он выходит, то действуйте по партитуре.
Морозов попросил увести Климовского на кухню и закрыть дверь, чтобы тот не смог во время разговора по телефону с его братом вмешаться, выкрикнуть что-либо об опасности, и набрал нужный номер.
— Это Роман?.. Добрый день, я от Владимира, по его просьбе, у него, я так понял, нелады с милицией, и он попросил дословно передать следующее... — Морозов прочитал по бумаге то, что написал Климовский... — Да, да, именно так, — подтвердил Морозов, — если понял — действуй, а у меня чисто маклерская обязанность. Адью.
Борис Петрович положил трубку и, войдя в кухню, сказал:
— Понятливый у вас брат, гражданин Климовский, уже побежал.
— Я отказываюсь разговаривать! — выкрикнул задержанный и сник, наткнувшись на внимательный взгляд старшего инспектора.
Что сможет предпринять неопытный братец против видавших виды специалистов своего дела — в том, что это именно так, он уже не сомневался. Ему вдруг представилась тюрьма, решетки на окнах, и так стало жалко себя, что слезы предательски навернулись на глаза. Неужели у этих служак все до такой степени рассчитано, что они так уверены в своем триумфе? Вот один из них встал, достал сигарету, спокойно зажег спичку.
— Не смейте курить здесь! — вне себя заорал Климовский, но человек в штатском лишь с сожалением взглянул на него и, затянувшись, не спеша пошел в туалет. Тут Климовский не выдержал и разрыдался.
Телефонный звонок заставил его моментально смолкнуть.
Морозов выслушал сообщение и с большой теплотой поблагодарил:
— Спасибо за службу. Везите его на Петровку. — Затем пояснил Нарышкину: — Этот Роман хотел положить чемодан в камеру хранения Белорусского вокзала, но его наши задержали. В присутствии свидетелей спросили: чей это чемодан, что в нем? На это Роман не смог ничего ответить и кинулся бежать. Его поймали, отвели в привокзальное отделение милиции. В присутствии понятых вскрыли... Одним словом, под двойным дном оказались драгоценные камни без металлической оправы, по всей видимости из коллекции Баулина, более десяти тысяч долларов и чеки на предъявителя Бостонского банка США на сумму четыреста тысяч долларов. Выемка оформлена в присутствии понятых. Роман отправлен в КПЗ на Петровку. Я думаю, что и нам пора.
— Да, — согласился Нарышкин, — задерживаться нам тут вроде ни к чему. Вы арестованы, гражданин Климовский! Возьмите туалетные принадлежности, и в машину.
— Я думаю, — мрачно пошутил тот, глядя на опечатанные двери снимаемой им квартиры, — что был последним дураком, уплатив за полгода вперед.
Опустив голову, заложив по приказу конвоира руки назад, Климовский в сопровождении двух сотрудников сел в машину. Морозов и Нарышкин поехали на другой следом.
— Борис Петрович, я так понимаю, дело мы с вами закончили... Что-то я вымотался. Заезжай вечером ко мне, отдохнем, расслабимся.
— Хорошо, сдадим Климовского в КПЗ, оформим выемку, и на сегодня все... — Морозов взглянул на товарища, — а вы действительно выглядите усталым.
— Знаешь, муторно на душе. Смотрел на Климовского, вспомнил Раскина... Один родителей убил, другой — учителя. Таких выродков за мою практику всего было только двое. Валерия жаль...
— Ведь он суду не подлежит, свидетель по делу!
— Эх, милый, он сам себе такой суд чинит, ведь люди вокруг, пятно на всю жизнь. И вот я думаю, что-то делается не так, если парень, дожив до двадцати пяти лет, оказался равно готовый к добру и ко злу. С чего все началось-то? С мелкой корысти — кого-то подбрасывал на служебной машине за лишнюю пятерку, весь заврался, затем удрал с места наезда, мучился, себя ненавидел, от тени шарахался. Разве это жизнь? И ведь если бы не случайность — мог на скамье подсудимых оказаться!
Нарышкин вытащил из кармана маленький пузырек с таблетками, положил одну под язык.
— Ого! — Морозов прочитал название на ярлыке. — Вот это для меня новость. В прошлом году без лекарств обходились.
— Не выдерживаю, — признался следователь.
Морозов только развел руками.
— Еще Сумцова можно объяснить, — не унимался Нарышкин, — военное детство, безотцовщина, но этот...
— Да разберемся с ним! Зря вы так нервничаете, Николай Николаевич!
— Э-э... — махнул рукой Нарышкин, — тебе, Борис, этого не понять, ведь этот Климовский в сыновья мне по возрасту годится, ему все было дано: образование, жилье, работа... А стал убийцей — обдуманно, расчетливо. Вот что страшно!
Глава 19
День за днем тоскливо тянулась у Климовского жизнь в камере предварительного заключения. Временами ему казалось, что о нем совсем забыли, ни следователь, ни старший инспектор Морозов не навещали его. И чем ближе подходила дата суда, тем невыносимее становилось на душе. Он всячески обдумывал свое поведение на суде и так извелся, что потерял сон. И все же как и чем вызвать сочувствие к себе, он не представлял. По ночам в его сознании проплывали прожитые годы. Он рос и жил без каких-либо затруднений, учился без напряжения. Поступил в университет. Его отец был там уважаемым человеком. Воспоминания студенческих лет согревали душу. После окончания работал на кафедре, сдал кандидатский минимум, но неожиданно отец по состоянию здоровья был вынужден уйти на пенсию. И с этого момента начались злоключения в жизни Владимира. Каждый завистник пытался при случае в чем-нибудь ущемить самолюбие Климовского. Поползли слухи, сплетни. О нем писали в местной многотиражке «Московский университет», где его бесстыдно критиковали, называли бесперспективным, мучеником науки... Кандидатскую он не защитил, карьера не получилась. На те деньги, которые он зарабатывал, невозможно было приобрести кооперативную квартиру и жить самостоятельной жизнью, жениться. А о личной машине он даже не мог и мечтать. В спортлото не везло, на трехпроцентный не было денег. Владимир озлобился и виной своих неудач стал считать всех, кто не мог разглядеть его таланта и дать ему возможность выйти в люди. И тут ему подвернулся случай заработать. Как говорится, на ловца и зверь бежит, помогло знание английского языка. Он познакомился с богатым иностранцем, сопровождавшим транзитные грузы через СССР. Обычно тот провозил около восьми больших чемоданов, и Владимиру нужно было всего лишь вовремя встретить поезд, принести Зигфриду два таких же опломбированных чемодана, обменять их на другие, проверить, нет ли слежки, отвезти на такси в камеру хранения Казанского вокзала и заложить их на условный код. За каждую такую операцию он получал «до востребования» перевод на пятьсот рублей и ждал приглашения на следующий визит. В месяц шутя выходила тысяча, а то и две.
Думал, так будет продолжаться долго, но расплата пришла неожиданно: у камеры хранения появился инспектор МУРа, ноги Владимира подкосились, стали ватными...
«Что в чемоданах?»
«Не знаю».
«Откройте».
В них оказалась парча импортного производства (она очень ценилась в наших среднеазиатских республиках). Инспектор пытался найти еще что-нибудь, но больше ничего не обнаружил.
Чемоданы были закрыты, оставлены в камере хранения, и после короткого допроса в багажном отделении и установлении личности Климовский дал подписку о сотрудничестве с органами милиции, поклялся в верности Андрею Андреевичу и был отпущен домой.
Переводы с тех пор приходить перестали. Вскоре «полковник милиции» сообщил, что группа расхитителей арестована и ему стоило больших трудов вывести Климовского из процесса. Теперь-то он понял, что после вторжения Агафонова в их операции с ним просто были порваны отношения. А Владимир, чтобы искупить свою вину, должен был выполнять поручения своего нового «шефа», Андрея Андреевича, по слежке за его объектами, по выискиванию лиц, живущих явно не по средствам, доставать каталоги картин и произведений искусства.
Ищущий да обрящет — Климовский встретил Баулина. Владимир знал, что Андрей Андреевич следил за Баулиным, и сообщил своему тайному руководителю только часть информации о новом знакомом.
Климовский уже втянулся в роль «ученика и сподвижника» великого мага Баулина, уловил главное, как можно нажиться за его счет, приводя к нему своих болезненных знакомых, с которых Климовский мог брать хорошую плату. Баулин, конечно, не догадывался о махинациях своего ученика и о том, что его форма обложения налогом пациентов подчас превышает гонорар учителя.
В своей практике Баулин, с одной стороны, помогал людям, с другой — ставил разного рода эксперименты, физическую суть которых Климовский никак не мог постичь. Но это не очень беспокоило Владимира, так как и другие тоже не были ему конкурентами.
Со временем Владимир научился подыгрывать научным изысканиям Баулина, тот называл его умницей, и это нравилось обоим. А однажды учитель в порыве откровения сказал:
«Если меня при жизни не признают — не беда. Все записи, приборы оставлю дочке... а может быть, и тебе. Память людская — не песок, кто-то меня и вспомнит, а нет — дело останется».
Он тогда внимательно всмотрелся в Климовского и вздохнул:
«Привязался я к тебе, Володя. Видно, время пришло наследника в делах иметь. Ты только смотри, не оставляй никогда Катерину. Ей будет плохо, а тебе еще хуже — как говорится, ангел от тебя улетит...»
Тогда Климовский втайне ахнул, поняв, что Баулин прочит его в зятья. Он даже совсем сжился с мыслью о себе как о законном преемнике Баулина, муже его дочери и рисовал себе самое интересное будущее, как вдруг появились эти Планк и больной Джеймс со своими сотнями тысяч долларов, с дьявольским соблазном. Все полетело в голове кувырком, и образ Катерины, к которой он ничего, кроме дружеской симпатии, не испытывал, сменился образом собственной фирмы, загородной виллы, шикарного автомобиля, за рулем которого сидит то ли блондинка, то ли брюнетка, то ли... стоп! Все это было, но сейчас он со всей очевидностью понял, какую роль в его жизни сыграл Андрей Андреевич...
Где-то в тумане сознания стала вырисовываться неуловимая мысль, как найти оправдание... А что, если прикинуться его жертвой?..
— Подследственный Климовский, на выход, — прозвучал чугунный голос надзирателя.
Затем он вывел Владимира из следственного изолятора и передал старшему конвоя, который не менее сурово предупредил:
— Прыжок вперед, назад, в сторону считаю побегом, применяю оружие. Вперед!.. В машину!
Климовский сел в тюремный фургон. И вместо солнца у него над головой теперь горела лишь тусклая лампочка. Машина тронулась...
Вот наступил день, когда многое в его жизни должно было решиться. Все, что он продумывал, чего боялся, к чему готовился, вдруг появилось как нечто неотвратимое, как близкий финал, а может быть, и крах. Подсознательно он давно понял, что ему, убийце, безнадежно пытаться разжалобить судей зависимостью от Андрея Андреевича. Слишком жалким казалось ему это смягчающее вину обстоятельство.
Климовского под конвоем доставили в зал заседания, поместили на скамью рядом с Сумцовым. Тот сидел с видом раскаявшегося грешника.
Климовский поднял глаза. Публика рассматривала его, словно ожидая представления. Среди незнакомых лиц, пришедших любопытства ради взглянуть на реалии людских падений и удовлетвориться справедливостью наказания, он увидел убитые горем, заплаканные глаза матери, попытался ее подбодрить, изобразил подобие улыбки, подмигнул... И вдруг он поймал на себе леденящий душу взгляд Катерины Баулиной. Девушка смотрела на него не мигая, словно непрерывно направляя на него поток презрения, гадливости...
Климовский не выдержал и отвернулся. Опустив голову, он сидел как во сне, не в силах снова посмотреть в зал.
«Встать, суд идет», — прозвучал голос секретаря суда.
Он встал. Все сели, и он сел...
Судебное разбирательство длилось долго, и все это время Климовский изредка украдкой поглядывал на Катерину и каждый раз встречал все тот же ненавидящий его взгляд, словно устремленный в мерзопакостную пустоту. На вопросы судей и сторон он отвечал односложно, будто стесняясь присутствующих.
Когда ему предоставили последнее слово, он встал, взглянул на судей, на мать, на Катю, посмотрел в окно. Солнце клонилось к закату. Его не торопили.
«Чтобы я ни говорил, — подумал Климовский, — мне дадут расстрел».
От животного страха перед смертью и дикой жалости к самому себе комок подкатил к горлу, мышцы лица свело, и слезы, предательские слезы покатились по щекам. Все, что он хотел и мог бы сказать, перепуталось в его голове, и он выдавил из себя:
— Жизнь, оставьте мне жизнь, я искуплю...
«Но как?» — мелькнуло у него в голове, и он сел на скамью, обхватив голову руками, стараясь сдержать душившие его рыдания...
Суд удалился на совещание...
Зачитали приговор, мать беззвучно заплакала. На Катю Климовский больше не смотрел, ему вдруг стало все безразлично. К нему подошел адвокат, стал говорить о том, что завтра он навестит Владимира и тот подпишет кассацию, все так делают, жизнь стоит того, чтобы за нее бороться и раскошелиться...
После суда Климовского посадили в тюремный фургон уже вместе с Сумцовым и куда-то повезли.
— Неплохую брюнетку
[2] нам подали, — ни к кому не обращаясь, произнес Сумцов, усаживаясь поудобнее.
Больше до самой камеры никто из них не проронил ни слова. Климовскому теперь все стало безразлично. Он даже не обратил внимание на то, что привезли их не обратно в следственный изолятор, а в тюрьму...
— Заходи! — скомандовал надзиратель.
— Так это же не камера, а моя вторая квартира, — развязно произнес Сумцов, солидно проходя между рядами двухъярусных коек в сторону решетчатого окна, — за мое отсутствие ее даже успели отремонтировать.
В средней части помещения, справа от прохода, на двух низких кроватях разместилось человек десять таких же стриженых заключенных, как и они, в отдалении сидели еще группки по три-пять человек.
— Похоже, что я попал в зеленую хевру
[3] — быстро оценив разрозненность компаний, громко сказал Сумцов. — Здорово, мо́лодцы! Поди соскучились тут без меня?
— А кто ты такой, чтобы нам скучать? — спросил широкоскулый мужчина, сидящий в окружении десятка молодых парней.
— Невежливо встречаешь, мальчик. На воле меня зовут «князь», а в академиях
[4] всегда был паханом. Был я им и в Усть-Илиме, и в Кандалыке, и в Сармах. Теперь ясно?
Кто-то согласно закивал, поддакнул, кто-то промолчал.
Сумцов подозвал одного заключенного, сидящего ближе к проходу. Тот, словно кролик под взглядом питона, подошел к нему.
— Кличка? — коротко бросил Сумцов.
— Волчок.
— Законы Севера чтишь?
— Как учили.
— Три истины постиг?
— А как же. Закона бояться — голодным ходить. Раньше сядешь — раньше выйдешь. В киче
[5] время не теряй — опыт у́рок набирай.
— Ну молодец! Наш человек. А кто здесь родский
[6]?
— Что-то ты, отец, всё шпионские вопросы подкидываешь? — не унимался широкоскулый.
— Ша, дети, бодяга
[7] кончилась. У некоторых я, кажется, не нашел взаимопонимания. Сожалею... И обещаю... Горе они схватят. Кто не с нами — тот против нас. Ох, кого-то я научу свободу любить! — Сумцов с холодной улыбкой так выразительно посмотрел на широкоскулого, что тот понял — вызов брошен. — И запомните, мои шестерки
[8] — тузами ходят.
В камере стало тихо. В местах заключения свои традиции и правила выживания. Нравственный климат (если его можно так назвать) там такой, что не поддается никакому сравнению. Трудно представить коллектив, состоящий из отбросов общества, собранный из отъявленных негодяев. Одни не задумываясь могут стащить пенсию у старушки, лишив ее средств к существованию и прокутив эти деньги за один вечер. Другие способны перерезать глотку соучастнику преступления, чтобы захватить всю добычу. Третьи убивают себе подобного только за то, что тот стал очевидцем преступления. И всем уголовникам присуща одна общая черта — трусость; спасая свою шкуру, они, как последние предатели, выдают соучастников, с которыми еще вчера ходили «на дело».
— А теперь, Волчок, слушай сюда внимательно. Кто бы и что бы тебе ни говорил, возьми вот эту постель у окна и поменяй ее на ту, что у двери. Двигай.
— Не тронь! — взвился широкоскулый и выскочил в проход.
Коротким, точным болевым приемом Сумцов моментально уложил его на цементный пол и приказал двоим, сидевшим рядом заключенным:
— Поднимите!
Те послушно выполнили его волю, и, когда широкоскулый немного оправился от болевого шока, Сумцов спросил:
— Теперь признаешь меня?
Тот тупо, молча смотрел в пространство, вероятно, не очень понимая, чего от него хотят. Сумцов нанес еще один мощный удар в солнечное сплетение. У парня моментально перехватило дыхание, ноги подкосились, но державшие его заключенные не дали упасть и с ужасом в глазах смотрели, как новоявленный «князь» готовится нанести еще удар. Один из сокамерников бросился к двери и закричал:
— Избивают!!!
— Назад! — громовым голосом остановил его Сумцов. — Тебе что, прави́ло
[9] устроить?
— Не надо, — испуганно замотал тот головой.
Сумцов, засучив рукава и обнажив свои наколки, словно доспехи покрывавшие его могучие волосатые руки, уже торжествовал победу, его стали слушаться. Власть в камере — в его руках. Он снова взглянул на широкоскулого и сказал:
— Уберите это чувырло
[10] с моих глаз! Вот ты, ну-ка помоги Волчку поменять постели.
Заключенные послушно, молча выполнили его требование.
Климовский смотрел на весь этот спектакль по захвату власти и моральной обработке, и в его опустошенной душе вновь проснулась ненависть к Сумцову. Он презирал это безропотное стриженое быдло (так мысленно он обозвал своих сокамерников), которое позволяет так измываться над собой, подчиняться грубой силе, устанавливающей в лагерях и тюрьмах свои неписаные жестокие законы.
— Эй, как тебя, подойди! — позвал Сумцов самого низкорослого заключенного.
— Гном.
— А как же я без клички? — громко, с вызовом спросил Климовский. — Господин «граф» или «князь», уж и не знаю, как вас величать, а может быть, бывший полковник милиции?..
— Величать будешь, как прежде, — с почтением, иначе ты своим рылом из параши не будешь вылезать.
— Давно вы не говорили на своем родном наречии, — с сарказмом сказал Климовский.
— Ну-ну, поговори, — Сумцов, раскачиваясь и засунув руки в карманы, надвигался на него, — может быть, теперь я узнаю, кто меня заложил?
Коротким, неожиданным ударом он сбил Климовского с ног. Смотрел, как тот корчится на полу...
Наконец Климовский поднялся и заговорил:
— Я, если бы и хотел выдать, не мог — ни фамилии, ни адреса, ни телефона твоего не знал. Это ты, «полковничек», все обо мне пронюхал и выдал. Привык запугивать, дурачить таких глупцов, как мы. Думаешь, я тебя боюсь? — Климовский с какой-то сумасшедшей веселостью рассмеялся ему в лицо. — Мне теперь нечего бояться, двум смертям не бывать... А ты учти, скот, если меня еще тронешь хоть пальцем — убью. Понимаешь, убью сонного, ночью!.. А может быть, глаза выколоть? — смотрел на Сумцова не мигая, обдумывая сказанное, и обрадовался, прочитав испуг в глазах рецидивиста. Повторил: — Убью, гадина!.. Из-за тебя сюда попал. Думал, если все «фараоны» такие тупицы, как ты, «полковник», то на черта ли таких бояться? Я, между прочим, до тебя власть уважал.
— Посыпал, — Сумцов с презрением сплюнул, — мешок дырявый. Выходит, до меня девицей непорочной был?.. Фрайер, мокрушник недоношенный. Вот и сработал себе «вышку», а мне — транзит на Север.
— Да ты не плети кружева языком, кулаком попробуй меня на прочность, гад позорный... Ну! Давай! — все больше распаляясь, кричал Климовский.
В нем вдруг проснулось страшное желание отомстить за то, что он столько терпел, унижался, обманывался, а такие вот Сумцовы будут продолжать жить после его смерти.
— Ну что же ты сдрейфил? Трус поганый!
— Закон не позволяет, ты и без меня скоро развалишься. А моя кодла — вот она, — Сумцов торжествующе обвел всех руками, — у них впереди будущее...
Щелкнул засов.
— Климовский, с вещами на выход! — произнес надзиратель и добавил: — Персональная освободилась.
Примечания
1
Под расписку о невыезде.
(обратно)
2
Брюнетка — на воровском жаргоне фургон для перевозки заключенных.
(обратно)
3
Xевра — воровская компания.
(обратно)
4
Академия — место заключения.
(обратно)
5
Кич — тюрьма.
(обратно)
6
Pодский — старший вор.
(обратно)
7
Бодяга — болтовня.
(обратно)
8
Шестерки — прислужники.
(обратно)
9
Правило — расправа над провинившимся заключенным.
(обратно)
10
Чувырло — противная рожа.
(обратно)
Оглавление
Юлий Назаров
Схватка
Повести
Срочный вызов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Хамелеоны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Эпилог
Ширма
Часть I
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Часть II
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
*** Примечания ***