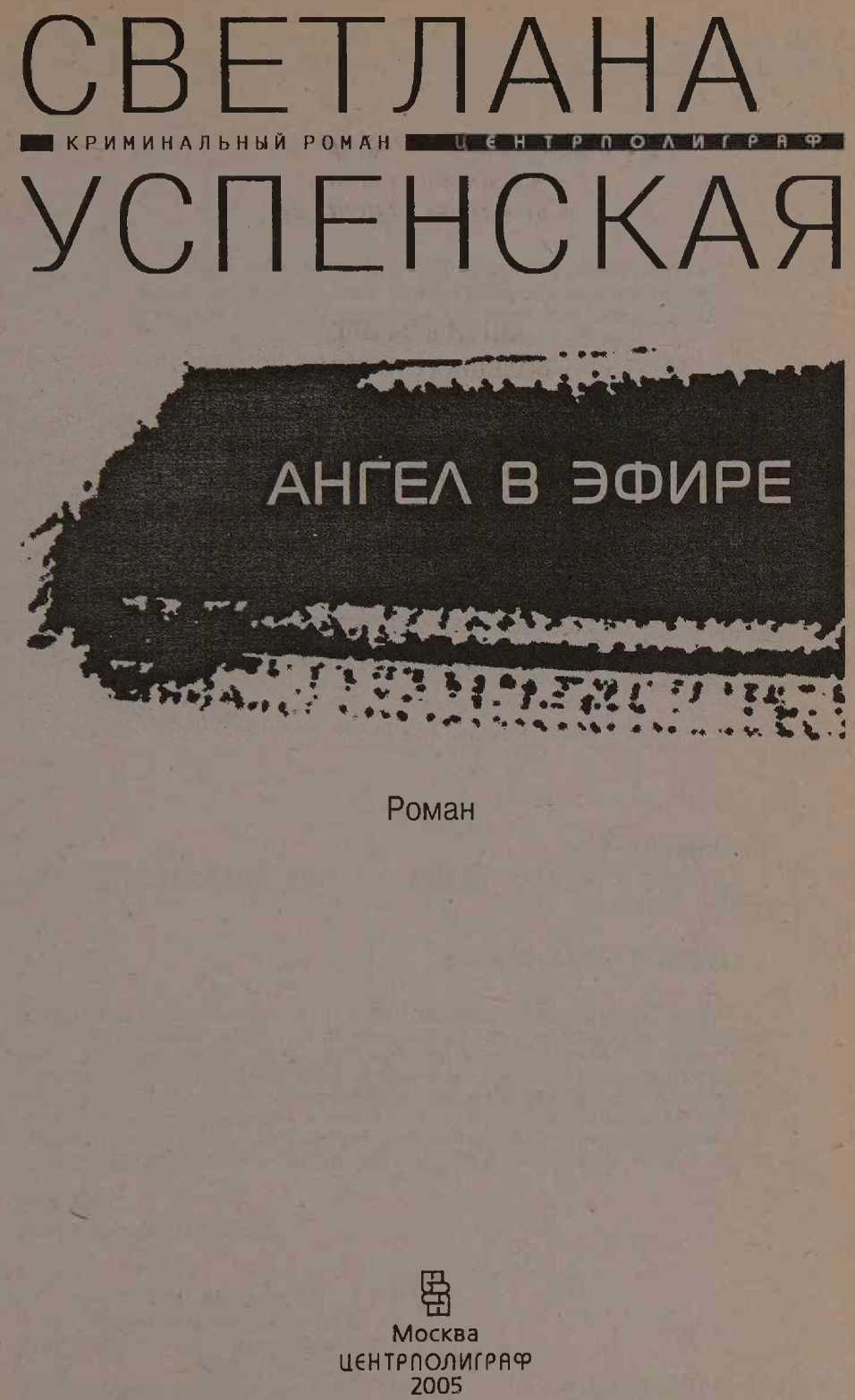Успенская Светлана
Ангел в эфире
Романы успешной леди детективного жанра Светланы Успенской остросюжетны и ироничны. В них есть что-то, заставляющее вспомнить Джеймса Хедли Чейза и Иоанну Хмелевскую. Но самое главное, что Светлана Успенская — художник абсолютно оригинальный и не терпящий перепевов.
«Слово»
Эти детективы уверенно завоевали книжный рынок, что неудивительно. Женщины вынуждены один на один противостоять действительности, и героини Светланы Успенской, которым это удается, вызывают всеобщий интерес.
«Досуг»
В мощном хоре отечественного женского детектива книги Светланы Успенской занимают особое место. Их трудно спутать с другими. Прозу Успенской отличает хороший стиль и отсутствие надоевших и переходящих у других авторов из книги в книгу штампов, ее герои не вырезанные из картона двумерные фигуры, а полноценные, с яркими и запоминающимися характерами люди.
«Тверская, 13»
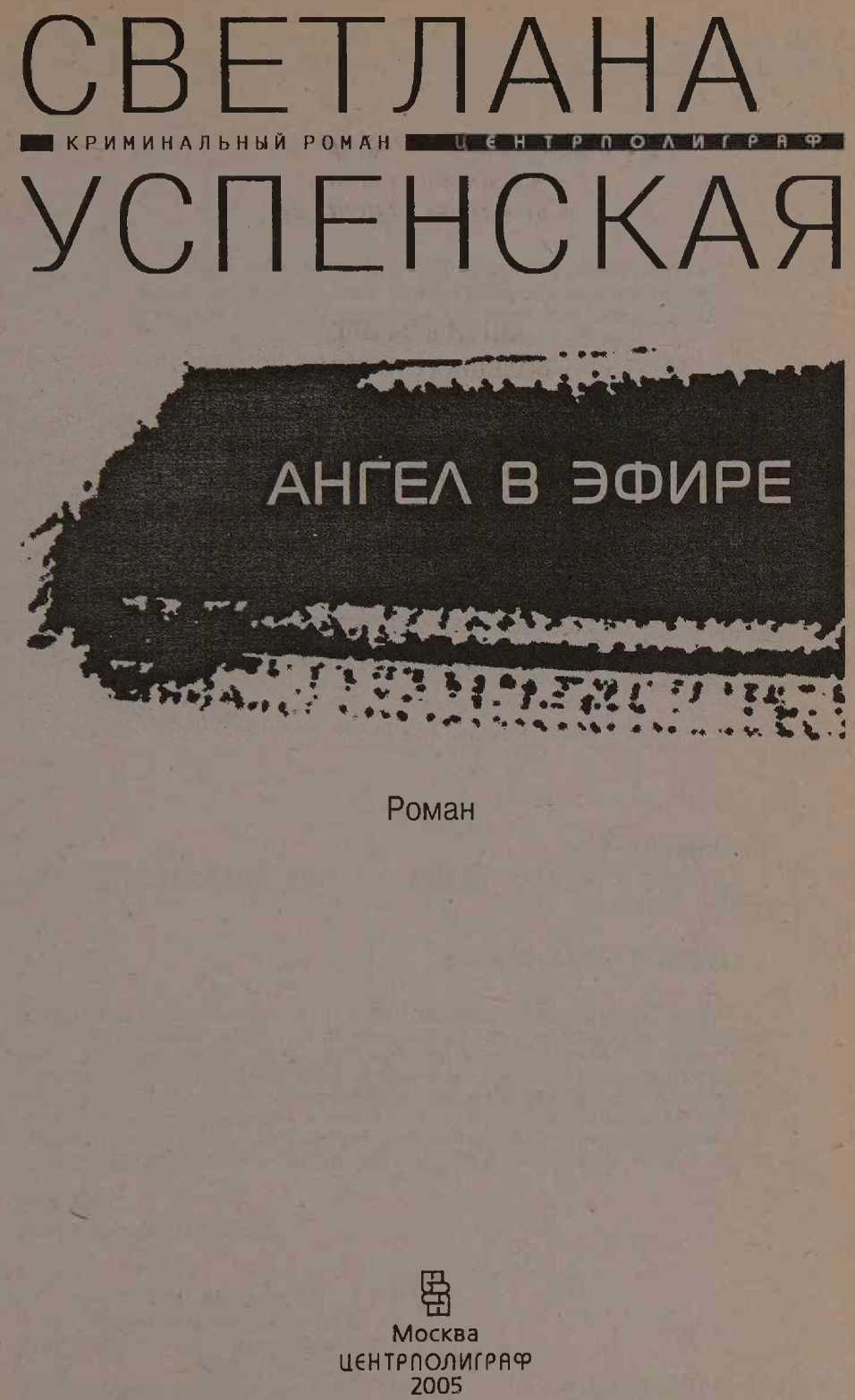
Скоро все будет хорошо — потому что скоро Его не будет. Все равно, как и каким способом, известен лишь конечный результат — Его скорое обязательное исчезновение.
Может быть, он упадет, обливаясь кровью, на кафельный пол. Корчась от резкой кинжальной боли.
Может быть, простреленный навылет, ужом совьется у ее ног, чтобы уже никогда не распрямиться. И даже для похорон его не смогут разогнуть, чтобы он лежал в гробу прямо и благостно, как принято покоиться в домовине.
Может быть, в последний раз в жизни, увидев упершийся в зрачки свет бестрепетно неоновых фар, он коротко вскрикнет — прощаясь с ней. То есть с жизнью.
Может быть, станет ползать, униженно вымаливая прощение, чтобы уже в следующий миг, тихо охнув, застыть с умоляющим выражением навсегда остановленных глаз — мешок гадостных мыслей, вместилище отборного дерьма, средоточие человеческой мерзости.
Может быть, он тихо уйдет во сне, чтобы больше не вернуться в реальный мир. Не обернуться. Не проснуться.
Может быть… Может быть…
Она еще не знает, она еще не решила. Но это будет, потому что это справедливо. Потому что он этого заслужил.
— В студии тишина! — командует режиссер из аппаратной. — Настя, почему такая грустная? Проверь микрофон… Тридцать секунд до эфира!
Возможно, она навестит его могилу в черном праздничном платье вдовы, со светлой улыбкой скорби на лице — на искореженном счастьем лице.
Может быть, скажет, что любила его всю жизнь, от первого до последнего дня.
Может быть, попросит у него прощения — за все и ни за что.
Может быть, она его простит, может быть… Когда-нибудь потом. Когда его уже не будет.
Во время оттепели воздух наполнен запахом прелой земли. Земля набухает, жирнеет под снежным спудом, набираясь сил; ее слипшиеся комья наливаются животворным соком, надеясь по весне разродиться чахлой, отдающей мазутом зеленью. В оттепель городской люд насморочно чихает, тоскует по солнцу, утонувшему в поролоновом брюхе облаков, и чего-то ждет. Кто ждет скорого выходного, кто повышения жалованья, кто безжалостного докторского диагноза, кто — наступления весны.
Все чего-то ждут, все, кроме нее. Она знает: это случится вовремя. Ей достанется то, что она заслужила. Весь мир разлегся перед ней угодливой, лобзающей стопы пеленой, и остается только снисходительно принять его обожание — как ребенок принимает в руку подаренное яблоко. Потому что она этого заслуживает. Только она.
В сущности, ей нравятся серые московские оттепели. Потеки белой соли на ботинках. Мокробокие машины, вяло ползущие в пробке. Чахлый зимний люд курчавится у метро — скудные веточки впавшего в анабиоз человеческого древа. Она чувствует себя вне толпы — она по другую сторону баррикады, по ту сторону обостренного всеведением сознания. Со снисходительной улыбкой она разглядывает людей, угадывая примитивные желания, простые мечты, несложные обиды. Они для нее — открытая книга, репортажный материал. Они — подручная глина для умелого, поднаторевшего в своем ежедневном ремесле демиурга. Они — ее зрители, благодарно блеющее стадо с умильными глазами, а она — их бессменный, вознесенный над толпой пастырь. Они влюблены в нее — все до одного. Она глядит на них из-за подслеповатого от оттепельной грязи лобового стекла, прикрывшись темным глянцем очков (чтобы избежать докучливого узнавания), — и видит насквозь. Различает мельчайшие извивы их простеньких душ, убористую вязь их мелкотравчатых надежд.
Во время интервью, когда ее спрашивают о поклонниках, она улыбается чуть усталой, но бесконечно милой улыбкой — неожиданно темнеет синий диск радужки, выплескивается ярким светом из густоты вспушенных ресниц, а возле рта прорезываются две морщинки, похожие на две милейшие запятые. Настя отвечает чуть смущенной улыбкой (о, это обаяние, о. приманка экранной женственности!):
— Я ведь журналист. Это моя работа…
Ею интересуются всегда, постоянно, все подряд. Эти люди вообще куда меньше заняты смыслом своей жизни, чем перипетиями ее личных обстоятельств. Почему? Потому что она — звезда.
— Сначала репортаж из женской колонии, потом — материал о семейном насилии, — предлагает Антон Протасов. — Подводочку я набросаю…
Настя не отвечает ему категорическим «нет», не хмурится, не обрывает гневно — ничего такого. Она только смотрит, улыбаясь протяжно и нежно, может быть, чуть укоризненно, но не сердито. Хотя ее губы сомкнуты, Антон интуитивно ловит взбухшее в воздухе решительное «нет», чтобы в следующую секунду сдаться без боя:
— Конечно, ты права… Да, я осел! Конечно, сначала — семейное насилие, а потом женская колония… Как я сразу не догадался! У тебя железная логика, Настя… Ведь сначала творится насилие в семье, а потом женщины сами решаются на насилие, бунтуя против действительности… Слушай, это неплохая подводка! А? Шикарно!
Протасов понимает ее без слов, как собака. Они работают вместе уже два года, и он прекрасно знает, что от него требуется, — а иначе не вкалывал бы в прайм-таймовых новостях, прозябал бы на каком-нибудь убогом дециметре, на грошовом окладе, перебирал местечковые новости. В телевизионных кулуарах болтают, что с Плотниковой сработаться не просто, но зато она «своих не сдает». Телевизионное начальство тебя не схавает, будь спок, пока ты нужен ей лично, говорят. Вообще, говорят, ты нужен телевидению, только пока ты нужен Плотниковой. И не иначе.
И не дай бог тебе диктовать собственную волю или проповедовать свои взгляды, этот номер не пройдет. Только сама ведущая знает, о чем пойдет разговор в ее вечерней программе. И главное — каким образом он пойдет. Может быть, на подводке к сюжету из колонии ее глаза станут печальными, соленая влажность вспухнет под розовым веком, подчеркнутая ярким студийным светом. Или улыбка заискрится материнской теплотой, когда она станет читать с монитора текст о художественной самодеятельности детей-олигофренов…
Однако зритель, где бы он ни был, — на Камчатке или в Калининграде, в субполярной области или в пустынной южной степи — прошепчет влюбленно, любуясь своим телевизорным, домашним божеством:
— Она ангел… Она действительно ангел!
Этот ангел каждый вечер входит в наш дом, каждый вечер грустит и радуется с нами, указывая нам путь добродетели и предостерегая от пороков. Кажется, что он — лучшее, что есть в нас. Он — это мы, а мы — это он. И поэтому ему можно верить, как самому себе, без оглядки.
Поэтому мы верим ему, как самому себе. Каждый вечер наш ангел снова с нами, в эфире. Он улыбается нам, обещая светлое, несбыточное будущее. Он — обещание того, что завтрашний день наступит. Он — залог грядущего рассвета. Он с нами — и значит, все будет хорошо…
Во всяком случае, так думала Настя о себе самой.
Итак, оттепель… В оттепель ее не одолевает сонная дремота, ей не хочется хныкать и валяться в постели до полудня, а потом, усилием воли изгнав себя из дома, бесцельно бродить по магазинам от прилавка к прилавку, как неприкаянная потерявшаяся девочка тридцати с лишком лет от роду, не знающая, где приклонить голову, кому вручить свою никчемную, опостылевшую жизнь. Напротив, сегодня с самого утра новорожденный день развернулся белоснежной, без единой морщины скатертью, лаская ее светлые очи камчатной белизной, отдавая себя в ее полное, безраздельное распоряжение.
С самого утра все ладилось, спорилось и кипело в руках. Телефон выдавал только приятные известия, впереди ожидались только приятные хлопоты…
Его не было! Горизонт казался чистым, не замутненный его смрадным присутствием. Мир принадлежал ей всеми клеточками своего цельного, многосуставного существа.
С самого утра подспудное веселье вдруг овладело ею, выгнав ее из кровати в детскую — зарыться лицом в младенческие кружева, в новорожденный пух дочери, чтобы пропеть, торжествуя, — моя! Моя, больше ничья, моя полностью, вся, до последнего ноготочка на пальчике, до последней птенчиковой волосины на макушке, до последнего, только что вылезшего зубика — моя!. Своими еще куцыми мыслишками, кривой, неумелой улыбкой — моя. И этот аромат, молочный, детский, чуть сладкий — мой! Больше ничей, главное — не Его. Она не отдаст ее никому! Тем более — Ему…
Потом улица с просевшими оттепельными сугробами, серыми от ретуши городского чада, с куцыми обрубками тополей, с назойливо яркой рекламой — вся моя! Мимо охранника, кубарем по лестнице — бегом, чтобы успеть к верстке программы по вечным московским пробкам. Одышливо впуская в себя влажный оттепельный воздух.
Безмолвный шофер — весь ее до последней извилины, до последней жилки на кистях набрякших трудовой кровью крепких рук — почтительно интересуется, какой дорогой ехать. Мимо ли Кремля, через непродыхаемую пробку, или же выбрать путь через глухие закоулки центра.
Настя выбирает набережную — ей нравится щуриться на тусклое золото колокольни (тоже мое!), смотреть на воронье, расчертившее небо над Кремлем (мое до последнего перышка!). Нравится окидывать взглядом краснокирпичный зубчатый частокол, похожий на расческу с обломанными зубьями, — принадлежащий ей до самого последнего ласточкиного хвоста. Нравится щуриться и мечтать, в воображении отрываясь от земли. Нравится, что шофер (преданный, послушный, тактичный, безнадежно влюбленный в нее) не посмеет нарушить драгоценное молчание, нерушимое и святое, как высокооктавное пение эфира.
Скажите, Настя… — Это какой-то репортеришка, просочившийся в машину, чтобы на бегу выжать из нее торопливое интервью. Он тоже влюблен в нее — как и все остальные.
Плотникова отрывает взгляд от кремлевских башен, шпилями тычущих небо, испустившее в месте укола кровавую звездчатую капельку.
В его голосе вдруг прорезывается волнение, не похожее на профессиональный выморочный интерес. Бедный глупенький дурачок. И он тоже… как все они… как всегда… Он тоже боготворит ее.
— Пару слов о вашей личной жизни.
— Моя личная жизнь — это телевидение.
— Но ваша дочь…
— Она принадлежит только мне, и никому больше… А что касается меня лично, я не могу принадлежать конкретному мужчине, поскольку уже принадлежу телевидению, и только ему… И потом, вам не кажется, что меня слишком много для одного человека?
Две запятые в углах смеющегося рта. Искрящийся синий смех в глазах. Репортер выдыхает влюбленно:
— Да, вы — наше национальное достояние… Вы — ангел!
Уже на подъезде к АСК-3 этот дурачок пытается назначить ей свидание — будто бы для вычитки интервью, хотя такие вещи обычно делаются через секретаря. Но Настя молча считывает его взволнованные мысли своим сканирующим взглядом…
Сейчас парень клянет себя за то, что поленился надеть свежую рубашку, которую, впрочем, не различить из-под серо-зимней потрепанной куртки. Волнуется табачным запахом изо рта. Переживает из-за чересчур отросшей щетины — верно, у него из-за бритья раздражается кожа, приходится ходить небритым по два дня подряд, а сегодня, как назло, подкатывает третий… Перебирает в мозгу гладко обточенные, проверенные на глупых нимфетках фразы — безусловно бронебойные в простейших любовных эпизодах, но бесполезные в данном, экстраординарном случае. Потом, отбросив их, лепечет нечто совершенно ребяческое, глупое, априори не годящееся. Сначала: «Вы мне" так нравитесь», — звучит беспомощно. Потом: «Может быть, мы могли бы…» — неуверенно. «Позвоните, вот мой сотовый», — пораженчески.
Но Настя снисходительно произносит неземным голосом, лаская его щетину своим бархатным, средиземноморским взором:
— Я знаю, как сложно брать интервью. Задавать при этом небанальные вопросы — сложно втройне… У вас получится, надеюсь…
Чтобы, когда этот мальчик выкатится из салона, прочитать на его растерянном, ошеломленном, безнадежно влюбленном лице: «Она — ангел!» Чтобы удовлетворенно усмехнуться собственной догадке…
Оттепель!
В студии царит покой. Тишина. Пыльный, слегка наэлектризованный воздух. Запах пластика и еще чего-то неуловимого, искусственного — привычный, любимый запах. До эфира еще много времени, очень много, но Настя уже здесь — скоро верстка передачи, важный этап подготовки программы.
Едва Плотникова, благоухая влажным оттепельным запахом, запутавшимся в волосах, вплывает в студию, к ней на коротеньких ножках подкатывает Алена Гурзова. Сорок лет, рыбий взгляд, прилизанные волосы. Робость исполнительной старой девы.
— Настюша, вы читали вчерашнюю «сплетницу»?
«Сплетницей» они называют ленту одного популярного информагентства, не брезгующего явной желтизной.
Конечно не читала! Ведь читать ленту — это специальность самой Гурзовой. За это ей деньги платят как редактору. И кстати, немалые для бывшей учительницы деньги…
Не дождавшись ответа. Алена выпаливает:
— На вопрос о любимой новостной программе президент ответил, что предпочитает душевную женскую аналитику холодному мужскому констатанту… Это он о вас! Вы — его любимая ведущая!
В ответ на ликование Гурзовой Настя углами рта обозначает символическую улыбку. Что ей сообщения информагентств! Что нового они могут ей поведать о мире? Она и без них знает, кого именно президент хочет лицезреть на экране… Ведь он лично говорил ей об этом!
Коснулся ее руки, как робкий пятиклассник, а потом…
— Я сразу поняла, что он имеет в виду вас, Настя, — продолжает захлебываться Алена. — На метровых каналах всего трое стоящих ведущих женского пола, а дециметр — это, конечно, не президентский уровень… Итак, Ларионова, Запевалова и Плотникова! Но у Ларионовой стиль ведения сухой, информативный, Запевалова — просто попка, читающая с суфлера… Значит, он имел в виду вас, Настя!
Гурзова лучится восторгом, как будто президент похвалил лично ее.
Да, несомненно, президент имел в виду Плотникову. Кого же еще? Ведь мир принадлежит ей по праву — весь, до последнего атома.
— Ну что ты, Алена! — Неявно обозначенные запятые демонстрируют ангельскую скромность говорящей. — Ларионова гораздо сильнее меня как аналитик.
Алена протестует всеми фибрами своей души — искренне и ожесточенно, как будто знает, чего именно от нее ждут, каких возражений.
— Но ей не хватает вашей душевности!
— Зато она берет логикой.
— Да, есть логика мозга, но есть и логика сердца! Последняя — гораздо сильнее! Действенней! Бесспорней!
— Ларионова — европейская информационная школа, — вынужденно вздыхает Настя. — Мировой уровень…
— А вы — обнаженная русская душа, а не европейское сытое бездушие, замаскированное под беспристрастность!
— И потом, она недавно сделала пластическую операцию…
— Да-а-а? — удивленно. Разочарованно. С воодушевлением, искренним и бурным: — А вот вы, Настя, не нуждаетесь ни в каких операциях!
Настя улыбается. Очевидное не требует доказательств. Мир принадлежит ей с потрохами, от самого нижнего до самого высокого, трансконтинентального уровня. Скоро будет принадлежать, совсем скоро. А Ларионова пусть не воображает себе слишком много. Если полетит ее покровитель Гагузян, эта дурочка с глазками от пластики разъехавшимися к вискам задержится на канале ровно столько, сколько потребуется руководству, чтобы договориться с Анастасией Плотниковой. Чтобы выслушать ее благодарный, мнимо сожалеющий отказ. И чтобы подобрать первую попавшуюся смазливенькую девчонку из редакторского отдела или из корреспондентской службы и попытаться сделать из нее мегазвезду, любимицу миллионов сердец. И чтобы вскоре осознать неминуемую провальность этой попытки.
Потому что все на свете принадлежит ей. Абсолютно все. Она — избранная.
У дверей уставшую после эфира Настю встречает няня. Принимает из рук охапку цветов — кто-то из редакторов расстарался по случаю сногсшибательного возле президентского слуха.
— У Алины был тепленький лобик, я уложила ее спать пораньше.
Настя улыбается светло и нежно — как улыбается ангел, уставший от множества праведных дел. Пальто утомленно соскальзывает с плеч, чтобы мятым горбиком осесть на полу. Ступни, нырнув в домашние туфли, начинают бесшумный путь к детской.
Алина разметалась на подушке, обездвиженная первым, глубоким сном, который не может оборвать ни полоска света из-за двери, ни ватный свет ночника. Чмокает влажным ртом, вздыхает. Потревоженная незримым присутствием матери, разморенно перекатывается на бок. Ее кудрявая головка темно прорисовывается в тревожном сумраке детской.
Обстоятельной скороговоркой няня описывает прошедший день. Ничего серьезного, все как обычно… Настя почти не слушает ее. Она знает — все было как надо, все будет как задумано, все идет как должно.
— На обед — каша с фруктами, а от курицы она отказалась… Вы же знаете, она не любит вареную курицу…
На мгновение Настя уплывает из приятной сиюминутной действительности. Медленно расстегивает кофточку — перед глазами все еще скачут синтетические буквы монитора. Утомленно щурится в предвкушении теплой постели, вечернего чтива на ночь. В предвкушении телефонного звонка с традиционным эфирным поцелуем по ту сторону трубки. Перебирает в уме набор традиционных нежностей, которых от нее ждут. И не дождутся…
Неохотно возвращается в обыденность. Няня стыдливо топчется возле двери в ожидании собственного ухода.
— Он звонил сегодня…
Настя догадывается, кого она имеет в виду… Напряжение в голосе няни придает словам недопустимо преувеличенный вес.
— Хочет забрать Алину к себе на следующей неделе.
— Зачем ты с ним разговаривала? — Хозяйка хмурится.
— Извините… Случайно нажала прием, ведь определителя номера у меня нет. Он спрашивал, почему вы не отвечаете на его звонки…
Неприятный холодок вдоль позвоночника. Настя невольно вздрагивает… Впрочем, все это пустяки. Его скоро не будет, Его уже почти нет… Он — опасное и неприятное недоразумение, только недоразумение. Всего лишь…
— Поэтому я хотела бы знать, Анастасия Андреевна, на следующей неделе мне выходить или… Ведь если Алина будет у отца, то я…
— Алина не будет у отца! — Нарочитым спокойствием она обозначает малосерьезность происшедшего и бесполезность всяких звонков.
— Но ведь Игорь Ильич сказал, что заберет ее…
Настя утомленно откидывается в кресле. Две лукавые запятые медленно вырождаются в скорбные складки возле рта.
Он становится назойлив… Он принадлежит к той малочисленной части мира, темной и злой, которую она привыкла оставлять за скобками. Эта часть мира вне ее ангельской компетенции. Она предпочла бы, чтобы ее вообще не было. Пусть будут воры, убийцы, растлители малолетних, подонки, отбирающие у старушек гробовые деньги, пусть будут террористы, насильники, тайные педофилы и явные подлецы (все они ей необходимы, ведь все они герои ее программ), а вот он… Пусть он исчезнет!
Таких людей, которых она выключает из списка своих подчиненных, немного. Их убийственно мало, их почти нет. Можно наскрести в своей памяти лишь пару штук. Даже Ларионова не входит в их число. И скоро она всех их уничтожит.
Первым из них — своего бывшего мужа.
«У каждого бывают такие дни, когда все ладится. В эти дни мы приемлем действительность со всеми ее потрохами. Мы любим улицы, дома, случайных прохожих, бродячих собак, грязных нищих… Мы преисполнены терпимостью, распахивая свое сердце навстречу миру. Мы готовим себя к подвигу ежеминутной жизни, к подвигу существования. Мы жертвуем своими интересами во имя семьи, общества, человечества.
Но надолго ли мы отказываемся от своего эгоизма? — задаю я вопрос.
Не более чем на одну минуту! — отвечаю себе.
Увы, наше самопожертвование кратковременно, даже если оно не требует от нас материальных затрат или особого душевного напряжения.
Подумайте, что вы можете сделать для мира, на миг отказавшись от своего пещерного эгоизма… Покормить бродячую собаку? Подарить одежду нищему? Помочь потерявшейся в метро старушке? Улыбнуться плачущему ребенку?
Если вы хоть на секунду станете добрее и терпимей — это будет вашей победой. Это будет нашей общей победой…»
«Моей победой», — могла бы добавить она. Но ей не нужны дешевые морализаторские лавры. Мир у нее в нагрудном кармане — вместе с теми, кому предназначены эти проникновенные слова. Тем более, что это всего лишь слова, и ничего больше.
— Э-э-э, н-да, — многозначительно вздыхает Антон Протасов, раздумчиво теребя рукой подбородок, что означает у него высшую степень затруднительности. — Как всегда гениально, Настя… А потом мы пустим ту историйку про студента, помогавшего старушке продуктами и под маской благотворительности свистнувшего у нее крошечную пенсию… Однако, видишь ли, ангел мой…
Настя молчит, расслабленно откинувшись в кресле.
— Для общей массы немного сложновато… Если позволишь, мы немного сократим текст, потому что… Как тебе объяснить… Ну, ты же понимаешь… — Протасов жалко блеет, стараясь оторвать себе подбородок.
Не то чтобы он боится ее, не то чтобы опасается обиды или женской мести, но Плотникова — это Плотникова. За ней — народная любовь, за ней — руководство канала, за ней сам президент, говорят. Это требует оглядки на каждое слово, это требует проверки каждого жеста.
Сейчас они обсуждают «пилот» новой передачи «Мысли и чувства», сделанной специально под нее, Настю. Хитовой прайм-таймовой передачи, призванной оттянуть сериальные рейтинги у конкурирующего канала. Передачу, на которую станут работать около полусотни человек и которая увенчает Настино чело лаврами всемирной, никак не меньше, любви.
В муках рождается новый вариант.
— Любите друг друга, помогайте другу, и пусть настанет благополучие в ваших семьях, — скажет Настя, лучась сочувственным светом, чтобы через секунду погаснуть на самом кончике оборвавшегося телевизионного луча.
«Ангел!» — воскликнут миллионы зрителей, не подозревающих, что они слушают убийцу, боготворят убийцу, обожают убийцу.
Да, она убила человека, но никто не знает об этом — кроме Него. И если Он исчезнет, то никто никогда ничего не узнает…
Как тяжело быть убийцей! За всю свою жизнь Настя привыкла к обожанию, любви, всеобщему преклонению. К своей легкой и необременительной (и для окружающих, и для самой Насти) доминанте над близкими людьми. Как привыкла к самому воздуху, обнимающему ее. Всегда, с самого, самого начала, ab ovo. И так будет всегда, потому что она этого достойна, она это заслужила. И значит, это справедливо.
Часть первая
РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
Глава 1
В том городе, лягушкой застывшем на изрезе крутого берега, она и явилась в мир, предчувствуя, что ее ждут миллионы пока еще ничего не подозревающих людей. Наружно здешняя жизнь текла как обычно — но вместе с тем все вокруг готовилось измениться вместе с ее появлением на свет. И когда она, смело вынырнув из пра-материнского грозящего несуществованием лона, впервые шагнула в мир, он незримо трансформировался, готовясь сменой декораций обозначить долгожданное пришествие Насти. Кажется, дома выкрасили, зарплату повысили, объявили очередное удешевление кастрюль, растопили снег полуденными лучами, вымели с улиц первомайский сор. И когда чистенький, уютный мир был готов приветствовать явление новой звезды, она, наконец, явилась.
Так, во всяком случае, она сама думала в детстве. Абсолютно искренне и не без основания.
Ее отец, приняв животный кулек в свои сильные, практически всемогущие руки, тем самым навсегда обозначил фундамент существования дочери. Он — здесь, рядом, он всегда поможет. Мать оттеняла могущество отца предупредительной, но не лебезящей угодливостью. И конечно, никак нельзя было сказать в этом случае, что ребенок был нежданным или случайным, — напротив, его ждали, к нему готовились, его встречали. И никто не посмел бы возразить акушерке, мявшейся у кувеза в стремлении угодить директору знаменитого завода, против всех гигиенических правил, вследствие своего директорства и партийности допущенного в святая родильных святых, и одновременно желавшей понравиться журналистке (которая не только черта лысого могла загнать за Можай, но даже и самого главврача роддома, буде он не угодил бы ей своими услугами), когда та воскликнула, умильно глядя на туго спеленутый кулек:
— Куколка! Красавица! Таких рождается одна на миллион. Десять на девять баллов по шкале Апгара, но я бы даже дала пятнадцать на пятнадцать, только шкала маловата! — льстиво причитала она, ловко, с профессиональной бережностью пеленая ребенка.
Родители Насти как должное приняли факт акушерского восхищения, казавшегося им естественным и органичным — как и все те мелкие завоевания быта, следовавшие из начальственной должности отца и не рядового, на переднем крае корреспондентской борьбы положения матери: например, продуктовый распределитель, в изобилии раздававший свои дары в виде икры, сервелата и скоромных советских деликатесов, которые по тому времени не только не казались скромными, но даже многим представлялись амфитрионовскими излишествами, особым пищевым развратом. Но Плотниковым, для которых долговременность пользования продуктовыми благами делала их естественным и неудивительным фоном обыденной жизни, они были привычны. Так же привычны, как, например, шестой склад на городской промтоварной базе, полнившийся яркими японскими куртками, заморскими, абсолютно дефицитными джинсами, французскими натуральными ароматами, по бросовым, для своих, ценам и даже разговлявшийся время от времени Карденом, натуральным, без подделки, хоть и слегка устарелым вследствие своего изнурительного шествия через всю Европу к тому самому городу, где царствовали некоронованные короли машиностроительных заводов и правили назначенные партией принцессы местного телевидения.
Кроме продуктов и промтоваров, Плотниковым предназначался еще и персональный водитель на номенклатурно черной «Волге», возивший не только Андрея Дмитриевича, но заодно обслуживавший и его супругу, потому что ему совсем нетрудно было завезти Наталью Ильиничну (суматошную, вечно в цейтноте, вечно опаздывающую) в редакцию по дороге, а потом завернуть на рынок со списком продуктов (свежая зелень всегда должна быть в доме), а потом захватить по дороге тещу, предназначенную не столько для воспитания Насти-младенца, сколько для контроля приходящей нянюшки, дипломированной медсестры с неким психологическим образованием и даже не без педагогических способностей, которые, впрочем, еще были неприменимы на практике из-за малого, практически колыбельного возраста воспитомки. Но они, эти способности, как и сама няня, были уже припасены предусмотрительными родителями, редко прибегавшими к «бюро добрых услуг», поскольку они давно отказались от всего общеупотребительного, ширпотребовского, ценя, наоборот, индивидуальность и избранность услуги, которая как бы подчеркивала их личную ценность и качество их персонального служения отчизне.
Между тем няня была нужна и, более того, необходима — как из-за перманентной занятости родителей государственной службой, так и из-за их частых командировок. Кроме путевок не на местную турбазу, а в золотопесчаную Болгарию или даже в средневековую Прагу, в виноградную Румынию или в подозрительную, но довольно милую Венгрию, в косметически благоприятную, но не слишком выгодную Польшу, ценность высокопоставленной семьи также доказывалась их кратковременными налетами на Европу — настоящую, а не социалистическую Европу, с суточными в валюте, с непременной инструкцией серенького товарища, из-за странной стеснительности (опытные же люди едут, столько раз выезжали, но возвращались всегда!) стремившегося скороговоркой обнародовать всю номенклатуру опасностей, подстерегавших советских граждан, особенно таких ценных для страны, как товарищ Плотников со своей женой Натальей Ильиничной. Скороговорку оправдывало лишь то, что супруги ехали не столько обозреть туристические ценности Парижа, сколько заключить контракт с западными фирмачами, безусловно выгодный для страны, который обеспечил бы приток в нее инвалютных рублей. Эта инвалюта служила как бы компенсацией государству за куцые суточные на двоих — плюс энная сумма на представительские расходы плюс еще немного с прошлой торопливой поездки, когда им, стесненным вечным цейтнотом, так и не удалось принести законную валютную жертву… Вот такими скромными поблажками скупая неласковая родина восполняла их прометеевское горение на работе — и в праздники, и в будни, везде и всегда — куда пошлет их придумчивая на извилистые житейские повороты судьба.
Кроме вещественных доказательств своей значимости, семейству Плотниковых доставались и условно нематериальные блага — подписной талон на всего Мопассана, а потом даже и на натуралистического Золя, которого они конечно же выкупили, но никогда не читали, так как было некогда, и не хотелось, и было не то что немодно, но, скорее, тоскливо читать про белые домики Прованса во время затяжной северной весны. Им, доставались билеты в первый ряд на столичный ВИА с провинциальным акцентом, на милого юмориста с головой лысой, как костяной бильярдный шар, — это были события, пестрившие искорками нетривиальности, скучную обыденность, они были призваны расцвечивать их жизнь, придавать ей некий, будто бы культурный, будто бы духовный, а на самом деле совершенно затхлый, провинциальный вкус, косность которого так остро чувствовалась во время кратковременных вылазок в столицу или во время ежеквартальных набегов Андрея Дмитриевича в министерство, портфель которого ему прочили закулисно. Впрочем, этот портфель в итоге ему так и не достался, ведь Андрей Дмитриевич не спешил участвовать в министерских интригах, ожидая, что высокое кресло достанется ему само собой, по негласному праву, — как доставались распредбазы и шестые склады, Франция и Мопассан, лежалый Карден и нележалые джинсы, как доставался ему концерт залетного юмориста, островато шутившего про западную жизнь, которую никогда не видел (он считался невыездным) и которую знал преимущественно по «Международной панораме» и советским фильмам, где заграницу всегда изображала скромная Прибалтика.
Со слов своего хорошего приятеля, своего бывшего сокурсника, Андрею Дмитриевичу было известно, что он уже намечен и предназначен высокой должности. Будучи стопроцентно уверенным в верности слуха, Плотников даже намекнул жене, чтобы та не брала югославский гарнитур по записи, поскольку при переезде грузчики все равно обобьют края, а в столице можно будет купить даже не югославскую, а настоящую румынскую мебель из натурального дерева, а Настю можно будет отдать в ЦСКА на фигурное катание, хотя мала еще и рано загадывать на будущее, но отчего же не загадывать, если будущее светло и определенно, предназначено к безусловному выполнению, как квартальный план на заводе, и даже в принципе не подвергается обсуждению, как тот самый квартальный план.
И жена послушала его… Намекнула кое-кому на столичные перспективы мужа — и ее вдруг пригласили на телевидение вести международный обзор (уповая на те самые перспективы, от которых тому самому «кое-кому» тоже светили какие-то перспективы). Достоверность иностранного обзора должна была следовать из самого факта прошлых выездов ведущей в иные палестины. Наталья Ильинична надеялась, что местечковое телевидение станет ее трамплином, стартовой площадкой для трансконтинентального (буквально!) перелета в Останкино. Естественность перемещения ее на столичное ТВ сама собой следовала из естественности и неотвратимости министерского кресла для Андрея Дмитриевича и фигурного катания для Насти, уже ползавшей в предназначенной ей для освоения четырехкомнатной квартире (кстати, не такой уж большой для семьи, в которой, кроме няни и тещи, имелась еще и дальняя родственница, помогающая по хозяйству не за деньги, а за продуктовую помощь и за подарки к праздникам, за обломившуюся ей очередь на югославский гарнитур и за внеплановые финские сапоги, оказавшиеся маленькими хозяйке, но пришедшиеся впору, если поджать пальцы, самой родственнице).
Однако местечковое телевидение так и осталось для Натальи Ильиничны высшей и, увы, заключительной точкой карьеры, несмотря на постоянное, привычное и немного утомительное ожидание Москвы, переезда, вопросов, как быть с дачей, продавать или оставить маме, несмотря на торопливую операцию у врача «для своих», навсегда лишившую Настю возможности иметь братьев и сестер, навсегда сделавшую ее единственной лелеемой ча-душкой, милой девонькой, каждый каприз которой подлежит удовлетворению, для которой — все лучшее, недоступное, недостижимое, даже такое, что для других невозможно, — например, английский с трех лет и французский с восьми, например, музыкальная школа на дому с преподавателем мировой известности, прочившим своей ученице — истово, но не искренне — мировую славу и восклицавшим, сжимая ее тонкие пальчики в старческой паучьей лапке: «Какая кисть! Клиберн! Действительно, Клиберн!»
Тогда в самом деле казалось, что мировая слава дочери неминуема, как и скорый переезд семьи в Москву, что старичок прав и он должен почитать за счастье, что у него такая ученица, которая не только усугубит его педагогическую славу, но и сделает ее воистину фанфарно гремящей, поскольку из-за Настиного мирового триумфа его просто-таки вознесут на музыкально-преподавальский олимп. И все это странно и нелепо, если так посудить, ведь ему за занятия с девочкой еще и платят, и немало, по столичным расценкам платят, не торгуясь, платят во благо своего единственного дитяти, а между тем этот старик вдруг подло помирает, не ко времени и не к месту, так и не дождавшись созревания ученицы и так и не сумев ей толком поставить руку. Настя, впрочем, тайно радовалась смерти своего добрейшего наставника. Она не любила занятий со знаменитым старичком из-за затхлого капустного запаха, который распространял его редко удостаивавшийся стирки парик, вывезенный во времена старичковой молодости чуть ли не из Акапулько, из-за монотонности уроков, из-за гниловатого запаха старческого рта, который поневоле приходилось вдыхать, когда педагог склонялся к клавиатуре, чтобы поправить ученице руку, выставить пальцы, поддержать кисть.
Порой, прервав занятие, она убегала из комнаты, отговорившись болью в животе или усталостью, жаловалась взрослым с прямотой ребенка, которому прощается все, даже и то, что другим детям ставится как лыко в строку, за что их лупят ремнем и лишают сладкого, а ее, Настю, лишь мягко журят, укоризненно глядя на нее любовным, все прощающим взглядом. Вслух, в голос заявляла, совершенно не боясь старичковой глухоты, кончавшейся там, где обрывался хроматический пассаж и начиналась обыденная речь:
— От него воняет мышами… Я не хочу!
И старичка препровождали с десяткой, исподволь вползшей в руку, договаривались насчет следующего занятия и попутно требовали показать ребенка заезжей пианистической знаменитости, ожидавшейся вскоре в городе с гастролями и долженствующей почтить своим вниманием старичка, тоже когда-то ставившего этой знаменитости руку. Потом — месяц спустя — показывали иногородней знаменитости, слушали дежурные похвалы, на которые гастролер был неизменно щедр, поскольку от него требовалась только словесная любезность в обмен на приятный ужин с деликатесами и на выступление по местному телевидению в передаче «Музкиоск» с небольшим, но таким полезным для нужд знаменитости гонораром в виде дефицитных «жигулевских» запчастей. Эти запчасти Андрей Дмитриевич добывал в известных только ему местах, имея в виду благополучие своего ребенка и полезность знакомства со знаменитостью для их грядущей столичной жизни, в которой без ЦМШ для Насти никак не обойтись, а знаменитость, безусловно, может поспособствовать…
И знаменитость, принимая запчасти, обещала способствовать, и трепала девочку за щечку, и высказывала восхищение милотой и живостью раскованного ребенка, и предсказывала, что обязательно красавицей вырастет, и что он, со своей стороны, — всегда, только дайте знать, вот телефон московский, если он будет не на гастролях, то всегда пожалуйста, если вдруг, то тогда сразу… Наталья Ильинична досадливо хмурилась, ожидая комплиментов не внешним данным дочери (в которых она не сомневалась, да и никто в них не сомневался), а ее исполнительскому мастерству, зачатки которого мать с очевидной явственностью различала и которые, казалось, не были столь уж очевидны для любезного гастролера, даже несмотря на дефицитные запчасти и на данное им обещание способствовать.
Вместе с тем переезд в столицу затягивался… Тягучее время текло, как сонная вязкая патока, кварталы сменялись полугодиями, полугодия, попарно объединившись для головокружительного танца, превращались в годы, а лета шествовали сплоченными группами по пять штук, соединяясь в пятилетки. Одноклассник Андрея Дмитриевича, работавший в министерстве, вдруг подло скончался от инсульта, а его место занял другой, совершенно чуждый Андрею Дмитриевичу человек, который даже не подозревал об обещаниях своего предшественника и потому не хотел их выполнять. У него вместо креатуры предшественника была наготове своя собственная креатура, имелись свои сокурсники и свои одноклассники. Андрей Дмитриевич так и не сумел доказать новому министру личную ценность для общего машиностроения, так что его даже и во вторые заместители не пригласили, отговорившись неясными обещаниями в случае выполнения квартального плана и при условии выполнения оного.
В гневе Андрей Дмитриевич решил было переметнуться на партийную линию, от которой он в свое время необдуманно отказался, предпочтя ей производственную карьеру, но партийная линия тоже ему не пришлась. И потом, в предчувствии смутных, перестроечных перемен, в чехарде генсеков, партийная линия выглядела не слишком уж прямолинейной в карьерном плане. Пришлось Плотникову осесть на своем заводе — надолго, практически (забегая вперед) навсегда.
А между тем говорили ему про рыжего Рубахина, который одновременно с его директорским назначением пересел в секретарское, казавшееся тогда малопочтенным из-за отсутствия размаха, из-за куцей местечковости, кресло, который вот уже год как подвизался в Москве вторым секретарем в горкоме, а там и в ЦК, глядишь, переметнется… И Андрей Дмитриевич тоже, кажется, мог бы так, если б не застопорился на одном месте, если б однокашник его не умер внепланово, а ведь как все перспективно начиналось: с одного цеха, с одной поточной линии… А теперь… Двадцать цехов, сотни линий, автоматика, немцы удивляются, чехи перенимают опыт, а что толку?
Кто все это видит? Кто ценит? Москва ежегодно повышает план, завод гонит продукцию в три смены, людей и за меньшие заслуги выдвигали вперед, а вот поди ж ты, застрял Андрей Дмитриевич на одном месте, словно завяз в болоте, жена Наталья на телевидении прозябает, репортажи про доярок вставляет, морщась, в сетку вещания. Дочка — два языка, музыкальная школа — а что дальше? Провинция — она и есть провинция, выше своей макушки не прыгнешь, замах не тот, пространства развернуться не хватает, опять же масштаб местечковый, курице по пояс, петуху по колено…
Наталья Ильинична частенько пилила супруга, обвиняя того в непронырливости, нерасторопности и в неумении менять что-либо в семейной судьбе. В конце концов она купила-таки югославскую стенку, которой не угрожал больше междугородний переезд, и сделала еще одну попытку забеременеть, правда неудачную. Едва оправившись от нее на двухмесячном больничном, она зареклась от любых повторений в этой области, несмотря на тактичную любезность главврача, отдельную палату и предложение консультации у столичного светила.
По малолетству Настя мало что понимала в честолюбивых помыслах родителей, не ведая ни про карьерные потуги отца, ни про столичные амбиции матери. Для нее мир покоился на двух, абсолютно незыблемых китах: на отцовской силе, ощущаемой неявно, одними только волновыми движениями, электромагнитными колебаниями, но при этом очевидной для окружающих (и для простодушных торговок на рынке, и для стюардесс в самолете, летящем на юг), и на власти матери, которая еженедельно царила в телеэфире с твердо налаченной прической и приветливой улыбкой, обозначенной двумя совершенными отточиями в углу красиво вылепленного рта.
Влияние матери было тоже вполне очевидно и явственно — для тех самых торговок с рынка и аэрофлотовских (других о ту пору не существовало) стюардесс. Стоило появиться Наталье Ильиничне на улицах города, как ее сразу, словно мухи, облепляли любопытные взгляды прохожих. Но экранная узнаваемость играла с ней дурную шутку: самовластная, могущественная в своей епархии, она совершенно по-детски терялась за ее дальними, сверхобластными пределами. В Москве ее чары не действовали. Люди не скользили по ней любопытными взглядами, а если и прилипали взором, то лишь интересуясь надетым на нее дефицитным костюмом или ее до сих пор ладной фигурой, которую женщины отмечали с неизменной завистью, а мужчины — вожделеюще.
Но и в Москве мама пыталась было вести себя так, как в родном городе, — как имеющая право на дополнительные, сверх ассортимента услуги и требующая этого права по праву. Однако в первый же вечер она наталкивалась на завуалированное хамство столичной тертой обслуги, для которой жена какого-то директорика из провинции, шишки на ровном месте, значила так же мало, как и любая другая женщина, находящаяся
вне узкого круга московской номенклатуры, московской богемы или московского подпольного, с кавказскими корнями, рыночной этиологии нуворишества.
Получив отборную порцию лакейского презрения, мама по-детски терялась, потом начинала возмущаться, требовать жалобную книгу, не получала ее, после чего шла по улице с жалким, на грани слез лицом, очевидно осознавая свою выключенность из столичной кипучей действительности и свою неискоренимую чужеродность, которая довлела над ней, несмотря на шестой склад, и на ежегодный зарубеж, и на возможность (с годами все более мизерную и призрачную) влиться в число избранных столичных жителей, стать плоть от плоти московских улиц, кровь от крови ее театров и музеев, чтобы, презря восторг приезжей дальней родственницы под пряничными башенками Кремля, цедить небрежными губами: «Красная площадь? Там одни командированные… Третьяковка? Я так устаю от нее… Может быть, лучше посидим в «Арагви» или в «Пекине»? Там очень мило, мы там часто ужинаем вместе с нашими завзятыми театралами…»
Да еще припустить парочку знаменитых имен, огорошить своей неформальной дружбой с любимцами публики — которые и в столице так же будут искать знакомства с ней и станут дорожить этим знакомством, как нынче ищут его и дорожат местные знаменитости в их областном центре, как лебезят и улыбаются, как приглашают в гости и зазывают на пикники, как сыплют комплиментами и как боятся не угодить. Но только все это на другом, более высоком, столичном уровне…
Для Насти же, с ее младенческой взлелеянностью, мир тогда казался самодостаточным, а родной город — лучшим на земле. Она чувствовала значение своих родителей собственной, сверхчувствительной кожей. Как должное она принимала ласку детсадовской воспитательницы, наказывавшей ее товарок за шалости, несмотря на то что именно Настя была их виртуозным инициатором, изобретательной на мелкие шкоды заводилой, недосягаемой для одергивания, ненаказуемой в принципе и оттого уверовавшей в свою природную исключительность. Родители добросовестно поддерживали в дочери это заблуждение, тайно питая чертополох детского эгоизма ядовитым соком своих взрослых амбиций.
На школьных утренниках ей неизменно доставалась лакомая роль Весны, на которую неизменно назначали самую красивую девочку, и неизменно — Настю. В смотрах художественной самодеятельности ей всегда присуждали первое место за сладенький полонез Огинского, озвучиваемый не столько умело, сколько бурно, дабы звучно галопирующим каскадом скрыть мелкие огрехи исполнения. За ней бегали все мальчики в школе. Все девочки ей завидовали — и ее вьющимся каштановым волосам, и натуральным синтетическим колготкам с черепаховым узором, и яркому ранцу с заморским Микки Маусом в пику блеклым отечественным буратинам, и немецким куклам, с придыханием мяукавшим целые фразы, у которых гнулись и ручки, и ножки, а личико было не твердо-пластмассовым, а мягко-резиновым, нежным, с естественным румянцем на высоких скулах вместо грубой буряковой красноты отечественных карлиц, не говоривших ни бе ни ме и под платьем скрывавших грубое сатиновое безобразие вместо кружевных, совершенно обворожительных панталон.
У нее единственной имелся в личном распоряжении велосипед, которым она щедро делилась с друзьями, — пока в один прекрасный момент агрегат не увели неизвестные злоумышленники, возможно несовершеннолетние, не то соблазнившись его красным цветом, не то возмутившись несправедливостью распределения жизненных благ, от которых Насте досталось что-то уж слишком много, чересчур изобильно. В школу ее возила черная «Волга» отца; шофер, открыв заднюю дверь, доставал портфель и чинно нес его до самых дверей. На уроке английского она единственная из всех рассказывала об Англии с подробностями, доступными лишь очевидцу. У нее единственной мать появлялась на голубом экране в передаче «Час производственника», где сурово допрашивала доярок о том, собираются ли они увеличивать надои молока и каким конкретно образом.
Она была единственной, кого пригласили в горком, чтобы сначала вручать букеты заезжим космонавтам, а по окончании торжеств под прицелами всезрячих телекамер нежиться в их космических объятиях. И на этой встрече она была единственной из всей детской массовки, кто попадал на экран не односекундным промельком, а появлялся на нем раз за разом, точно ее смазливое личико неудержимо притягивало недреманное око телекамеры, обворожив ее своей ребяческой, но уже так много сулившей красотой.
Она вообще была единственной, кто многажды появлялся в телевизоре: Настя ежемесячно снималась в детской передаче, где царствовала с кокетливо накрашенными губами и с подведенными розовым веками, в красной поролоновой юбке в виде земляники — она и изображала эту самую ягоду, зачем-то необходимую по сюжету, произнося утрированным голосом заученные до металлического отщелкивания фразы. Уже тогда девочка привыкла и к жаркому свету «бебиков», и к наездам громоздкой телекамеры, и к своему лицу на экране, и к своей славе в школе, ставшей прообразом, зародышем той самой огромной славы, которая ей будет суждена потом и которую она не ждала, однако угадывала ее вследствие привычной, с детства доставшейся ей исключительности…
В отношениях со сверстниками Настя была неизменно мила и великодушна, едва ли не во младенчестве осознав, что за малое снисхождение часто достаются великие лавры. И как еще в самом далеком детстве она щедро делилась игрушками со своими коллегами по песочнице, уверенная в чрезмерном изобилии своей семьи, которое, как ни уменьшай, меньше не становится, так и в школе она делилась ученическим дефицитом с одноклассниками — и чешскими, волшебно мягкими ластиками, и абсолютно чемпионскими по своему качеству карандашами «Кохинор», и решенными задачками по физике, и подсказками в английском, и снисхождением учителей, и обильными деньрожденческими посиделками, а также первыми игрушечными поцелуйчиками, дружбой, любовью — чего там еще у нее было навалом, через край, полным-полно…
Она бы и своими родителями поделилась, и семейным благополучным уютом, и бабушкиной лаской, и нянюшкиным теплом, и ранним английским, и старичком — мировой знаменитостью, однако это были вещи совершенно неделимые, вещи абсолютно однозначной адресности, доставшиеся ей раз и навсегда, как сужденный Всевышним талант, как ангельский поцелуй в макушку при рождении, как серебряная ложечка во рту — знак изначальной избранности.
Может быть, поэтому ее так редко касалась детская, мстительная зависть? Разве можно завидовать божеству, разве можно пытаться сбросить на землю недосягаемую звезду, разве можно не любить ту, что более всех на свете достойна любви?
И ее любили… Любили по-разному, то в открытую сражаясь за ее благосклонность, разрабатывая военные операции по захвату сердечного расположения, то копеечными услугами исподволь завоевывая ее внимание, чтобы потом, проникнув в ближний круг, одним махом добиться Настиной симпатии — высшей награды как для убеленного сединами генерала, так и для безусого новобранца, первый день на войне.
Ну разве можно ее не любить? Нет, это было выше сил человеческих, детских, взрослых, учительских!
Изредка возникали, правду сказать, наглые строптивицы, воинственные конкурентки, оспаривавшие право Насти Плотниковой на всеобщее внимание и всеобщую любовь. Эти «протестантки» рыли траншеи и окопы, возводили бастионы, устраивали западни, но рано или поздно все они, выбросив белый флаг, добровольно переходили в стан победительницы — с песней любви, с гимном радости либо со стоном своего ничтожества.
Помнится, в пятом классе Настя, расстроенная результатами общего для всего класса провала по математике, самоотверженно похитила классный журнал и в одиночку, отчаянно рискуя благорасположением классной дамы (а на самом деле не рискуя ничем, кроме кратковременного неудовольствия родителей), неумно и неумело переправила оценки за контрольную — всем и каждому, и показушным отличникам, и показательным двоечникам, и подозрительным хорошистам, и тихим троечникам. Вывела недрогнувшей рукой неестественно круглые и красивые, совсем не учительские пятерки, происхождение которых было немедленно раскрыто беглым взглядом классной. И только себе самой Настя оставила честно заслуженную тройку — чем и выдала себя с головой.
На вопрос завучихи, зачем она это сделала, Настя не увертывалась, не лгала, не прятала смущенный взгляд — подобное малодушие было не в ее широком (с лишком на всех хватит!) характере, а ответила прямо, хотя и не слишком правдиво: «Чтобы родители ребят не ругали». Причем ее-то никто никогда ни за что не ругал, то есть не для собственной выгоды она старалась, отнюдь! Тогда для чего же?
Разразился грандиозный скандал… Встал вопрос об исключении девочки из школы — впрочем, вопрос более риторический, чем реальный, более грозящий, чем грозный. Но шум вскоре сошел на нет: Настины родители умилились ребячьей шалости, учителя умилились детской честности, одноклассники еще больше полюбили Настю — совсем уж безрассудно полюбили, отчаянно, бесшабашно, или, как сейчас говорят, безбашенно.
Теперь дети дружно сматывались с английского, когда Настя, обуянная весенним путешествовательным приступом, предлагала отправиться в парк за подснежниками, дабы расставить по школе сметанного вида букетики по сметанным же банкам, — даже и в коморке дворничихи поставить, и в кабинете нелюбимой завучихи, и в подсобке любимого физрука. А когда на классном часе вставал вопрос о заводиле, о запевале этого бесчестного демарша, она, признавшись в своей инициативе, смело принимала наказание в виде пролетарски-красной записи в дневник, которая умоляла родителей, никогда не внимавших, впрочем, учительским заклинаниям, как-то повлиять на дочь.
Потом Настя смело объявляла о сборе пятидесяти копеек с носа на новорожденных «дворянских» щенят, обнаруженных ею в столярной мастерской возле школы, — и дети сдавали требуемую сумму. Даже и те, кто не мог сдавать, те урывали от завтраков, от денег на тетрадки, приносили продуктами или похищали оные в столовой. А когда щенки, заваленные тоннами свиной вырезки, хором сдохли от заворота кишок, устраивала торжественные похороны с кружевным тюлем поверх самодельных, из обувных картонок гробиков, с унылой скрипочкой очкастого отличника, который вместо похоронного марша играл по кругу бетховенского «Сурка», с искренними слезами и выспренними речами в городском сквере, признанном единственно достойным местом для собачьего кладбища, с ворохами полевых цветов, водруженных на могилку, с расспросами потрясенного милиционера, отступившего перед ребячьей, немного преувеличенной скорбью, которую, впрочем, дети Считали абсолютно натуральной.
А когда одна девочка обвинила Настю в присвоении классных, собранных на щенячье питание и воспитание денег, та, смертельно побелев лицом, вывалила на парту содержимое своих карманов, прибавила к нему золотые гигиенические сережки и нательный крестик на золотой же цепочке, целомудренно скрытый школьной формой, и заявила гордо, с гневным блеском бестрепетных глаз:
— Берите! Мне ничего не жалко! Вот!
И ребята поникли, потрясенные… И неудачливая обличительница тоже отступила — ошеломленно. И забормотала, что ничего такого она не думала, а сказала просто так, потому что… потому что… И расплакалась внезапно в полный голос, потому что поняла: хотя правда на ее стороне, но это не та правда, которая настоящая, а настоящая правда всегда на стороне Насти — потому что только та правда настоящая, на стороне которой сама Настя. И хотя сей логический посыл был весьма путаным и сомнительным и совсем не логичным, но тем не менее… тем не менее…
Однако Настя вовсе не затаила зла на девочку, открыто оспорившую ее авторитет, она оказалась великодушнее самых великодушных и добрее самых добрых. Она первая предложила девочке дружбу, пригласив ее к себе домой, и сказала, кто старое помянет, тому глаз вон, и дала списать ей контрольную. А девочка, раздавленная вражеским великодушием, все чахла и бледнела под ядовитыми парами Настиной роскошной дружбы, которая расцветала наперекор всему классу, эту новенькую девочку явно возненавидевшему. Девочка меркла от неприязни сверстников, а в Настином открытом приятельстве подозревала завуалированное коварство. Но между тем ничего такого со стороны Насти не было, просто не могло быть, потому что не такой она была человек на самом деле. И Настя всегда укорчиво отвечала на зудливые подначки подружек (мол, Демчева такая противная и подлая, давайте ей темную устроим или бойкот), что Демчева вовсе не противная и не подлая, она только хотела правды и справедливости, даже если правда лишняя и справедливость несправедливая, так что давайте, ребята, наоборот, пригласим Демчеву на день рождения к Стасику и там с ней подружимся, а я подарю ей свою кофточку, ту самую, которая так нравится всем девчонкам, ведь Демчева из многодетной семьи и отца у нее нет, и одежды у нее тоже нет, она всегда ходит в одной школьной форме на вырост. И Настя великодушно дарила Демчевой кофточку, про которую врала родителям, что ее украли на физкультуре, и дарила колготки, про которые врала, что потеряла их на ритмике, и дарила всякую мелочовку вроде волшебных кохиноровских ластиков. А Демчева злилась на нее совсем уже отъявленно, хотя подарки принимала, но в кофточке никогда не появлялась на людях, ластики теряла, ненавидела Настю совсем уже остервенело, до потери пульса, до телесных судорог — так же сильно, как любили ее все остальные, в том числе и сама Демчева, но тайно и в глубине души.
Училась Демчева все хуже и хуже, даже несмотря на то, что ребята, воодушевленные Настей, подсказывали ей на уроках, давали списывать домашку и контрольные и вообще взяли над ней шефство как над многодетной безотцовщиной. В конце концов бедную Демчеву перевели по настоянию ее матери в какую-то другую школу, с каким-то другим уклоном — но не с хорошим уклоном, например английским, а с уклоном нехорошим, постыдным, однако с каким именно — не беремся сказать, слишком уж много времени с тех пор утекло.
Короче, раздавила Настя Демчеву своим великодушием.
А то еще с учительницей был один случай… Появилась в школе новая учительница английского языка, не очень молодая, но очень уж принципиальная. Не зная об особой миссии Насти в школе, об особом отношении к ней педагогов, не зная о папе-директоре и телевизионной маме, невзлюбила она девочку, сочла ее выскочкой, зазнайкой, воображалой, возомнившей, будто досконально знает английский язык, который и сама-то учительница знала нетвердо. Решила педагогиня поставить ее на место. Придиралась к произношению, не соответствовавшему министерскому стандарту, ведь по инструкции Наркомпроса от какого-то лохматого года советские дети должны были произносить «the table» и «the window» как «зе тейбл» и «зе виндов», а Настя, введенная в заблуждение обучавшей ее носительницей языка, эмигрировавшей в Союз английской коммунисткой Летицией Гарлинг, произносила первое слово через межзубный звук, а второе — через гладко переливавшееся во рту «уиндоу», да еще упорствовала в своем заблуждении, чем роняла авторитет учительницы в глазах учеников, отчего-то больше веривших Насте, а не педагогине, которой, между прочим, давно прочили «заслуженную учительницу РСФСР» и которую это вожделенное звание миновало вовсе не потому, что нет заслуг, а потому, что ей нужно было для статуса иметь учеников, победивших на профильных олимпиадах, а где было взять этих учеников, разве только в Англии…
Учительница все ставила Настю на место и никак не могла поставить, все глушила ее всезнайство несправедливыми тройками и никак не могла заглушить. Между тем Настины родители не обращали внимания на дочкины трояки, в подоплеке дела прозревая учительскую несправедливость. Но вскоре грянула межрайонная олимпиада, на которую надо было послать лучших учеников, а посылать, в сущности, некого было, кроме Плотниковой, но Плотникову учительница послать никак не могла из-за тех самых принципиальных троек и того самого «зе виндов».
При этом школа не могла вообще никого из учеников не отправлять на олимпиаду, потому что она считалась английской и участие в олимпиаде являлось для нее вопросом престижа. Итак, невозможность и нежелание схлестнулись в незримой схватке, задрожали небеса, посыпалась штукатурка, завучиха страшно закричала в учительской, англичанка сильно хлопнула дверью, так, что звякнуло оконное стекло, после чего невозможность стала возможностью, а нежелание ушло на мнимый больничный, позволивший учительнице сохранить ее педагогическое целомудрие. Плотникова отправилась на олимпиаду, где завоевала для школы что-то призовое, страшно почетное, отчего школа стала еще более знаменитой и специальной, а директриса потребовала в гороно внеочередного ремонта и лингафонного, какого и в Москве поискать, кабинета. И все дали: и ремонт, и кабинет…
А что же Настя? Настя вовсе не загордилась своим успехом. Кажется, она больше всех радовалась, когда учительница, наконец, вышла с больничного и вновь принялась за свои стыдливые «зе тейбл» и «зе виндов». Настя больше других сочувствовала бедной англичанке и, желая той лишь самого лучшего, рьяно взялась ей помогать в трудностях лингвистических словопрений. Она тактично, подсказывающим полушепотом напоминала педагогине о недопустимости «зе тейблов», исправляла ее речевые несуразности, сообщала ей идиоматические выражения, почерпнутые от африканских англоязычных ребят, с коими девочка общалась летом в Артеке. Казалось, скоро она будет задавать англичанке домашнее задание и с показной строгостью спрашивать у нее таблицу неправильных глаголов.
А когда учительнице, наконец, присвоили «заслуженного», Настя хлопала ей громче всех и даже вручила (с подачи родителей) роскошный букет хрестоматийных хризантем, лохматых, как болоночьи головы. Но куда потом подевалась англичанка, совершенно неясно… Сгинула, исчезла, провалилась под землю от стыда и позора. Говорили, будто ее пригласили работать в районо, где не требовалось никаких «зе тейблов» и куда власть Настиных родителей, слава богу, не распространялась. Впрочем, и в районо англичанка задержалась ненадолго — переехала в другой город, потом в третий, в десятый — только бы подальше от Насти, от синего, совершенно чистого, совершенно прозрачного взора, в котором ищи хоть всю жизнь, не найдешь ни кривдинки, ни лжинки, только одну прямоту, одну честность, одну принципиальность — до самого дна, всю жизнь, всегда.
«Великодушие, — скажет Настя однажды во время съемок программы, подводя разговор к очередному телевизионному сюжету, — это бесценное качество личности… Именно великодушием можно завоевать друзей и сразить врагов. Например, героиня нашей истории добилась счастья только благодаря своему душевному благородству… Будьте великодушны, друзья мои, к ближним и дальним, к своим врагам и друзьям. И тогда вам покорится весь мир!»
Как он покорился Насте.
Глава 2
Отгремели школьные романы, когда все наружу, на разрыв аорты — такая любовь, а через неделю — другая, потом — вновь, еще лучше и еще сильнее… Отзвучали поцелуйчики под школьной нецветущей сиренью с обломанными ветками, отзвонили телефонные звонки с молчаливым дыханием в трубке в ответ на вопросительное нянюшкино «алло».
Когда Насте исполнилось пятнадцать, посовещавшись с музыкальными педагогами, сулившими девочке блестящее артистическое будущее (их уверенность зиждилась на том пиетете, который они питали перед родителями Плотниковой, принимая этот самый пиетет за свою педагогическую убежденность), а также основываясь на заверениях давнего гастролера, смутно толковавшего о ЦМШ, и на имени лысого, не ко времени почившего в бозе старичка педагога, который ставил девочке руку и, кажется, таки поставил ее, потому что по специальности Настя неизменно получала пятерки, хотя и обходилась без многочасовых занятий, обязательных для успешного пианиста, Наталья Ильинична решила: Настя пойдет в музыкальное училище. Закончив его в девятнадцать лет, дочка направит свои стопы в консерваторию, ведь к тому времени Андрея Дмитриевича, уж конечно, переведут в столицу, пусть не в министерство, а в главк или на какой-нибудь столичный завод, где необходимы дельные руководители, хотя бы и на вторых ролях. Или назначат поближе к столице, например в Калинин или в Рязань, пусть даже в Тулу, тем более что Тула нам подходит по машиностроительному профилю…
И тогда все будет хорошо. Девочка выучится в консерватории, потом устроится в «Москбнцерт», потом начнет сольную карьеру, включающую в себя гастрольные поездки за рубеж, и суточные в валюте, и отоваривание в «Березке», и удачный брак с каким-нибудь подающим надежды скрипачом с хорошей родословной и тоже, кстати, выездным…
Однако Андрей Дмитриевич внезапно воспротивился музыкальным амбициям супруги.
— Насте лучше бы закончить десятый класс, а потом пойти в институт, — возразил он жене, с которой, впрочем, редко спорил по вопросам воспитания дочери. — Лет через десять девочка сделает производственную или райкомовскую карьеру, а там, глядишь, можно будет пристроить ее во Внешторг…
Дело в том, что Андрей Дмитриевич не очень-то доверял скользкой артистической дорожке. Производственная, четко регламентированная карьера казалась ему куда более прочным и скорым направлением жизненного успеха. Возможно, он сумел бы настоять на своем, если бы Настя была не девочкой, а мальчиком, но Настя мальчиком, увы, не была. Наталья Ильинична лишь смерила мужа испепеляющим взглядом — примерно таким она взирала на доярок, мухлевавших с надоями и не всегда протиравших вымя перед дойкой… Участь девочки была решена.
Причина для хлесткого взгляда у Натальи Ильиничны имелась, и даже не одна: Андрей Дмитриевич был виноват перед супругой, и виноват во многом, даже крупно виноват — и в своем непереводе в министерство виноват, и в неудавшейся карьере жены тоже виноват, а особенно виноват он был в своей несостоявшейся интрижке с секретаршей. Эта недавно принятая на работу мадемуазель безусловной молодости и условной красоты часто задерживалась на работе, просила подвезти ее домой, зазывала патрона на кофеек, предлагала чаю, кофе и прогуляться под дождем без зонта… Она носила кофточки с глубоким вырезом, глядела на Андрея Дмитриевича овечьим, заочно все позволявшим взглядом, и лишь предусмотрительность директорской супруги, не понаслышке знавшей о производственных романах и однажды даже пострадавшей от одного такого адюльтера, отчего ее из «Международного обзора» сбагрили в «Час производственника», помешала произойти предопределенному и свершиться предназначенному.
Когда Андрея Дмитриевича в очередной раз вызвали в столичное министерство, его заместитель Николай Баранов (чье имя еще не раз появится на страницах этой истории), не то чтобы хороший друг Натальи Ильиничны, но человек во многом обязанный ее супругу, ловко спровадил прелестницу в ОТК на повышенную должность и повышенный же оклад, мотивировав перевод производственной необходимостью и сокращением штатов в управлении. Любовная история была задушена в зародыше.
А Настя поступила в музыкальное училище, легко и непринужденно преодолев вступительный конкурс, — сделала первый шаг из домашней уютной теплички во взрослую многотрудную жизнь.
Смена школьной среды обитания на среду творчески-музыкальную неожиданно сильно сказалась на ней. И хотя она по-прежнему числилась в талантливых красавицах, но ее блеск на фоне других доморощенных гениев казался уже не столь ослепительным. В училище она тоже ходила в примах, но в музыкальном сообществе внешняя красота числится куда ниже исполнительского таланта и вовсе не служит ему адекватной заменой, а даже как будто умаляет ценность его и его очевидную безусловность. Ведь, согласно общему мнению, талант должен быть внешне уродлив, поскольку несправедливо, когда одному человеку достается все — и красота, и способности, а другому — ничего, фига с дрыгой. Поэтому, исходя из принципа глобальной справедливости, блага в человечьей массе должны распределяться по закону, по которому уроду достается гениальность и вечное одиночество, а красавице — бездарность и перспективный в смысле международной карьеры муж.
«Наша звездочка», — с придыханием говорили о Насте в школе. «Наша красавица», — говорили о ней в музыкальном училище, однако уже без всякого придыхания, хотя и с уважением, незыблемость которого обуславливал высокий пост отца и материны связи в творческих кругах.
Между тем Наталья Ильинична, воспользовавшись одной умелой комбинацией, одним умело заваренным производственным романом (со знаменитым в городе журналистом Захаром Шумским, который, кстати, сыграет не последнюю роль в нашем повествовании), внезапно перебралась в кресло директора городского телевидения. Теперь с этого места, по перестроечным временам ставшего важнейшим в городе, она грозила сильным мира сего, мнимо отделенная от них телеэкраном, однако на самом деле прочно слившаяся с ними — и морально, и материально, точно сиамский близнец, насмерть прикипевший в утробе к своему единородному брату.
Итак, Настя училась музыке — не слишком прилежно и не слишком охотно. Пианино сотрясалось от бурных пассажей, нянюшка млела, восторгаясь музыкальными умениями воспитомки, мама растерянно бледнела при мысли о будущем, потому что некогда совершенно определенная карьера дочери теперь терялась в туманной неопределенности.
Музыкально-педагогическое поприще казалось ей теперь ужасно ограниченным. Ну что светило Насте после окончания училища? Прозябание в районной музыкалке (слава богу, по родительским связям хоть в городе, а не в деревне), бездарные ученики, путавшиеся пальцами в клавишах, бесконечные гаммы с утра до вечера, от которых сводит скулы, грязные, размазанные, как каша по клавиатуре, аккорды, во втором классе — «Сурок», в третьем — «К Элизе», в четвертом — тот самый сакраментальный «Полонез» Огиньского, в пятом — виртуозный, но пустой Черни. И так изо дня в день — «Сурок», «К Элизе», «Полонез», Черни, редко — кастрированный отрывок из «Лунной», по желанию — немножко Грига для гурманов и Шумана для шалунов.
В силу небезусловности исполнительского таланта, блеска которого надо было достигать не татарскими набегами, а многочасовыми упражнениями, исполнительская карьера Насти оказалась под вопросом. Под большим, кучерявым вопросом с жирной точкой внизу!
Вероятно, Наталье Ильиничне удалось бы, воспользовавшись своей связью с могучим Захаром Шумским, протолкнуть дочурку в оркестр местной филармонии, однако этот жизненный путь представлялся ей чем дальше, тем сомнительнее. В самом деле, зарубежных гастролей у местной филармонии кот наплакал, оркестранты все больше по области шастают, по сельским домам культуры, выступают для доярок и зоотехников, которые вдыхают кислород, а выдыхают перегар, да все на сквозняках и часто без отопления, да к тому же ночевки в домах колхозника, на серых сырых простынях, к тому же торопливые, на пару суток (по длительности гастролей), внутриоркестровые романы между тромбоном и первой скрипкой, между валторной и контрабасом, под концертным роялем или на нем, в зависимости отличных пристрастий и личной развращенности. И это с Настенькиной-то красотой, совершенно небывалой, совершенно столичной, обложечной, экранной, эталонной?! С ее-то тонкостью, взлелеянной тепличной домашней атмосферой, где ни грубого слова, ни грубой мысли, а самым сильным ругательством оказывалась брошенная песику фраза: «Рекс, фу!»
Что еще… Аккомпанирование безголосой солистке, чей репертуар состоит из партийно-номенклатурной лирики и дешевой цыганщины? Или музицирование в ресторане со звуковым сопровождением в виде самовзрывающегося шампанского?
Андрей Дмитриевич тяжело вздыхал, думая о дочери, которая между тем никакими планами для себя не задавалась, а жила просто и весело, как бог на душу положит. А Наталья Ильинична зорко оглядывала подвластные ей владения в поисках подходящего пристанища для Насти.
Создать разве на городском телевидении вечернюю передачу типа «Музыкального киоска», чтобы дочка стала ее ведущей… Ох, не поймут! Сейчас как раз кампания в прессе против своячничества — времена-то нынче вон какие смутные, только оступись, а упасть добрые люди помогут, одно слово — восемьдесят седьмой год… Кроме того, у знакомого председателя райисполкома любовница — директор филармонии, а именно этот самый «райисполком» под соусом совместной работы помог Наталье Ильиничне занять руководящее кресло, и, буде такая передача зародится в недрах городской студии, «филармония» непременно насядет на «райисполком», чтобы тот надавил на «телевидение», то есть на саму Наталью Ильиничну, в плане продвижения этой «филармонии» на экран.
Можно, конечно, обернуться так, чтоб и вашим и нашим: пожилая «филармония» станет гранд-дамой передачи, а Настя — ее юной помощницей, уродство и красота, старость и младость, разность совершенно противоположных потенциалов… Но не такая уж дура эта «филармония» (Наталья Ильинична ее хорошо знала по кое-каким совместным делам), чтобы решиться на такой невыгодный для себя контраст!
Эх, хорошо бы Настеньку в «Международный обзор» пропихнуть, пусть иностранной культурой позаведует, это сейчас актуально, но ведь нельзя в «международку» без языка, хотя язык на самом деле есть, а вот корочки насчет его нет, да только разве можно ее, родную кровиночку, в политическую передачу отдавать, когда и подозрительная перестройка уже объявлена, и ускорение не за горами…
Пока родители судили да рядили, определяя судьбу дочери, загадывая на будущее, перетряхивая прошлое, сожалея о своих ограниченных областными пределами возможностях, бесполезных на столичных бескрайних перспективах, Настя решила свою судьбу сама.
Она вышла замуж.
Нет, вовсе не главной потребностью в Настиной жизни была любовь. И нельзя сказать, что она дышать не могла без этого чувства, что не мыслила своего существования без взаимной привязанности и что вся ее судьба — точно бусы на нитке, узловые средоточия которых обозначают влюбленности, любовишки, любови и любовищи. Наоборот, она являлась идеальным объектом влюбленности, но отнюдь не ее субъектом — ибо таковой подразумевает под собой изрядную толику самопожертвования, а Настя жертвовать не умела, брать — да, жертвовать — нет. Слишком много ее было для одного человека, слишком щедро для одного, по-царски, с перехлестом, с наплывом, с мениском, не удержать, чтобы не пролить, не остановить, чтобы не сбежала, как закипевшее молоко. Не приручить.
Зато в ней обнаружился природный дар снисходительно принимать пылавшие сердца, не вручая никому своего собственного органа взамен. Казалось, она была создана для того, чтобы за ней ухаживали, дарили ей цветы, жертвовали для нее семьей и фамильной честью, стрелялись из-за нее, уходили на войну, принимали постриг и отдавали жизнь без остатка. И если изредка она одаривала своих поклонников случайным снисхождением, то это не значило у нее ни любви, ни нелюбви: случайная прихоть самовластной царицы, простодушно принимающей сердечное чувство за куртуазный прием для уменьшения придворной скуки и увеличения придворной рождаемости.
В ее коротенькой девичьей жизни было не так уж мало мужчин, беззаветно влюбленных в нее: и тот мальчик во дворе, показавший ей место, где живут червяки, и бойкий детсадовец с асоциальным будущим, посвятивший ее в таинство пола, и робко лепечущие слова дружбы одноклассники, и моложавые сослуживцы отца, смутно, с безотчетной тоской взиравшие на абсолютно недоступную, не предназначенную им отроковицу, и телевизионные мальчики на побегушках, между двумя сигаретами отваживавшиеся на опытный, слюнообильный поцелуй, и один гений-тромбонист с зеленоватыми от духовой меди зубами, победитель международного конкурса, и преподаватель истории из училища, настаивавший на приеме зачета у приболевшей Насти в своей личной квартире, но, когда она по простоте душевной отважилась прийти к нему, не только не посягнувший на ее целомудрие, но даже и на порог ее не пустивший, отделавшись просунутой в дверную щель зачеткой… И наконец, самый главный, самый постоянный поклонник: Сережа Баранов, сын папиного заместителя дяди Коли Баранова, рыхлый губастый сверстник — одно слово, Бараненок, друг детства, смешной и никогда не принимаемый всерьез.
Илюша Курицын, по странному стечению обстоятельств оказавшийся мужем Насти, совершенно не походил на ее остальных ухажеров. Это был двадцатипятилетний балбес, равномерно деливший свое свободное время между рок-музыкой и дружескими попойками. В то переломное время в моду вошло все альтернативное, а Илюша был альтернативен, как никто из Настиных знакомых: гитара, песни со смутным смыслом, прокуренные комнаты музыкальной общаги, дешевое плодовое вино с уксусным привкусом… Его родители обитали в районном центре — что-то вполне среднее, не престижное, не то ветеринары по вызову, не то бухгалтеры по назначению.
Илюша пел песни с важными, значительными словами, а Насте было скучно в женской устоявшейся компании — она почему-то все томилась в последнее время, все чего-то ждала. Недавно ей стукнуло восемнадцать, жизнь практически прожита — и что? И ничего! Будущего нет, в прошлом вспомнить нечего, дома скукота, нянюшка трындит про честь смолоду, поджидая свою воспитомку после ночных посиделок и ахая над ее прокуренными свитерами, отец на работе, московское министерство давно превратилось в призрак отца Гамлета, мать требует от нее то, чего не может дать сама, — определенности жизненного пути и твердости в достижении неведомых целей, преподаватели ставят ей пятерки за красивые глаза, к «фоно» ее совершенно не тянет, музыка осточертела, смута и брожение в голове, в телевизоре — неясные намеки, кажется, что скоро настанет новая, с иголочки жизнь, но, какой она будет и будет ли вообще, неизвестно. Старое умерло, новое еще не родилось. Смута, суета, тлен. Разбросанность.
А тут Илья Курицын смотрит на нее пронзительным взглядом, ревя прокуренным баритоном: «Мы ждем перемен»… А когда она обнимает его по-приятельски, когда целует, уколов губы о щетину, с отставленной сигаретой в руке, он отчего-то вдруг неудержимо краснеет, старается вырваться, уйти, спрятаться в раковину своей бухающей ударными музыки — скучной, абсолютно рецептурной музыки, с убогой мелодией и нескладными словами, однако ужасно созвучной этому убогому и нескладному времени. К тому же Илья такой храбрый на словах и такой робкий на деле…
И когда Настя остается у него на ночь, по-хозяйски выпроводив рок-шантрапу, разогнав ее по хатам, по ночным делянкам, по приватным норам, он притворяется пьяным, бестолковым и неумелым, так что ей приходится напустить на себя ухарский, разудалый вид — чтобы, наконец, понять, что в этом такого и зачем это нужно. Чтобы потом плакать до рассвета безмолвными слезами, уткнувшись в подушку, потому что оказывается — ничего такого и низачем не нужно. Чтобы принимать как должное жалкое мычание Илюши, извиняющееся — но зачем? Просящее прощения — но за что? И совсем это было не так, как в песне про ночку, которая темная была: и камыш не шумел, и деревья не гнулись, а вместо камыша и деревьев общежитские обыватели хохотали за стенкой над дурацкими политическими анекдотами, а потом сонно переругивались, кому выносить окурки и кто стырил семнадцать рублей, оставшиеся со стипендии, а потом, так ничего и не выяснив, заваливались спать, не осознавая убожества своего существования и нимало не обремененные им.
После той унизительной ночи Настя решилась расстаться с Курицыным раз и навсегда, но Илюша шкурой почувствовал, что подобными девушками не бросаются, это все равно что подписать себе пожизненный приговор посредственности и никчемности. Он познакомился с Натальей Ильиничной и Андреем Дмитриевичем, после чего райцентровские родители прислали молодым двести рублей на предстоявшую свадьбу и сто рублей на обручальные кольца.
Свадьба их была какой-то стыдливой, поспешной, куцей. Нет, не о таком женихе мечтали Плотниковы, лелея свою единственную кровинушку! Не такому зятю предназначались дочкины сокровища в виде английского с семи лет, фортепьяно с пяти, хорошо поставленной руки и блестящих перспектив!
— Что мне с ним делать? — беспомощно вопрошала Наталья Ильинична, обращаясь не столько к потрясенно молчавшему мужу, сколько к самой себе.
Возгоревшись родственным энтузиазмом, она пригласила зятя в передачу, где молодое дарование протренькало на гитаре что-то общеупотребительное. Приспособить гитариста к чему-нибудь практическому оказалось невозможным.
— Что мне с ним делать? — развел руками Андрей Дмитриевич и предложил зятю помощь в профессиональной ориентации, от которой гитарист неблагоразумно отказался, имея в виду свой собственный альтернативный путь.
— Что мне с ним делать? — рыдала добрая нянюшка, тоже осознавшая всю катастрофичность происходящего. Она закармливала юного мужа блинчиками с творогом, а тот прилежно уминал по двадцать восемь штук за раз, ибо только для этого он оказался гож и дюж.
— Только бы детей не случилось! — взмолилась, адресуясь к Небесам, Наталья Ильинична, а потом, не надеясь на помощь вышних сил, отвела дочку к знакомому гинекологу, обучившему юную жену азам контрацептивной премудрости, более насильственной, чем добровольной, и более запретительной, чем охранительной.
Настя заканчивала училище, однако поприще, на котором предстояло проявиться юному дарованию, еще не было окончательно определено. В раздрызге чувств Наталья Ильинична решила продлить затянувшееся ученичество дочери ее обучением в институте.
— По нынешним временам музыка — не очень надежное занятие, — заметила она здраво.
— Производство, кстати, тоже, — вздохнул Андрей Дмитриевич. — В газетах все о конверсии твердят…
— Медицина? — предложила практичная мама.
Дочка поморщилась.
— Юридический? — с надеждой вскинулся отец.
Настя негодующе надула губы.
— Журналистика, языки, востоковедение, литература, филология, педагогика, экономика?
Настя помолчала, а потом неуверенно выдавила из себя:
— Разве что языки…
Конечно, это был английский и, конечно, в институте иностранных языков…
Гитарист вроде бы одобрил инициативу жениных родителей, хотя его мнением никто и не интересовался. В кооперативные времена он, дабы прокормить себя (несмотря на статус мужней жены, родители по-прежнему одевали, питали, но уже не воспитывали Настю), организовал ларек по продаже магнитофонных кассет, где кроме песен стыдливо приторговывал и видеопорнушкой, но негласно, из-под полы, чтобы не узнали Настины предки, которые, конечно, не смогли бы смириться с такой предпринимательской инициативой, бросавшей тень на них, высокопоставленных, и, верно, осудили бы ее.
Семейная жизнь Насти продлилась полтора года. Соединенные ночной, скоропалительной прихотью, молодожены постепенно удалялись друг от друга, ничем не связанные, кроме общего быта, не чувствовавшие никакого родства, кроме родства одного и того же возраста. Они удалялись друг от друга, точно две галактики, которые, кратковременно сблизившись, разбредаются потом по дальним углам вселенной, чтобы больше не встретиться вновь.
«Зачем?» — думала Настя и не могла ответить на свой вопрос. Зачем она подарила ему себя? Но дело было в том, что вовсе не подарила, а только дала потрогать, вкусить, попробовать. В душевном плане она вообще не умела дарить, умея только принимать, а Илье тоже дарить было нечего, не такой уж он богатый был человек, серединка на половинку.
Юные супруги часто ссорились чуть не до драки, вечерами пропадали в разных компаниях, на их съемной хате было слишком пусто и холодно, чтобы обитать там вдвоем, и кровать их была слишком огромной, чтобы спать на ней вдвоем, а не вповалку хипповой компанией. И потому хипповые компании — то его, то ее, то вообще ничьи, — точно средневековая татарва — совершали набеги на неуютный семейный приют, и порой под эгидой «цветочной» философии то он обнимался с кем-то на прокуренной кухне, то она позволяла кому-то больше, чем следовало позволить.
После таких вечеринок они ссорились все чаще и громче, хотя не ревность была исходным поводом для их разногласий, а их личная внутренняя разность, их разнополюсность, их разногласность.
Настя жаловалась на мужа подруге Лидке — обидными, тайно рассчитанными на его слух словами, а Илья специально напаивал эту Лидку, чтобы, когда та дойдет до состояния нестояния, мазохистски выслушать ее пьяные откровения, потом взбелениться, рассвирепеть, поссориться с женой — чтобы уже через час, спрятав голову в ее коленях, плакать о чем-то, обещать что-то, просить за что-то прощения. А потом опять, и снова, и вновь — то же самое, раз за разом, регулярно…
Вскоре эта самая Лидка, разглядев мнимую бесхозность Ильи и за чистую монету приняв Настины откровения насчет ее патологического отвращения к супругу, стала поддакивать подруге, стала подливать масла в огонь, стала прилежно докладывать, с кем он, и когда, и кто видел, и на чьих глазах это произошло, и как это произошло: бесстыже и откровенно, как только не стыдно… А сама не только глядела с Ильей порнушку по видику — свеженькую, только что вылупившуюся из буржуинии, совершенно запрещенную, волшебно откровенную, — но и спешила применить на практике почерпнутые из экранной действительности знания. Хотя она не должна была этого делать, потому что Илья — муж лучшей подруги, но ведь Настя столько раз твердила Лидке, что Курицын ей не нужен, что она его ненавидит, хоть бы он сдох и все такое…
А в тот вечер Настя вместо того, чтобы воспользоваться предлогом для освобождения от ненавистного супостата, почему-то застыла в дверях бледная и спокойная, такая жутко бледная и до ужаса спокойная, что даже страшно было — но не вообще страшно было, а именно за нее.
Потом молча развернулась и ушла.
Избавившись от бестолкового зятя, семья вздохнула с облегчением.
— Милая доченька, главное для тебя — это определиться в жизни, — нравоучительно пела мама, опасаясь, что дочка вдруг из огня да в полымя, от гитариста к переводчику с зулусского, от безродного пройдохи к родовитому пропойце, тому самому, который явно ухаживал за студенткой и, соединенный по работе с
Натальей Ильиничной какими-то непонятными, не слишком чистыми делами, пел директрисе о своем млении перед ее дочуркой и, кажется, был не прочь породниться с Плотниковыми, в компенсацию предоставив матери Насти кое-какие услуги абсолютно политического свойства.
Настя — а это была уже не та Настя, что раньше, это была опытная женщина, познавшая горечь семейной жизни и соль раннего разочарования, — теперь понимала, что на одной красоте далеко не уедешь. Нужно еще что-то иметь за душой, кроме смазливого личика. Взять хоть Илью — она ему отдала все, а он принял это «все» как должное, но потом избавился от него за ненадобностью. И вместо того, чтобы обожать свою жену и лелеять ее, вместо того, чтобы срываться по первому ее слову и надрываться по второму, он закрутил роман с подружкой — на глазах у своей супруги и назло ей. А ведь кто он? Ноль без палочки! Сын ветеринара и бухгалтерши! Неудачливый гитарист, мутно бубнящий под трехаккордный стандартный перебор!
А вот она… она… она…
Усилием воли Настя давила навернувшиеся слезы. Приблизившись к зеркалу, она искренне удивлялась, разглядывая свое прелестное отражение. Как он мог отказаться от всего этого? От этих миндалевидных глаз, тлеющих ровным сапфировым светом, от накусанных до алости губ, от каштанового облака, тяжелым шелком окутавшего плечи? От улыбки, двух соблазнительных запятых в углах припухшего рта?
А поди ж ты, отказался! Не стал бороться за свою любовь, выбрал легкий путь — перекинулся на Лидку, неравноценную, суррогатную замену своей жене, а та, дурочка, небось рада была по уши, когда до нее снизошли: как же, ее, патентованную дурнушку с плохими зубами, предпочли сиятельной Насте!
Лидка потом, правда, прибегала каяться. Рыдала, закрыв лицо ладонями, причитала, глотая собиравшиеся над губой слезы. Твердила: «Он сам, он первый, я только… Настя, прости!»
А сама небось рада была нежданному реваншу, своей нечаянной женской победе!
Настя не стала ей мстить, хотя могла бы, конечно… Были такие фотографии, которыми подружки баловались по молодости, во время самостоятельной жизни в общаге, куда Настя забегала отдохнуть от образцового регламента своей семьи, поиграть немного в плохую девчонку. Тогда, помнится, раздобыв фотоаппарат, они, намеренно попирая приличия, стали фотографировать друг дружку в фривольных позах, а потом даже скинули с себя кое-какую одежку, конечно главного не показывая, но намекая на это главное совсем прямо и однозначно. А потом, рассматривая эти фотографии, прыскали смущенно, разглядывали в подробностях себя и своих товарок — сравнивая, оценивая, прикидывая… Лидка была из них самой раскованной — чего ей было терять, этой долговязой дурнушке? Если брать нечем, надо брать голым телом — так однажды сказала мама по поводу некой заморской певички, выступавшей на сцене практически топлес. Вот и Лидка старалась вовсю…
Внешне девушки оставались лучшими подругами. Причем, несмотря на предательство Лидки, Настя оказалась гораздо лучшей подругой: давала той поносить свою одежду и свои любимые туфли на шпильке, прикрывала ее на зачетах и экзаменах, когда только могла прикрыть. Она давила подругу своим благородством, а та, встречаясь с Настей днем, а с Ильей видясь вечерами, все худела, и дурнела, и шла вразнос, и часто была под хмельком, и (трепали в их компании разное) спала не только с Ильей, но и с кем попало тоже спала. Однако когда Лидку заглазно ругали прошмандовкой и балаболкой, Настя неизменно вступалась за нее, хвалила ее, оправдывала и обеляла.
И даже на их с Ильей свадьбе, то есть на свадьбе Лидки и Ильи, к которой Настя планомерно вела своего бывшего мужа и свою бывшую подругу, она была не официальной, но настоящей свидетельницей их свершившегося счастья, кричала «горько», осыпала молодых пшеницей, танцевала до упаду, так что никто не мог подумать, что между ними что-то не так. хоть на ноту, хоть на миллиметр. Потом) что у Насти ничего не могло быть не так. не по-честному. некрасиво. Обывательски.
И в свадебном угаре никто не заметил, откуда выпали те самые фотографии — плохие любительские снимки, ноздреватые, мутные, однако доступные для узнавания и опознания… Пьяные ребята смаковали, сравнивая невесту с ее бумажным, лишенным шелухи свадебного платья изображением, перемигивались, хихикали, отзывали жениха, предлагали ему выпить, по-свойски хлопали Илью по плечу, а невесту — ниже талии, непонятно, кто им это позволил… Понятно: не кто, а что — фотографии позволили, на которых Лидка, не пряча лица и смеясь в камеру, показывала все, чем была богата, а богата она была не так чтобы очень, скорее бедна, и разудало изгибалась, и призывно манила зрителя пальчиком, делала все-все-все, что ее просил невидимый фотограф, точнее, фотографша (если, конечно, существует такое слово), и чего не просил — тоже делала, и даже больше…
И как в том случае с классным журналом, когда у всех ребят вдруг появились высокие оценки и только у одного человека оценка оставалась прежней, на фотографиях фигурировала не только Лидка, но и вся их компания фигурировала тоже, и только одного человека на них не было, всего одного. Впрочем, компания эта была другая, не школьная, никто того случая с классным журналом не знал, никто не придал ему значения, кроме самой невесты, которая рыдала в туалете, размазывая дрянную тушь по щекам, а потом ссорилась с женихом на крыльце кафе, а потом отправилась в туфлях со сломанным каблуком домой, в рваной фате и мятом платье, но до дому почему-то не дошла, обнаружили ее только через неделю в лесу безо всего, даже без признаков жизни, а что с ней случилось да почему — никому не известно. И никто не думал над этой историей, да и думать над ней было некому, родители Лидки давно умерли, а новобрачный муж ее был совершенно не в счет.
Да и какой он ей, в сущности, был муж…
Глава 3
Именно институт иностранных языков, престижное учебное заведение (по нынешним, склонным к международному общению временам престижное особенно), дал Насте то направление в жизни, которое до сих пор не могло дать ни интровертированное музыкальное образование, ни тепличная семейная атмосфера, где даже сантехник в растоптанных сапогах, пахнущий табачно-беломорски, казался вестником чужого, интересного мира — мира, где не знают ни стыда, ни Сартра, где не жнут и не ждут, однозначного плоскостного мира, опасного своей простотой и одновременно ужасно притягательного.
А может быть, не в вузе было дело, ведь кто были Настины сокурсники — дети местной партэлиты, золотая молодежь, по перестроечным временам скупо разбавленная незолотыми и небронзовыми, а пуще того, железными отпрысками инженерной интеллигенции, раньше не смевшими и на порог ИИЯ ступить, а теперь учившимися здесь — и не на птичьих правах, а на основании мифической справедливости, коя, казалось, будет достигнута после развала коммунистического монстра.
Однако ж студенты знали: по окончании института всем сестрам будет по серьгам, «золотые» и «бронзовые» пойдут в торговые фирмы, в совместные предприятия, которые без них, без англоязыких и франкофонных, теперь и шагу ступить не смогут, а «железные» — учителями в школы, в лучшем случае станут репетиторами. Об этом не говорилось вслух, но сами «железные» все еще испытывали самонадеянные надежды, на которые так щедры молодость и смутное время.
Андрей Дмитриевич тоже не обнародовал свои планы насчет дочери, но между тем аварийное местечко, запасной аэродром, уже тайно готовил для нее, строил, обустраивал. При его деятельном участии постепенно организовалось одно сладенькое, совместное с западными фирмачами предприятие, отдававшее конверсией и разоружением, где требовалась англоязычность, и связи, и непротивление горкома, и добродетельное содействие завода, — и все эти черты удачно сочетались в милом лице дочери, и все это сулило блестящие перспективы и прибыли, не говоря уже о заграничных поездках в прекрасное далеко. Однако Настя, прослышав, что по роду деятельности ей придется не то клепать унитазы, не то изготавливать корзины для белья, с негодованием отказалась от сладкого местечка. Из-за ее глупой несговорчивости предприятие пришлось тихо аннулировать, прикрываясь государственной тайной и невзирая на недовольство горкома, который тоже хотел иметь свою долю в деле и в итоге лишился ее.
А девушка между тем дневала и ночевала в матушкином суматошном заведеньице — на телевидении, — привлеченная перспективностью такого творческого времяпрепровождения. Когда-нибудь, сладостно мечтала девушка, в один прекрасный день кое-кто, не будем говорить, кто именно, в перерыве между двумя гитарными воплями, взглянет на экран — и увидит на нем ту, которую он так заслуженно потерял, и поймет, наконец, кого именно он потерял, на кого он ее променял. И тогда жизнь его лишится смысла, и он будет мучиться каждый раз, завидев на голубом экране ее сияющую улыбку, жаль только, что он редко смотрит «ящик», ну да ничего, когда-нибудь да увидит, ведь сейчас и рок-концерты показывают, и «ждем перемен» тоже крутят, сейчас все это есть.
А однажды этот «ждем перемен» приедет в их город с гастролями… Кстати, можно будет не ждать милостей от природы, а самой попросить отца, чтобы тот пригласил певца, то есть чтобы завод пригласил и деньги заплатил. И вот, когда гастролер приедет в их город, ее пошлют взять у него интервью. А он, этот волосатый, с плоским лицом, кстати, ей абсолютно не нравятся националы, не он сам ей нужен, а его ласкающий влюбленный взгляд, который покажет камера во время интервью, а оно конечно же обязательно состоится, потому что кого, кроме Насти, посылать на интервью, не ту же грымзу, которая читает новости, и, уж конечно, не того педераста, который красит губы перед каждым эфиром, гораздо ярче и крупнее, чем это нужно, чем даже рекомендует ему гример, его тайный любовник…
Она упросит маму поручить ей это интервью. Ведь у Насти уже имеется какой-никакой телевизионный опыт, она не раз появлялась на экране. Например, когда открывали то самое конверсионное предприятие, Настя произносила перед камерой речь, которую написала сама, мама только немного поправила текст. Тогда приехали американцы, и вдруг оказалось, что с ними никто разговаривать не умеет, никто не понимает их мятой, как будто жеваной речи, их неряшливого английского, только она одна понимает — наловчилась, фильмы непереведенные по видику глядючи, Илье за это спасибо. Знал бы он, что собственными руками приготовил Настенькин языковой триумф, наверное, удавился бы или закрыл свою торговую лавочку навеки!
Во время съемки она улыбалась в камеру широко, шире, чем положено, чем принято, чем прилично, но так по-американски улыбалась, а камера ласкала ее своим нежным взглядом, и все говорили, что оператор в нее влюблен. Только враки все это, ведь он старик, ему тридцать лет, у него жена и дети, ну и пусть влюблен… Она увидела себя в вечернем эфире и ужасно понравилась самой себе. И остальным тоже понравилась.
— Слишком бурно жестикулировала, — осуждающе заметила мама во время монтажа. — Как мельница! Надо быть сдержаннее в жестах, каждое движение в кадре должно быть точно рассчитано. А то, знаешь ли, от тебя в глазах рябит…
— Ну, мама! — возмутилась Настя, тогда еще не доверявшая профессиональным знаниям Натальи Ильиничны. — Я ведь не с эскимосами разговаривала, а с американцами… У них так принято!
— Зато у нас не принято, — возразила Наталья Ильинична, которой интуиция порой заменяла внятные аргументы. — Мы ведь не на Оклахому вещаем, милая! Если широко улыбаться, ворона в рот влетит…
Настя, фыркнув, обиделась. Только через много лет она поймет, как права была мать, и то, что хорошо для MTV, для его подростковой разудалости и разнузданности, абсолютно не годится для официальных новостей. Но в тот момент девушка только пробормотала что-то о ретроградности отжившего поколения, которое шкурой впитало советскую зашоренность поведения, жестов и мыслей и эту зашоренность считает теперь нормой жизни.
Ей вообще казалось, на студии ей завидуют, строят козни, подсиживают. Взять хотя бы гримершу, которая вечно накладывает ей слишком тусклый тон, желая, очевидно, чтобы Настя, залитая мертвящим телевизионным светом, выглядела в кадре покойницей.
— Ярковато, — морщилась гримерша, рассматривая домашний макияж Насти, сотворенный при помощи совершенно потрясающих тайваньских теней: семь цветов только на одних веках, весь спектр красок, плавно, с любительской виртуозностью, с павлиньей пестротой переходящих друг в друга.
Завидует, решила девушка и отказалась от услуг недоброжелательницы. А если на них все же настаивала мама, неизменно правила старания гримерши своей властной рукой.
Тем более, что у Насти имелся справедливый оценщик ее усилий — это его величество зритель…
— Вчера видели тебя по телику, — хором восхищались институтские подруги, — хорошенькая, ужас!
Подругам вторили и нянюшка, и отец, и многочисленные воздыхатели, количество которых росло сумасшедшими темпами, однако, вопреки основному закону философии, все не переходило в качество…
Однако общие дифирамбы вдруг обесценили две студийные обывательницы, чей разговор Настя случайно подслушала, когда во время починки сбоившей техники неприкаянно слонялась по студийным коридорам, твердя липнущий к зубам текст.
— Вечно в кадр лезет. Выскочка!
— Как будто о ней передачу снимают…
— А то не о ней!.. О ней и для нее. Маменькина дочка, что ты хочешь!
— Я-то ничего не хочу… Красится во все цвета радуги, аж в глазах темно… А этот кирпичный румянец! Как будто ее по скуле звезданули!
— Слушай, ты же гримерша, вот и подскажи ей, посоветуй!
— Скажешь ей, как же! Она ведь у нас все знает лучше всех, сразу спорить начнет… Пусть выглядит дура дурой, мне-то что!
Настя нетвердым шагом проскользнула в туалет, еле сдерживая слезы. Неужели она действительно так ужасно выглядит? И ведь никто, никто не откроет ей правды! Ни одна сволочь! Все будут только улыбаться и отпускать дежурные комплименты, которые она, глупышка, раньше принимала за чистую монету.
Склонившись над раковиной, девушка умылась, чтобы поскорей избавиться от краски, которую все утро, слой за слоем прилежно накладывала на лицо.
А потом заявила матери, что отвратительно себя чувствует, надо бы отложить запись передачи. Наталья Ильинична разахалась, режиссер надулся, оператор выругался, герой передачи разнервничался, опасаясь, что съемки отменят навсегда и что канула в Лету его надежда на скорую телевизионную славу.
Настя уехала домой. Целые сутки она провалялась на диване с мокрым полотенцем на лбу, уверяя родителей, что чем-то отравилась, и отказываясь от нянюшкиной оздоровительной стряпни. Перебирала в уме свои обиды, в том числе и обиду на конкурировавшую с ней студентку филфака, которая двух слов по-английски связать не умела, зато по-русски щебетала гладко, импровизировала перед камерой свободно и раскованно. Филологичку приберегали для прямых эфиров, и даже Наталья Ильинична ценила эту девушку, Лену Поречную, которая, кроме своего папы, директора горторга, обладала еще и некой самостоятельной ценностью в виде всех вышеперечисленных качеств и свойств.
Наталья Ильинична бесспорно отдавала ей должное и даже порой колебалась, кого ставить в эфир — родную ли дочку, которая часто терялась перед камерой, лишаясь органичности и телегеничности, цедила сквозь зубы заученные фразы, не могла блеснуть импровизацией, а только светила смазливым личиком — однообразно и ровно, красиво, но бесчувственно, — или ставить в эфир горторговскую Лену, такую живую и естественную, обладавшую нежно-пастельной русской красотой и гладенькой речью, без всяких прилежащих «э», «значит» и «м-м-м», которыми Настя часто грешила в неистребимом смущении.
А Настя ревниво думала, что Лена Поречная могла бы просветить ее насчет грима, объяснив по дружбе, что при такой природно яркой внешности, как у нее, с макияжем перебарщивать опасно. Однако противная филологичка не удосужилась помочь приятельнице — конечно, намеренно, преследуя свои тайные цели. Какие? Известно какие!
Дело в том, что буквально на днях в их город должны были прибыть телевизионные волонтеры из Западной Европы. Западники искали свежее лицо, не испорченное столичной захватанностью и шаблонностью. Лицо это требовалось им для съемки передач о среднерусских городах. Привлекательными казались даже не столько огромные европейские гонорары, сколько предполагавшаяся поездка за рубеж, — ведь по замыслу иностранных продюсеров каждому русскому городу противопоставлялось небольшое европейское поселение.
Таким образом, съемки обещали превратиться в захватывающий вояж, после которого, имея в загашнике совместную с западниками работу, можно было — даже и должно! — замахнуться на что-то большее… Про столицу теперь даже и не мечталось… Фи, Москва! Провинция, задворки Европы, большая деревня… Про Питер тоже не вспоминайте, не стану брать… А вот стажировка в телеакадемии в Париже, приглашение на французский ТФ-1 со всеми прелестями и достоинствами зарубежного житья-бытья, райского, небывалого, прелестного…
Настя считала себя достойной кандидаткой на роль ведущей — ведь и иностранный язык (даже два иностранных) у нее беглый, и в кадре она хороша, да и вообще, кто, как не она, заслуживает подобного успеха! Ведь еще с детства, с самого рождения, она достойна была всего самого лучшего, и без всякого конкурса…
Наконец-то стала понятна причина коварного молчания Поречной, которая конечно же тоже метила на Запад, обращая Настины ошибки в собственные достоинства, а ее неудачи — в свой личный триумф. Верно, филологичка тоже мечтала о Европе и грезила о ТФ-1…
Да только как она посмела, эта горторговская выскочка! С такими-то ушами! С таким вздернутым, почти свинюшечьим носом! С жалкими сосульками вместо волос, которые в кадре смотрятся уныло, если только их не вздыбить до небес тоннами фиксирующего лака!
Однако, думала девушка, еще не поздно все исправить, можно еще сделать шаг назад, то есть на самом деле вперед… Тем более, что мама, конечно, поможет, и Ленке не видать Европы как своих собственных ушей — оттопыренных мартышечьи-круглых ушей, которые она напрасно маскирует жидкими осветленными прядками…
А когда Плотникова победит — вполне заслуженно, честно, без протекции, на одних очевидных достоинствах, она, конечно, примирительно протянет Поречной дружескую ладонь. Скажет:
— Мне очень жаль, что не ты победила. Ты ведь достойнее меня, честно… Хочешь, я откажусь?
Конечно, та скажет, что отказываться не надо, просто не может она другое сказать, а потом примется расстроенно хлюпать носом, утирая навернувшиеся слезы. А Настя примется гладить ее по спине, утешая, как лучшая подруга:
— Ну что ты, Лена… Не надо… Говорят, скоро американцы приедут, и тогда ты сможешь…
Но Лена будет плакать — безутешно и безостановочно, потому что, конечно, поймет, несмотря на Настины успокоительные слова, что такой шанс в жизни случается только раз, один раз — а больше никогда, никогда, никогда!
Провалявшись в постели до вечера, Настя решила, что пора бы ей выздороветь. Надо срочно подготовить достойный материал для европейских волонтеров. Мама, конечно, на просмотре покажет лучшие из ее лучших сюжетов, на то она и мама. Однако на маму надейся, как говорится, а сама не плошай…
Настя даже составила план, как помириться с гримершей, какими словами и под каким предлогом: сначала расстроенно сообщить ей, будто собака сожрала всю ее домашнюю косметику и потому воленс-неволенс приходится отдаться ей на милость, потом снисходительно одобрить ее работу, а потом ввести гримировку в обычай, в привычку, потом уже требовать ее, как причитающегося по праву и безусловно необходимого…
Однако случилось Непоправимое. Мама, вернувшись с работы, вдруг объявила, чернея лицом, что западники, просмотрев несколько кассет, выбрали Поречную.
Ахнув, Настя упала животом на кровать, стараясь рыдать не слишком громко.
Оказалось, волонтеры прибыли раньше, чем их ждали. В текущей работе девушек смотреть не стали — а ведь именно на это рассчитывала Настя. Иностранные халявщики вполглаза, бегло просмотрев архив, решили, что Поречная им по всем статьям подходит. И как Настина мама ни подсовывала им дочкины репортажные работы, как ни рекламировала свое дитё, тайно радуясь, что у них разные фамилии и потому семейный протекционизм, очевидный для местных обывателей, останется за семью печатями для неразвращенных европейцев, однако все ее усилия оказались напрасными.
Западники объяснили, что Поречная, искусственная блондинка, лопоухая и курносая, — это олицетворение всего того русского, что жаждет видеть на экране западный зритель. А каштановая Настя, которая, несомненно, достойна самого лучшего, что есть на земле, — она вовсе не олицетворение всего русского, слишком уж походит на француженку, и хотя даже лучше любой француженки, но все равно не подходит. Не то.
Настя была уверена: сыграл свою роль домашний макияж, благодаря которому она выглядела раскрашенной восточной султаншей или гурией из портового кабака. Частично в этом была ее вина — матери не слушалась, гримершу ни во что не ставила, но в основном, по мысли обидчивой девушки, в ее провале виновата была Лена Поречная, которая теперь небось тихо радовалась поражению соперницы. И вот эта лиса патрикеевна нынче едет покорять Европу, а Настя остается дома — со своим языком, со своей красотой, со своей мамой!
Как ни утешала дочку Наталья Ильинична, как ни называл ее самой лучшей отец, но родители были изначально необъективны, и Настя им не то чтобы не верила, — нет, она верила, однако из этой веры следовало сознание абсолютной несправедливости происшедшего, а Настя всегда горой стояла за справедливость. По крайней мере, в отношении себя самой.
Прорыдав всю ночь, утром она сумела взять себя в руки.
Она появилась на студии как ни в чем не бывало. Как и остальные телевизионщики, Настя пожимала сопернице счастливую руку и фотографировалась с ней на прощание. Нисколько не фальшивым, а очень даже искренне восторженным голосом она умоляла Поречную не посрамить честь родного города, требовала писать и по возможности присылать отснятые материалы. И вообще, была так рада, рада, рада…
А упоенная триумфом дура Поречная, лопоухая простушка из горторга, принимала за чистую монету все восторги и все поздравления. Она по-девичьи ласкалась к Насте, лепетала срывающимся, абсолютно счастливым голосом что-то совершенно невозможное:
— А, Настя, если бы мы с тобой вдвоем победили, вот было бы здорово!
Или даже совершенно глупое:
— Я попрошу Герберта (продюсера, который занимался отбором), он тебя тоже куда-нибудь пригласит!
Настя отнекивалась, улыбчиво уверяя триумфаторшу, что она недостойна, ведь она часто теряется во время прямых включений, а Поречная, упоенная внезапной вседозволенностью, с легкостью подтверждала:
— Да, вечно ты мычишь и мнешься… А надо, как будто нет никакой камеры, как будто только одна ты существуешь — и никого больше. Ты — и твое отражение в зеркале… И потом, Настя, не хочу тебя обидеть, но ты всегда красишься так ярко… Я бы никогда не стала… Впрочем, это все пустяки! Настя, ты — лучше всех! Я тебя обожаю. Прелесть!
Настя ее обожала тоже… И поэтому она сказала, что отъезд надо отпраздновать, иначе пути не будет. Сначала решили праздновать узкой компанией, одна молодежь, конечно, без начальства, просто завалиться к кому-нибудь домой, устроить проводы, но начальство (мелкое) прознало про предстоящий сабантуй и тоже восхотело присоединиться к провожавшим.
— Мама, мы поедем на трех машинах! — сообщила Настя, напряженно всхохатывая высоким от всеобщего веселья смехом, стараясь не выбиваться из общего тона происходящего.
Мама не возражала против ночного загула, но и не приветствовала его.
— Когда нагуляешься, позвони, пришлю за тобой шофера… — сказала она.
А компания, рассевшись по машинам, помчалась домой к виновнице торжества, где был горторговский папа, который сначала напоил всех на радостях водкой, а потом предложил закатиться в ресторан, ему лично знакомый.
Закатились на трех машинах, гуляли всю ночь, пили все подряд. Поречная, звезда вечера, пила если не больше всех, то громче всех, обещала всем показать Европу, танцевала цыганочку с выходом, кричала, что Герберт — душка, прелесть, а на пьяные расспросы «Признайся, ты ему дала, ну, дала?» хохотала, что он голубой, голубей голубого неба, да, она дала бы ему, да только он взять не сможет. И горторговский папа тоже хохотал, но без всякого восторга, и Настя, которая про себя думала ненавистно: «Конечно дала, только вот когда и как умудрилась, непонятно…», тоже растягивала губы вынужденным смехом.
Потом били посуду — на счастье (горторговский папа все обещал оплатить), пили на брудершафт и просто пили, танцевали до упаду, до пота, до дрожи в ногах. А Настя, соскучившись, захотела домой, но откалываться было неудобно, хотя пора.
Наконец, под утро, когда даже самые стойкие гуляки скисли, она позвонила домой, чтобы за ней прислали шофера, ехать-то было всего минут пять, пешком не больше двадцати. Машина прибыла, она стала прощаться, но ее не отпускали, заставляя пить на посошок. Настя нехотя мочила губы в вине, ей осточертела эта гулянка и эти гуляки, а особенно — Поречная, противная пьяная Поречная, королева вечера, прима их провинциальной помойки, неожиданно выбившаяся одним местом в люди и теперь в угаре своего успеха требовавшая, чтобы все — все до одного! — ехали с ней купаться на реку.
Пока Настя прощалась на ступенях ресторана, бледная и совершенно трезвая, сонный шофер, нервничая, курил за рулем, а Поречная уговаривала ее ехать на реку, крича, что сама поведет машину, она однажды уже водила, а потом полезла на переднее сиденье на колени кому-то и целовалась в темноте салона с кем-то, пока не видел горторговский папа, который тем временем расплачивался в ресторане за выпитое и съеденное.
Насте удалось вырваться под предлогом завтрашнего зачета (время было на излете летней сессии). Она отправилась домой, уставшая и внутренне примирившаяся со своим неуспехом и с Поречной…
Впрочем, она почти не удивилась, когда на следующее утро похоронным — но не с перепоя, а от происшедшего — голосом ей вдруг сообщили, что машина с гуляками свалилась с обрыва, Поречная в больнице вся переломанная, кто-то погиб, кажется кто-то из звуковой группы. Что Европа, конечно, накрылась, Герберт, который уже в Москве, теперь рвет и мечет от бешенства.
Не удивилась, потому что путь справедливости порой извилист, не прям, однако приход ее неизбежен, как неизбежен. закат после долгого дня, хотя и не столь предсказуем.
Настя искренне посочувствовала бедняжке, готовясь заменить Поречную, которая во всем виновата была сама, никто ее не принуждал садиться за руль, наоборот, все останавливали, образумливали — все, кроме нее, усталой, сонной, измотанной переживаниями. А то, что не остановили, не ее вина, совсем не ее…
Она даже навестила несчастную в палате, где с жалостливым удовольствием оглядела ее неряшливо выбритую (для наложения швов) голову, лопоухо круглившуюся на подушке, и рассеченный вертикальным шрамом запекшийся рот. Принесенные с воли апельсины раскатились по одеялу солнечными шариками, но не обрадовали больную, которая из-за выбитых зубов ела плохо и мало.
Впрочем, иностранный проект, прервавшись в самом начале, больше не возобновился. Лена Поречная полгода провалялась в больнице, умываясь слезами и проклиная свою невезучесть. На белый свет она выползла, прихрамывая, только зимой. К тому времени на студии ей уже подобрали замену, хрупкую девочку кукольного вида, ковырявшую слова медленно, врастяжку, но, впрочем, достаточно милую и звезд с неба не хватавшую.
Наталья Ильинична, сочувственно охая, сообщила бедняжке Поречной, что, как только она понадобится, ее сразу позовут, осведомилась о здоровье, опять поохала, спросила про горторговского папу, сказала: «Ну, передавай привет!», после чего навсегда рассталась со своей бывшей подопечной. И не потому, чтобы она ревновала девушку к ее внезапному успеху или была обижена за неуспех дочери, просто… Просто время ушло, на студию пришли другие люди, новые лица, эти новые лица и другие люди принесли с собой новое время, все старое и лежалое теперь в него не пропихнешь.
Просто, если уж ты поймал синюю птицу, — изо всех сил держи ее пышный хвост, чтобы не вырвалась. Потому что синяя птица не возвращается к тем, кто однажды ее упустил. И это — справедливо.
«Каждому из нас хоть раз в жизни выпадает уникальный шанс, скажет Настя через несколько лет, сочиняя подводку к новому телевизионному сюжету. — Упустив его, мы кусаем локти, сетуя на свою нерасторопность. Героиня нашей следующей истории поняла: синяя птица не возвращается к тем, кто однажды ее проворонил. Американцы по этому поводу говорят: случай выбирает подготовленные головы…»
Ее голова была наилучшим образом подготовлена для успеха.
И в итоге успех пришел к ней…
Глава 4
И вот грянула перестройка!' Телевидение, освободившись от партийного стреноживания, вырвалось на свободу, жадной губой хватая пьяный воздух политического раздолья. Прежние хозяева жизни сгинули, новые еще не успели набрать вес и жир. Казалось, нынче каждый человек владелец и творец своего счастья, каждый должен максимально использовать свой потенциал. И каждый старался, как мог…
Наталью Ильиничну внезапно полюбили многие денежные люди, надеясь через нее протащить в эфир кусочек самой откровенной «джинсы».
«Джинсой» на телевидении называются заказные материалы в виде репортажей, деньги за которые поступают прямиком в карман тележурналиста (или в карман его патрона). Так как прямая реклама кооперативного товара в перестроечные времена выглядела весьма убого, да и расценки на нее были не по зубам самостроковым кооператорам, вот и старались дельцы по советской привычке добиться телеангажемента с заднего крыльца, по блату, по знакомству, приплачивая от щедрот своих тому, кто ненавязчиво расхваливал их товар.
Первым из таких «джинсовиков» оказался давний приятель Андрея Дмитриевича. Он не в службу, а в дружбу попросил Наталью Ильиничну о скромной услуге — всего-то сказать пару фраз в вечерних новостях о великолепном качестве «варенок», которые шьет отважный кооператор, будущее новой России… Наталья Ильинична не в службу, а в дружбу выполнила просьбу. Предприниматель остался доволен, презентовав благодетельнице тюк своего товара. Директриса подарок приняла, оторопело округлив удивленные глаза, а потом долго звонила по знакомым и незнакомым, пристраивая штаны за полцены.
Далее последовала очередь некоего свиновода из периферийного района, потом один ресторатор присосался к ней, как клещ, — дай его в эфир, и все тут… В итоге шофер Плотниковых съездил в район к свиноводу, вернувшись доверху нагруженный свининой, а ресторатор за услугу рассчитался званым ужином. Пришлось всем семейством посетить его «тошниловку» — не по желанию, а по служебной необходимости, так сказать.
Вскоре, оглохнув от просьб торговцев, владельцев казино, крупных предпринимателей, проходимцев и пройдох всех мастей, Наталья Ильинична отказалась от натуральной формы оплаты — бартером, натурой, услугами или же просто хорошим отношением — и перешла к цивилизованной форме платежей — пусть черным, но «налом», пусть мимо телевизионной кассы, зато в свой карман.
И если на официальную рекламу, которую смотрели мало и неохотно, более в удивлении перед новой формой телевещания, чем для целей информации, зритель «покупался» плохо, то на «джинсу» в новостях он шел открыто и доверчиво — как озерный карась идет на лежалого червяка, которого рыболов умело пошевеливает, дабы придать бодро-свежий вид изначально дохлому кишечнополостному индивидууму. И если средства за прямую рекламу поступали в кассу телестудии, после чего на них покупалась аппаратура, финансировались съемки, выплачивалась зарплата сотрудникам, то деньги за заказные передачи шли прямиком в карман Натальи Ильиничны, которая, правда, слегка вибрировала душою, чувствуя, что поступает не совсем хорошо, однако умело глушила всплески своей совести, /того докучливою и разорительного чувства.
Вскоре рядовые сотрудники тоже взяли пример со своей директрисы, Пионером «заказухи» стала, как ни странно. Настя, занявшаяся гнилым «джинсовым» делом вполне бескорыстно, на добрых основаниях. Один из ее музыкальных друзей попросил снять репортаж о рок-группе «Домашние гитары».
— Мы такие таланты. Но почему телевидение нас не замечает? — горячился длинноволосый парень.
«Действительно, почему?» задалась вопросом Наела после чего состряпала репортаж о прозябавших до сих пор «Гитарах», которые ее стараниями превратились чуть ли не в «Биглов» местного масштаба, в юродских гуру, лишь из за ангистоличной альтернативности не желавших менять концертную площадку областного захолустья на московский простор, масштаб, славу, лены и, наконец…
Ее усилия не пропали втуне. Вскоре музыкантов заметил ушлый продюсер, который сначала повозил ребят по району, пугая их завываниями механизаторов и доярок,
d потом отправил группу в гастрольное турне. Впереди замаячила столица…
Потом настал черед бедных художников, чью заштатную галерейку капризные меценаты, утратившие вкус к высокому искусству и более уповавшие на хлеб, чем на зрелища, обходили десятой дорогой. Болея за областные таланты. Настя сочинила текст о современных Филоновых, несущих великое искусство и массы. Надо сказать, местные живописцы были поражены, точно тайным вирусом. манией изображать зеленых теток с арбузными грудями и фиолетовыми лобками, с кулачными лупками и с вурдалачными лицами — товар, хорошо идущий на всех континентах, кроме нашей, русопятой страны, где народ, воспитанный на левитанских и шишкинских пейзажах, на ненавязчивой васнецовшине, на уютном, с березками и церквушками искусстве, единодушно отвергает зеленых голышей.
После выхода передачи новоявленные нувориши в три дня разобрали лежалых теток, за чистую монету приняв телевизионные дифирамбы. Обрадованный галерейщик примчался к своей благодетельнице с поцелуями и восторженно раскрытым бумажником. Настя, поначалу стыдливо отказавшись от денег, презентованную сумму в конце концов приняла — потому что не любила финансово зависеть от родителей, а собственных средств по студенческому скудному положению ей не хватало.
Не отказавшись от «благодарности» в первый раз, неудобно было от нее отказываться и во второй… И в третий тоже, скрипнув зубами, пришлось согласиться. Вскоре «джинсовость» ее репортажей стала очевидной.
Вскипев справедливым гневом, Наталья Ильинична потребовала у дочери ответа, имея в виду приставучего галерейщика:
— Между вами что-то есть? Нет? Тогда сколько он тебе заплатил?
Узнав, во сколько обошелся ловчиле телевизионный демпинг, директриса потрясенно охнула. Выходило — мало, чудовищно мало!
— Но ведь это художники, искусство, — возразила Настя. — Они не могут платить как кооператоры…
— Почему не могут? — удивилась Наталья Ильинична. И это прозвучало как «Смогут, если захотят». — И потом, — добавила, — на телевидении существует только один директор, милая, и этот директор — я…
— Но, мама! — возмутилась Настя, уже привыкшая к дополнительному источнику денежных поступлений.
Договорились, что Настя станет отправлять своих «джинсовиков» к матери, у которой к тому времени сложились твердые расценки, а та станет выплачивать ей процент от заказа. На том и порешили… Таким образом у Насти появилась своя копейка, а мама поддерживала ценообразование, регулируя наплыв клиентуры и контролируя рынок.
Однако через месяц-другой история повторилась вновь, правда, уже не с Настей, которая смирилась с правилами игры хотя бы в силу их родительской непререкаемости, а с ее коллегой, В репортаже корреспондент так распинался о великолепном заводе по производству чего-то чугунного, что через шелуху преувеличенных славословий явственно проглядывали уши самой что ни на есть обыкновенной «джинсы».
Наталья Ильинична поняла: если не принять экстренных мер, ее телевизионная власть скоро рухнет. Вызвав корреспондента пред свои ясные очи, директриса задала ему парочку откровенных вопросов. Но юноша держался спокойно и нагло, от факта получения денег открещивался, твердил, что снял репортаж только потому, что завод уж больно хороший…
Провинившегося журналиста Наталья Ильинична с треском выставила вон — чтоб другим неповадно было.
Затем, связавшись с директором завода, воркующим голоском попросила впредь подобные вопросы решать только через нее, потому что именно она, в конце концов, директор и, если что, она ведь может и чистую правду поведать… И не всем эта правда придется по вкусу, ой не всем!
Директор сразу все понял. И покорился, вытянув руки по швам. А журналиста-бунтовщика месяц спустя приняли обратно — своих врагов Наталья Ильинична предпочитала кормить из собственных рук.
Студийная жизнь постепенно наладилась. Кто платил за «джинсу», тот ее имел по установленной таксе. Никаких скидок Наталья Ильинична никому не делала, даже своему мужу, кстати (его завод тоже что-то рекламировал, какие-то конверсионные дуршлаги, какие-то убогие соковыжималки, ломавшиеся по три раза на дню). И это было справедливо.
На вопросы подруг о личной жизни (впрочем, на самом деле вопросов таких не было, потому что личная жизнь — ее же видно, как ни скрывай, все равно наружу вылезет) Настя отшучивалась, что ждет принца и ищет рыцаря, но по нашему скудному времени принцы и рыцари в переводе, поэтому она предпочитает господ состоявшихся, а не безродную студенческую шантрапу, язык наперевес в поисках хлеба.
И состоятельный господин состоявшихся капиталов уже имелся на примете — молодой перспективный губернатор, мальчишка, выскочка, парвеню! Подозрительный по семитству, но прозрачный по родословной, ставший губернатором одним махом, наглым наскоком, почти случайно… Надо сказать, в начале девяностых только такое и возможно было — невозможное, небывалое, отчаянное!
Когда Настя брала у губернатора интервью (кому, как не ей, поручить сие достойное дело, ведь и папа ее с властью якшается по экономическим проблемам своего завода, и мама финансирование для своей студии выбивает), Земцев четко чеканил слова, растягивал фразы, полные глубокомыслия и свобододумия, сияя в прицеле телекамеры фанатическим светом крупно-выпуклых глаз, чей блеск вызывался не столько экономическими перспективами области, сколько (так казалось всем присутствующим) прелестью юной интервьюерши.
— Что ваша команда делает для пенсионеров? — с полуулыбкой, давно уже сменившей прежнюю разудалую ухмылку, вопрошала Настя, а губернатор, очарованный светом обольстительных глаз, обещал сделать для пенсионеров все, что только сможет.
— А для многодетных матерей? — не отступала корреспондентка.
И многодетных матерей, если верить обещаниям, властитель скоро должен был осчастливить своей щедрой, но не щепетильной рукой.
Опасливо вспоминая скоропалительный, слава богу, быстро закончившийся брак дочери, Наталья Ильинична вовсе не возражала против дружбы Настеньки с губернатором — более, впрочем, формальной и официальной, чем сердечной и тайной. Превращению приятельства в любовную привязанность, чреватую глупостями и поспешными шагами, мешала, кажется, лишь Губернаторова жена, невыразительная блеклая особа, по простоте своей вовсе не стремившаяся воспользоваться положением супруга для своих целей.
Губернаторша в областные дела не лезла, тихо воспитывала двоих детей, на внебрачные похождения мужа смотрела сквозь пальцы и, уж конечно, не стала бы помехой для приятного и продуктивного адюльтера, в результате которого Наталья Ильинична, наконец, получила бы финансирование для своей студии, закупив современную аппаратуру вместо того полусдохшего дерьма, которое стояло еще с семидесятых годов, а Андрей Дмитриевич договорился бы об организации совместного с немцами предприятия, директором которого в обмен на многие приятные перспективы — налоговые и прочие, происходившие из патронажа этого предприятия областной властью, — поставили бы, к примеру, супругу Земцева…
Поэтому нельзя сказать, что именно противодействие Настиных родителей или козни Губернаторовой жены были причиной того, что громкий роман, казалось предназначенный к свершению самими Небесами, так и не состоялся. Настя и Земцев лишь протяжно улыбались друг другу в эфире, изредка встречались вне студии — например, на открытии новой котельной или на закрытии очередного завода, время от времени ужинали в кафе своих общих знакомых и на пару с ними, их уже кое в чем подозревали, известно в чем, — но абсолютно, кстати, безосновательно и голословно. Появляясь в кадре, они олицетворяли собой две власти, земную и практически небесную, то есть эфирную. Они выглядели прекрасной парой, они и были бы прекрасной парой, если бы не… Если бы между ними не было многих, многих, многих препятственных «не»!
Если бы Настя не считала такую связь скандальной для себя, хоть и престижной.
Если бы губернаторов не назначали временно, на четыре года.
Если бы у Земцева не было жены.
Если бы у Насти не было первого отрезвительного брака.
Если бы не родители, перед которыми ей было бы стыдно.
Если бы не город, в котором его знали абсолютно все. а ее — почти все.
Если бы не невозможность абсолютной анонимности.
Если бы не его дети.
Если бы не его мнимая бедность и реальная честность, которая конечно же не позволит ему тратить на нее столько, сколько она заслуживает.
Если бы она его любила, если бы он ее любил.
Если бы их связь не была обречена на неизбежный конец.
Если бы после этого конца не было так позорно — для нее. в первую очередь.
Если бы эта связь не нуждалась в физическом воплощении. совершенно избыточном и тягостном для Насти, естественном и приятном для ее кавалера, о котором он только и мечтал и которого он только и добивался — как все они. в смысле мужчины, всегда.
Если бы на все ее личные успехи и достижения не стали бы говорить, что они добыты не ее личными достоинствами. а одним, неудобосказуемым местом.
Если бы…
Еще много было всяких «если» и «не»…
Тем временем
недоброжелатели неустанно подмечали явные взгляды и тайные вздохи знаменитой в местном масштабе парочки. И даже мысленно выстраивали комбинации. исходя из того, как будет развиваться их роман — по официальному, скандально-разводному пути или по неофициальной, подпольно-скрытной, адюльтерной дорожке.
Между тем губернатор Земцев был многим обязан Наталье Ильиничне. Свою политическую карьеру он начал еще в конце восьмидесятых, безусым студентом, когда возле города начади строить атомную электростанцию. Велось строительство ни шатко ни валко, а к началу девяностых оно и вовсе застопорилось: после Чернобыля народ, объявив войну партийной АЭС. стал глухо роптать против грозившего ядерными неприятностями объекта. То и дело возле бетонно-белых кубиков, разбросанных по изумрудной пойме реки, кучерявились стихийные митинги и взвихривались организованные собрания. О ту пору Земпев числился комсомольским лидером института, полому по велению долга, по движению сердца ему приходилось в этих митингах участвовать и даже время от времени их возглавлять.
Писались какие-то протестные письма, произносились какие-то гневные речи… Митинги подробно освещались местным телевидением, и с подачи Натальи Ильиничны словоохотливый Земпев часто возникал на экране, ловко тасуя правильные фразы, — телегеничный, молодой и вообще душка!
Потом, когда новоизбранному президенту понадобилось назначить на губернаторство лояльного себе человека, в администрации стали перебирать местные кандидатуры. Тут-то и всплыла фамилия Земцева… Вспомнили, что человек он явно демократического толка, после института работал на производстве, почти руководил и даже чем-то отличился, в какой-то спартакиаде, что ли, — и оп-ля! — назначили молодого производственника губернатором, надеясь, что тот будет верен новой власти, потому что всем обязан ей.
Так и вышло. Благодарный Земцев в меру сил и по мере средств строил демократию — не так, как понимал ее из мимоходом прочитанного Маркса и законспектированного с чужих слов Ленина, а вообще без всяких основоположников, по собственному разумению, ведомый случайными обстоятельствами и направляемый случайными людьми…
Таким образом, Наталья Ильинична, можно сказать, собственноручно способствовала политическому успеху своего нынешнего покровителя. Она и теперь кое-чем помогала ему, а Земцев тоже не оставался перед ней в долгу, периодически направляя к своей благодетельнице банкиров, предпринимателей и мелких политиков на выданье. И эти люди платили ей совсем уже другие, совсем не «джинсовые» деньги за ту же самую «джинсу»…
С этих денег директриса отстегивала гонорары рядовым исполнителям своих приказов, чтобы те тоже старались и способствовали, покупала новые «бетакамы», новые монтажные столы, новое японское, с иголочки, оборудование, делала роскошный ремонт на студии, выплачивала премии и так далее…
С ней считались в верхах, ее боялись в низах. Ее власть в городе была абсолютной.
Глава 5
Настало, наконец, время познакомить читателя с Николаем Барановым, многолетним заместителем и другом Андрея Дмитриевича.
Николай Федотович близко сошелся с Плотниковым в конце шестидесятых, когда их, молодых специалистов, отправили на перспективную стройку, абсолютно необходимую государству, но трудно реализуемую по той скудости отпущенных средств, при которой специалистов было — кот наплакал, а фондов и того меньше. В тандеме Плотников-Баранов Николай Федотович, более осторожный и более раздумчивый, стал ведомым, а Андрей Дмитриевич, любивший рубить сплеча, ясное дело, оказался ведущим. Впрочем, соратники были довольны таким распределением ролей: Плотникову было удобно ощущать рядом плечо друга, а Баранову было приятно отсиживаться за надежной спиной товарища. И там, где Плотников недорабатывал, там за него дорабатывал Баранов. Если Плотников оступался, то Баранов поднимал приятеля, если первый из них шел на рожон, то второй этот «рожон» прикрывал с флангов.
Из такой взаимной тактики однозначно следовала и заместительская должность Баранова, и его следование по карьерной лестнице вслед за товарищем — гуськом, шаг в шаг, ступня в ступню. И когда Плотников стал начальником производственного участка, Баранов стал на этом участке мастером, и, когда Плотникова назначили директором завода, Баранов естественным образом оказался его заместителем. Однако после этого поступательное движение Николая Федотовича по карьерной лестнице застопорилось.
Директор и его верный заместитель дружили семьями. Объединившись в одну родственно-производственную компанию, они часто отдыхали в заводском санатории, и дачные участки у них были рядом, и чаи они гоняли вместе томными июльскими вечерами Как приятно было за общим столом вспоминать забавные случаи и происшествия, некогда бывшие в их совместной жизни, — те мелкие подробности частного и служебного бытования, которые, собственно, и составляют саму жизнь, кропотливо нарастая друг на друге лень за днем, минута за минутой. Они вместе праздновали дни рождения, делали друг другу некрупные, но пенные
подарки, и хотя Наталья Ильинична порой ворчала, мол, заладили эти Барановы глупые хрустальные вазы каждый юл дарить, но отнюдь не сердилась на них, А вазы между тем хаотично толпились в серванте, посверкивая огнистыми боками, так и не познав цветов из-за своей многочисленности и, вероятно, тайно мечтая о них.
У Николая Баранова и его жены Веры имелся один-единственный ребенок, сын Сергей, Настин друг детства. Однако для девочки это был вовсе не любимый друг, тот, что понимает тебя с полуслова, которому скажи «а», он подхватит «бе», а друг вынужденный, которою нужно было терпеть, целому что нетерпение Насти было бы осуждено родителями, как с одной, так и с другой стороны. Малолетняя дружба вовсе не переросла в юношескую
сердечную дружбу, как то, очевидно, планировали Барановы…
Да и не могло быть никаких чувств между Настей и этим толстым Сережей… Ну разве можно влюбиться в человека, про которого
помнишь, как он, сопли на кулак намотав, ревел белугой, когда Настя двинула его ногой в живот, переоценивая амортизирующее действие брюшного жира. И вообще он был ни рыба ни мясо, ни мужчина, ни человек, а всего лишь сын дяди Коли Баранова, Бараненок, как тайно звали его у Плотниковых с дружеской, чуть насмешливой теплотой.
Поскольку Андрей Дмитриевич метил в министерское кресло. Баранов, прекрасно осведомленный о столичных амбициях своего шефа, считал пост директора завода уже как бы своим, мысленно примериваясь к персональной «Волге». к продбазе. к шестому распределительному складу. которыми его семья пользовалась в высшей степени умеренно, только благодаря снисходительности Андрея Дмитриевича, а не по праву, как хотелось бы. И служебной машины у Баранова не было (по должности не полагалось). пробавлялся он обыкновенными «Жигулями», и за границей бывал всего-то раза три — выпускали его с трудом, неохотно, только на пару с Андреем Дмитриевичем. как будто не обнаруживая в нем необходимой для зарубежной поездки советской надежности. И не Мопассана ему предлагали в подписных изданиях, а отечественного Салтыкова-Щедрина — как будто с тайным намеком предлагали, с подспудным презрением, с подвохом.
Между тем Андрей Дмитриевич слишком задержался в директорском кресле, рождая у своего заместителя сначала легкое, а потом все более тяжелившее сердце недовольство. Впрочем, в глаза Баранов ничего такого не говорил, однако регулярно справлялся у патрона, что слышно в министерстве и слышно ли что вообще… Андрей Дмитриевич давно уже решил для себя, что. когда его назначат министром. то заместителем своим, одним из трех заместителей, он обязательно поставит своего верного друга Колю, и потому отнюдь не отказывался делиться с ним сокровенными надеждами и утопическими планами, которые, к сожалению Баранова, так и остались надеждами и планами.
В начале девяностых, когда первобытный капитализм преобразил не только саму жизнь, но и то. что питало эту жизнь, — сердца людей, когда дружба сделалась враждой, сыновняя любовь — дочерней ненавистью, Баранов наконец осознал, что жизнь его практически завершилась, а он так ничего и не достиг: и жена-то у него осталась без норковой шубы, ходит в мрачно-вдовьей каракульче. и сын-то у него балбес, с тройки на тройку в машиностроительном институте перебивается, да и сам он втуне тратит нерастраченные силы на мелкую ежедневную суетню. И это при том, что вызрели в душе его силы общероссийского, ультрагосударственного масштаба! Однако, как и тридцать лет назад, он все еще прозябает от зарплаты до зарплаты, и заводских акций при приватизации ему ничтожно мало досталось, и вообще обидно, и в частности… Ох, обидно!
Постепенно понял дядя Коля Баранов, что в эти смутные непредсказуемые времена Андрей Дмитриевич совершенно не нужен нынешнему министерству, а значит, ему лично, кроме вечного заместительства, ничего не светит. И обиделся он от этого и на судьбу, и на своего патрона, ни в чем, впрочем, не повинного, потому что Плотников всегда пестовал своего заместителя, и выплачивал ему премии, и даже бестолкового сына его, Сережу Бараненка, по связям своим пристроил сначала в райисполком, а потом, когда тот самоликвидировался, в областную администрацию на непыльную должность, не требовавшую от юноши особых умственных усилий, а требовавшую только исполнительности и не дававшую ему за это ничего, кроме необходимого для пропитания денежного минимума.
А еще обиделся Баранов, что на предприятие по производству ширпотреба, которое некогда было организовано для директорской дочурки, его сына не взяли — мол, какой из парня директор, курам на смех! — а пропихнули туда сначала внучатого племянника Натальи Ильиничны, а когда тот проворовался, вообще аннулировали заводик, невзирая на протесты Баранова и на его клятвенные обещания спасти дело. Оскорбившись, Николай Федотович прекратил зазывать Плотниковых на семейные праздники и дни рождения, да и сам перестал захаживать в гости по-соседски. Вскоре он продал дачу, а на вырученные деньги купил подержанную иномарку, которая ломалась чаще, чем ездила, и даже во время простоев ломалась из-за своего вредоносного характера.
Но своей душевной чистоте Андреи Дмитриевич не знал, чему приписан» такое охлаждение. Потом отыскал умозрительную причину (болезнь супруги Баранова) и успокоился. И в свою очередь, тоже, перестал приглашать заместителя на семейные праздники.
А когда Настя засветилась на телевидении, как звездочка, и высоко взлетела в эфире, как ласточка, Баранов вдруг опять принялся навешать патрона. Причем не один навешал, а с супругой и с сыном, дылдой Сереженькой… Пока старшее поколение растабарывало в гостиной, молодые принудительно-недобровольно уединялись в одной из комнат, — Баранов надеялся на неизбежные плоды этого молодежного уединения, на естественное следствие полового разнополюсного влечения, предвидя в браке с юной Плотниковой очень приятные перспективы для сына. По его мысли, молодая жена, опираясь на родительские связи и пользуясь своим телевизионным положением, сумеет сделать для рохли Сережи практически невозможное — поднять его вверх по карьерной лестнице, тем самым обезопасив недотепу Бараненка от грядущих государственных перемен.
Однако Настя, ничего не знавшая о матримониальных замыслах Баранова-старшего и с трудом выносившая друга детства, вдруг опрокинула честолюбивые замыслы дяди Коли, замутив демонстративный роман с губернатором. Причем даже и Баранов-старший признавал, что его Сереженька, долговязый и рыхлый, по всем очкам, особенно по тем, которые на носу, проигрывает красавцу губернатору. хотя Земцев, по его мнению, был наглый враль и вор, прожектер и подонок!
Обиженный, но все еще пылавший дружеским доброжелательством, Баранов решил открыть Андрею Дмитриевичу глаза на двусмысленное поведение дочери — у всех на виду, бесстыдно рассиживает на трибуне под бухающий рокот духового оркестра и при этом так ослепительно улыбается своему любовнику, что в глазах темнеет!
— У всех на виду! — констатировал Баранов соболезнующим полушепотом. — Андрей, разве ж можно… Какая слава для девочки, за всю жизнь потом не отмоется…
Андрей Дмитриевич растерянно разводил руками на замечание доброхота. Дочь его стала ужасно взрослой, и влияние отца на нее теперь казалось безусловно ограниченным и безгранично условным.
Улучив удобный момент, Баранов просветил и Наталью Ильиничну, сохранившую, по его наблюдениям, влияние на Настю. Но та не поняла намека и даже тонко, как она умела это делать (например, что двадцать третья хрустальная ваза — это перебор), намекнула, что это не его собачье дело, что ее дочь невинна как ангел, что между ней и Земцевым ничего нет, кроме служебных отношений и весьма условной, эпизодической и абсолютно невинной помощи со стороны девушки в иностранном языке, в котором губернатор слаб из-за недостатка языковой практики.
— Ну, теперь-то у Земцева недостатка в языковой практике не будет, — с намекающей пошлинкой заметил дядя Коля, отступая по всем фронтам. Ему оставалось только злиться, наблюдая за ходом не подчиненных его воле событий.
Между тем с помощью губернатора, хорошо понимавшего значение четвертой власти и пятой колонны, Наталья Ильинична постепенно обновила оборудование городской студии. Заодно она освежила гардероб, сменив демократичную нутрию на утонченную норку, и завела персонального водителя, который, по слухам, кроме шоферских услуг выполнял еще и обязанности ее персонального любовника. (О, злые языки! О, завистливые сердца!)
Настя теперь считалась единственной примой на местном телевидении: Поречная давно была забыта, как дурной сон, а другие ведущие, скупо и скудно мелькавшие в новостях, Плотниковой и в подметки не годились.
Больше, кажется, не о чем было мечтать, нечего было желать. Выше головы в провинции не прыгнешь, а в Москве и не таких видали…
Ну, признаться, ездила Настя в Останкино на кастинг ведущих… Тайно ездила, чтобы ни одна собака не прознала об истинной цели ее путешествия, чтобы никто не обсмеял ее в случае неудачи, не насладился ее провалом. Между тем кто, как не она, достоин столичной участи! Во-первых, у нее опыт, во-вторых, внешность, в-третьих… В-третьих была мама, но мама в Москве не «играла». Маминого влияния хватило лишь на то, чтобы про объявленный кастинг прознать, записать на него свою дочь, заручиться содействием члена жюри, удачливого беглеца из родного болотца, который к тому времени обосновался в столице (речь о Шумском — но не о знаменитом урологе, а о его родном брате, который сыграет не последнюю роль в нашем повествовании).
Но, увы… Что может сделать один-единственный член, когда у других конкурсанток все жюри подкуплено! По дороге домой Настя глотала обиженные слезы, а мама ее задумчиво играла бровью, не зная, что теперь насчет дочери предпринять: то ли отобрать губернатора у его жены и выдать за него Настю, поставив на столичных амбициях дочери жирный крест, то ли дальше бороться за ее карьеру. Да только с кем бороться? С самой собой? И где? В родном городе уже все побеждены, а в столицах, увы и ах, бороться не получается.
Итак, ничего путного из Настиной поездки не вышло. О ее позоре никто не дознался — и то ладно. Правда, если бы проведали о нем доброхоты, все равно не поверили бы, — потому что по городу вовсю циркулировали слухи о том, что в столицу Настя ездила не просто так, а делать аборт от своего сиятельного поклонника. Слухи унизительные, гнусные, несправедливые!
Ладно, если б между Настей и Земцевым было что-то, так ведь нет! Не было ничего, кроме пары свиданий при свидетелях, нескольких птичьих, клацающих «инговыми» глаголами разговорчиков, кроме просьбы Земцева помочь ему с английским, без которого он как без рук, и ответного смеха Насти, означающего отказ, и ее ехидной усмешки — мол, как медведя ни учи, танцора из него все равно не выйдет!
Знали бы Плотниковы, что источник слухов, шедших, кстати, из администрации области, — это небезызвестный Бараненок, сын дяди Коли, который все ходил к Плотниковым с женой, все гонял чаи, все рассказывал про свою ломкую иномарку и про неудобосказуемую болезнь своей супруги, что-то там с пищеварением и газообразованием…
Итак, роман, свершившийся в устах всего города, но не в действительности, то мнимо возгорался, когда Настя оправлялась с губернаторской командой в деловую поездку по области, то затихал, когда слухи о том, что Земцева собираются посадить как проворовавшегося бессребреника, вновь обретали очевидную несомненность.
Однажды Настя с губернатором засиделись за полночь в небольшом кафе под гитарный перебор приглашенных музыкантов. Народу за столиками было мало. Парочка самозабвенно болтала, перескакивая с беглого русского на тугой профилактический английский, смеялась чему-то — кажется, Земцев рассказывал про какого-то балбеса из администрации области, которому, что ни поручи, все провалит. «Бараненок!» — с улыбкой узнавания восклицала Настя, громко прыская.
Потом, засобиравшись домой, музыканты начали складывать инструменты. Им помогал один длинноволосый, странно знакомый Насте человек. Почувствовав на своей щеке пытливый взгляд, девушка небрежно покосилась в его сторону… А тот длинноволосый, небритый, в тертой кожаной куртке, не настаивая на узнавании, поспешил скрыться… Это был ее первый муж, Илья.
Тем временем Земцев жаловался своей собеседнице на жизнь — мол, Москва местную инициативу зажимает, а потом обольщал ее поездкой в одну из англоязычных колоний, а потом просил помочь ему с языком, на что Настя задорно, совершенно не боясь двусмыслия и пошлости, демонстрировала ему розовый межзубный кончик, этим не то приглашая губернатора к поцелую, не то отказывая ему во всем, даже и в языке…
Вскоре освободилось место в региональном управлении, куда надо было командировать чиновника из области, толкового и знающего, который сумел бы постоять за интересы родного города. Сразу же разгорелась подковерная борьба: многие хотели занять эту перспективную должность. Баранов считал, что его Сережа — это человек прямо-таки созданный для лакомой должности. Он вознамерился протолкнуть на нее свое дитятко. совершив возможное и невозможное, совершив отцовский подвиг, а при необходимости и должностной подлог.
Встретившись с Настей во время семейного чаепития, он шутливо назвал девушку Еленой Прекрасной, а потом вдруг попросил ее замолвить за Сережу словечко, расписав дело так, будто бы это прямая ее обязанность. Ведь все знают, что она с губернатором на короткой ноге, про иное даже не говоря… Так почему бы ей не помочь другу детства?
Но Настя, уже освоившая искусство лавировки. к которому она прибегала, чтобы отбиться от чужих интересов во имя собственного спокойствия, поинтересовалась, почему это дядя Коля возомнил, будто ей по силам мировые перестановки, если она всего лишь рядовой диктор на телевидении. Дядя Коля, не очень трезво рассмеявшись (чай был сдобрен изрядной порцией «Хеннесси», к которому Баранов в последнее время пристрастился — не по чину и не по карману), высказался в том смысле, что людям глаза не замажешь и надо пользоваться случаем, пока есть чем пользоваться…
Вынужденно улыбнувшись пьяному дяди-Колиному бреду, Настя никому не пожаловалась на него — ни родителям. ни Земцеву, однако не преминула занести обидные слова в тайный шорт-лист памяти. Через неделю в эфир вышел злобный репортаж о том. что штаты областной администрации неимоверно разлады. вокруг власти кормится множество бестолковых людей, которые только даром хлеб переводят, перебирая никчемушные бумажки и не принося пользы обществу.
Результатом журналистского выпада, о справедливости которого не стоит здесь рассуждать, стадо сокращение управленческих штатов, давно уже планируемое властью (только выборов ждали, чтобы на новый срок проскочить). И кто виноват, что именно Бараненок, как самый молодой и самый бестолковый, попал под это сокращение? Что именно его показали на всю область, с умелой дерзостью вставив в кадр? Да еще в качестве комментария картинку народного возмущения подклеили: опрашиваемые старушки верещали, яростно брызгая слюной на корреспондентку: «Здоровые лбы! Ряхи наели, да на них пахать надо, трудовые наши деньги прожирают…» И что Барененку теперь грозила если не армия, от которой его удалось отмазать по состоянию здоровья, то уж завод непременно, а ведь на заводе по нынешним временам карьеру не сделаешь.
И уж совершенно непонятно было, каким образом никчемушный бестолковый Бараненок в конце концов все же занял ту самую вожделенную должность, о которой многие грезили, как об обители всех праведных и святая всех святых. Загадка!
Но самое ужасное, что, улизнув из пределов родного города, Сережа Баранов (теперь уже Сергей Николаевич) стал мало того что недосягаем для критики, он еще и опасен стал! Совершенно безвредный на местной чиновничьей должности, он вдруг получил право насылать на область проверки, анализировать их результаты под особым, нелицеприятным углом зрения и, в зависимости от своей воли или неволи, давать разбирательству ход или останавливать его.
И вскоре губернатор задрожал под пристальным взором возлюбивших область инспекций, и Наталья Ильинична обмерла внутренне и побледнела внешне, предвидя для себя неприятные последствия от этих проверок, поскольку анализ расходного бюджета студии однозначно указывал на огрехи директрисы — и на норковую шубу указывал, и на служебную иномарку, и на персонального водителя… И на то указывал, что хотелось скрыть, да вот скрыть было невозможно. Увы!
Каким образом Бараненок занял такое высокое и безопасное место? Мы и сами мало понимаем, как именно. Но догадываемся.
Итак, граждане, умеющие читать между строк и сидеть между двух стульев, угадают причину стремительного возвышения Баранова в некой провинциальной интриге, тайные пружины которой когда-нибудь станут явными, а итоги ее до поры до времени скрыты маскирующей завесой.
По неписаному правилу внебрачных связей жена всегда узнает об измене мужа последней. Вот и Губернаторова Элла, эта святая женщина, в жизни никому не делавшая зла и стряпавшая дивные пироги с капустой, долгое время даже не подозревала о бесстыдной связи своего супруга, которому отчего-то казалось (непростительная наивность для облеченного властью человека), что из очевидной неприкрытости их с Настей официальных отношений следует отсутствие отношений неофициальных. Ему представлялось, будто истинное прелюбодеяние всегда прикрывается тайной и существует лишь под ее покровом. Перейдя в явную фазу, оно или изживает себя, закончившись разрывом, или под напором вынужденных обстоятельств превращается в официально-брачный (официально-скучный) матримониум.
Ничего не зная о «любовнице» своего супруга, Элла ничего не знала и о приписываемых ей абортах, и об их с Земцевых тайных детях, и о ее бриллиантах ничего не знала, и о квартирах, машинах, дачах, и о совместных с ее мужем поездках — не по области, а по тропическим островам — не ведала, и не ведала, слава богу, что ее жалеет весь город и ей сочувствует вся область. И не ведала, что Николай Федотович Баранов, хороший сосед ее матери, тоже по-человечески ее понимает. И поэтому, не желая выносить сор из избы, советует принять меры в духе гласности и демократии — разогнать руководство телевидения, чтобы набрать туда новых, неангажированных людей вместо старых и ангажированных.
Когда же Эллу, наконец, просветили, Губернаторова жена предприняла некоторые действия, вследствие которых Бараненок очутился там, где он в конце концов очутился, то есть на теплом месте, на хорошей должности, а под Натальей Ильиничной явственно зашаталось телевизионное, доселе совершенно незыблемое кресло. Настю временно убрали из эфира как компрометирующую светлое имя губернатора — ее мать решилась на это не по чьему-либо настоянию, а из чувства самосохранения. Слава богу, хоть Андрею Дмитриевичу ничего не грозило, так как его завод считался не областного, а центрального подчинения, а в столице обычно плюют на мелкие провинциальные дрязги. Там свои дрязги имеются, крупного масштаба и несравненно более финансово закрученные…
Но, как говорится, беда не приходит одна… После неприятностей семейных на Земцева свалились неприятности служебные, и произошли они с подачи ранее тишайшего Бараненка: в Москве срочно стряпалось дело о нецелевом расходовании средств. Оттуда уже грозили губернатору отсидкой, что Земцеву по молодости лет и по пылкости горения на рабочем мечте было очень обидно. Впрочем, на такой расстрельной должности ждать благодарности не приходится…
Во время своего последнего эфира Настя, трагически глядя на зрителя сапфировым взглядом, произнесла яростный спич о том, что за правду в нашей стране уничтожают, и за успех тоже, а за радение о народном благе прямо со свету сживают — это аппарат отжившей административно-командной системы сопротивляется, поднимаясь на последний и решительный бой.
И горожане мгновенно поняли: губернатора скоро «свалят», однако никто не знал, что послужило исходным толчком для падения Земцева, ведь в области жизнь протекала тихо и мирно, как всегда, и даже немногим лучше, чем раньше, хотя и не так хорошо, как могла бы быть в принципе. Взять хоть соседний город — там и зарплаты меньше, и заводы стоят, и пенсионеры стонут… А все почему — потому что губернатор у них не орел орлович, сокол соколович вроде нашего демократа Земцева, человека нового времени и новой государственности, а старый плюгавый коммунист, из которого песок сыплется.
На пике борьбы за свое место под солнцем (то есть в эфире) и борьбы за Земцева, который ей это место обеспечивал, Наталья Ильинична ежедневно составляла полемические тексты, прибегая к эзопову языку и смутным безадресным намекам. Настя прилежно озвучивала материны выпады перед камерой, однако всем было ясно: дни Плотниковых на телевидении сочтены, директорский трон Плотниковой-старшей гибельно качается, так же как эфирный трон ее смазливенькой дочери.
Итак, на излете телевизионной карьеры, когда стало очевидно, что должности Наталье Ильиничне не сохранить, когда на замену ей уже готовился некий господин, по молодости лет учившийся во ВГИКе и вот уже лет двадцать заведовавший репертуарной частью местного драмтеатра, и что, когда и если такая замена свершится, Насте останется лишь, выйдя замуж, лично заняться увеличением рождаемости в стране, чтобы ее маме было чем развлечься на старости лет, на их пятидесятилетием опасном сломе, — во имя дочкиного будущего директриса отважилась на отчаянный шаг.
— Михаил Борисович, — обратилась она к губернатору. — Кадры решают все, как известно… Между тем кадров у нас нет!
— Как нет? — удивился Земцев, не понимая, к чему клонит его потенциальная, но так и не случившаяся теша.
— Да, увы… На нашем городском телевидении нет профессиональных, высококлассных кадров, — обескураженно развела руками Наталья Ильинична, подразумевая при этом, что она с дочерью, естественно, не в счет. — Вот я уйду, кто меня заменит? Область останется без телевидения!
— Что ж, надо воспитывать кадры, — вздохнул губернатор.
— Педагогов мирового уровня у нас сроду не бывало, да и теперь нет… Разве только ребят обучить на стороне?
— Ну, значит, нужно учить… Не приглашать же нам работников из Москвы! К тому же они и не поедут…
Наталья Ильинична согласилась, что приглашать не надо, однако при этом заявила, что по большому счету стоящих педагогов в Москве тоже нет.
— А где есть? — доверчиво осведомился Земцев.
— В США, например… Штаты — это мировая империя новостей. Хорошо бы туда! отправить поучиться наших ребят…
— А на какие средства? — вздохнул губернатор, предвидя расходы, которые очередная инспекция поставит ему как лыко в строку и которые могут стоить ему если уж не власти (которая и без того висела на волоске), то последней оставшейся у него ценности — свободы.
— Фи, средства… — гневно фыркнула Наталья Ильинична, памятуя, однако, об их нецелевом расходовании, о дорого обошедшейся ей норковой шубе и об автомобиле с обаяшкой шофером. — Вон сколько банков в городе! Да они будут счастливы скинуться на благое дело!
— Спонсоры! — догадался Земцев.
— Спонсоры! — подтвердила его собеседница. — А мы потом рекламой с ними рассчитаемся… Когда-нибудь потом… Кстати, у меня есть выход на Москву, я могу договориться насчет заграничной стажировки… Помните Захара Шумского, знаменитого журналиста? Он теперь в столице… Он мой старинный приятель, кстати…
— С деньгами, конечно, вопрос решим, — покорно отозвался Земцев. — Только понимаете, Наталья Ильинична…
Губернатор долго мялся и вздыхал, пока, наконец, не отважился изложить свою идею, которая состояла в следующем: стажеров надо отобрать по конкурсу, а не по знакомству. Потому что, кто именно поедет на учебу, и так ясно — в первую очередь Настя. И губернатор обеими руками выступал за ее кандидатуру, признавая необходимым временно удалить девушку из города, как сильный повод для супружеской обиды и одновременно инспекторских инсинуаций. Естественно, он желал Насте самого лучшего и готов был для нее на многое, но не на все, однако. И он был рад помочь ей, а заодно и Наталье Ильиничне, которой, по общему мнению, помочь было уже невозможно.
— Конечно, объявим конкурс! — воодушевясь, подхватила директриса. Идея понравилась ей своей показной демократичностью. — Отберем самых талантливых ребят, нашу надежду и гордость…
— Надо бы и комиссию создать для отбора…
Плотникова долго не думала.
— Комиссию? Отлично… Трех человек, я думаю, хватит: вы да я, ну и… Еще пригласим кого-нибудь авторитетного… Можно Захара Шумского в качестве‘независимого арбитра позвать, мы с ним давнишние приятели…
Губернатор согласился войти в комиссию, решив, что объявленный конкурс ему ничем особенным не грозит, зато в случае успеха Настя временно, до устранения супружеских разногласий уедет из города. А отъезд девушки успокоит не только жену, он, может быть, и инспекцию тоже успокоит…
Итак, объявили конкурс с нелегкими условиями (знание языка, журналистские работы с крепким аудиовизуальным рядом), утрясли состав жюри, объявили всенародное голосование купонами из местной газеты… Затем три месяца собирали материалы, потом еще месяц подводили итоги, потом подвели, наконец…
В итоге Настя отправилась в Америку, а Бараненок остался с носом.
Не успела еще девушка уехать, как на губернатора нежданно-негаданно свалилась новая напасть: его возлюбил сам президент, вопреки результатам проверки региональной инспекции и невзирая на эти самые результаты. Потому что в душе президент тоже был демократ, как и Земцев, и тоже всю жизнь боролся с административно-командной сволочью. Губернатора вызвали в Москву пред сиятельные президентские очи, чтобы сделать ему предложение, от которого невозможно было отказаться, — стать правой рукой правителя и его зрячим оком, его карающим мечом на переднем фланге борьбы с административно-командной системой. Ради этой должности можно было не только пожертвовать старой любовью и народным избранничеством, но и всем остальным тоже можно было пожертвовать.
И он пожертвовал бы, право слово.
После отъезда Земцева в Москву расклад противоборствующих сил в городе переменился: Наталье Ильиничне больше ничего не угрожало, как и ее дочери, — после возвышения их покровителя на Плотниковых словно распространился невидимый иммунитет. Бараненок, теперь совершенно присмиревший, был вынужден принять результаты финансовой проверки к сведению, но не к действию. Увы, он теперь не мог покуситься на бывшего губернатора, который ускользнул от всяческих проверок, не мог он навредить и Наталье Ильиничне, которая опять крепко вцепилась в свое незыблемое телевизионное кресло.
После пережитого Плотникова-старшая решила обезопасить себя от будущих провокаций. Она разыскала людей, близко знавших Сергея Николаевича, Сереженьку, по его работе в городской административной богадельне, и не погнушалась вытрясти из этих людей кое-какие, нотариально заверенные сведения, которые сами по себе стоили не так уж много, однако их обличительная ценность на фоне общественного скандала возрастала многократно. Кстати, этот скандал ей, облеченной властью над мнением народным, ничего не стоило организовать…
А потом еще Андрей Дмитриевич, нимало не желая очернить своего хорошего друга Колю Баранова, с которым он всю жизнь, рука об руку боролся за выполнение производственного плана, вспомнил подзабытую историю какого-то семьдесят лохматого года, историю, которая в свое время наделала много шуму и из-за которой Андрей Дмитриевич чуть было не лишился членства в партии, — историю об аварии в цеху, когда по халатности должностных лиц, усугубленной плохим бетоном и трагическим стечением обстоятельств, обрушились перекрытия и погибли люди. Тогда после невнимательного разбирательства Андрею Дмитриевичу влепили выговор по партийной линии, а Баранову вкатили «строгача», хотя виноват в происшедшем был именно Баранов — и он один! Именно его подпись стояла под документом, удостоверявшим качество бетона и его пригодность для зимнего, торопливого, с опережением сроков строительства…
Ту давнишнюю историю, дорого стоившую мужу, Наталья Ильинична знала в подробностях, своевременно настояв на документальной фиксации фактов. Теперь за давностью лет эти документы добыть было трудно, однако не невозможно.
Добыли…
И сразу же Баранов, разглядев какое-то странное копошение вокруг той неприятной для него истории, поспешил возобновить неформальные связи с семьей своего покровителя: приплелся с женой «на огонек». Во время чаепития Николай Федотович неустанно восхищался Настей и обзывал своего единственного отпрыска «рохлей» и «балбесом», а в конце визита, еле ворочая тяжелым от алкоголя языком, вдруг выпалил на голубом глазу, что про махинации с заводскими акциями, которые будто бы год назад провернул Андрей Дмитриевич (наглая ложь!), никто ничего не узнает, он могила, будьте покойны и давайте дружить, милости просим к нам на чай в любое время, а особенно когда Сереженька со своей новобрачной супругой пожалует, заходите для приятного знакомства…
А кто супруга, спросили.
Девушка, конечно… Дочка прокурора, живет в столице, где Сереженька нынче трудится на благо отечеству, во славу родины, один как перст. Кстати, вам тоже непременно надо познакомиться с прокурором, в жизни такое знакомство обязательно пригодится… Да, скажите, а что же Настенька, как она там живет-поживает в своих Америках, и что Земцев, пишет ли, звонит ли, скучает?
В ответ Наталья Ильинична высокомерно объявила, что Настенька живет-поживает прекрасно и что ребята стажируются с ней все такие хорошие, особенно один мальчик, Щугарев, чей папа в госбезопасности не последняя пешка, они, кстати, очень, очень дружат, дай бог, чтобы нечто большее между ними завязалось… Что Земцев, конечно, не звонит, до того ли ему, бедному, телевизор же смотрите, новости по первому каналу, и знаете, конечно, что сейчас в государстве происходит, все кверху дном и вверх дыбом… Но он, благодетель наш и покровитель, твердо обещался при первом удобном случае привезти самого президента (именно так!) к Андрею Дмитриевичу на завод. Ввиду скорого приезда правителя, который, разумеется, не откажется стать посаженым отцом на свадьбе Настеньки с тем самым кагэбэшным сыночком, надо неустанно готовиться к визиту и заранее составить список свадебных гостей, потому что всякую шушеру рядом с президентом за стол не посадишь, случай не тот… А кого приглашать, кроме кагэбэшного генерала, Наталья Ильинична даже и не знает, растерявшись от важности момента…
Разве Сережу только, Настенькиного давнишнего друга, а?
Тут Баранов от полноты чувств совсем рассиропился и, слюняво приникнув к полновластной ручке Наталье Ильиничны, пообещал ей свою верность, и дружбу, и всемерное споспешествование, и вспомоществование… Он так долго прощался с ней в дверях, заверяя в своих лучших чувствах, что супруга с трудом вытащила его из квартиры.
Помирились.
«Как часто наши друзья на поверку оказываются врагами, — скажет Настя много лет спустя, когда очередной телевизионный сюжет наведет ее на грустные воспоминания. — Говорят, что цена человека определяется количеством его недругов. Например, у героини нашего следующего сюжета врагов не было совсем…»
Не то что у нее, Насти.
Глава 6
Их было пятеро, молодых перспективных ребят, а заокеанская стажировка должна была превратить этих беспомощных провинциальных телепузиков в зубастых телевизионных волков.
Америка Насте показалась скучной, тогда как ее товарищи, дальше Прибалтики сроду не ездившие, были упоены знакомством со страной и ее диковинными порядками. Плотниковой же, и в Европах бывавшей, и с детства присмотревшейся к завлекательной иноязычности, здесь жилось совсем невесело.
Кем она тут была? Смазливая стажерка, принеси-подай, посмотри да промолчи… Не то что дома! Дома ее узнавали на улицах, ей оказывали знаки внимания, — это было своеобразным подтверждением того, что жизнь продолжается в нужном ключе, что она по-прежнему самая лучшая и самая любимая, как было всегда, с самого детства, от самых истоков, как всегда должно быть…
Но за океаном моральная подпитка домашнего очага вдруг исчезла. Настя внезапно оказалась одна, как будто голая, как будто даже голодная — без нянюшкиных блинков, без битком набитого холодильника, без молений о еще одном съеденном кусочке, без тревоги за слабый аппетит, без волнений насчет бледненького по неизвестной причине личика, без тревожных вопросов, все ли в порядке с пищеварением, не надо ли таблетки… Защитное действие родительского силового поля вдруг прекратилось, а действовать по своему уму Настя не очень-то умела.
Ошибочно приняв пятерку стажеров за свою новую, временно даденную ей семью, она потребовала от них того, что с рождения требовала от близких, — любви, обожания, заботы, помощи. Все это было ей поначалу предоставлено, вследствие инерции той жизни, в которой девушка числилась безусловной мегазвездой и в которой ее влияние не подлежало оспариванию.
Дело в том, что до своего отрочества Насте удалось избегать комарино-тараканьих пионерлагерей, переполненных детских больниц, зимних санаториев — того, что дало бы почувствовать ей собственную ординарность, внушило бы девочке понятие здорового коллектива, научило бы кусаться и царапаться — своими, а не мамиными-папиными зубами и когтями. Но пионерлагерь в Настиной биографии присутствовал в виде элитарного Артека, где быт детей был так прекрасно организован, что у тех не оставалось сил на жестокую детскую вольницу; больница фигурировала в виде приходящего старичка профессора, который, осмотрев девочке горло, восклицал: «Прекрасное горло!» — а потом, выписав рецепт, просил умоляюще: «Вы уж это лекарство достаньте, пожалуйста… Дефицитное — но девочке надо», а Настина мама снисходительно успокаивала доктора: «Достанем непременно, не беспокойтесь». В юности Настя была лишена студенческого общежития, его разнузданной, вахлаческой свободы — шмотки общие, еда — кто быстрее съест, кавалер — какой кому достанется! Студенческое, вне родительского дома житье она воспринимала как тайное убежище, как символ независимости от родителей, как место для наслаждения запретным — запретными песнями, запретным сексом, запретным «плодовоягодным», запретными сигаретами. От общежитских подружек было так приятно возвращаться в уютный любящий дом, где не было явных ограничений, зато существовала невозможность «моветона», который включал в себя тот же секс, не освященный брачным свидетельством, те же сигареты, то же «плодовоягодное», ту же еду в неурочное время суток и то же песенное горлопанство под гитару…
На стажировку поехали пятеро ребят: Витя Щугарев, вышеупомянутый кагэбэшный сынок, на влияние которого так уповала Наталья Ильинична, кудряво-кукольная Лиза, тихоня Веня Борчин, невзрачная Светка, не конкурентка, взятая в стажеры лишь для количества, для круглой пятерки. Ну и, понятно, признанная звезда, она, Настя…
Девушек поселили отдельно, в крошечной студийной квартирке. По своей привычке быть запевалой Настя сразу установила в доме железный порядок — когда надо вставать и ложиться, смотреть телевизор, завтракать. Поначалу ее приказы худо-бедно выполнялись, однако уже через какие-нибудь пять-шесть недель заокеанское братство, точнее, сестринство развалилось, дав трещину. Лизка, встав в оппозицию Плотниковой, снюхалась с подозрительной Светкой, с которой Настя вступила в нежелаемую, но неизбежную конфронтацию, правда, позже на ее сторону перешел Витя Щугарев, а Борчин был — ни рыба ни мясо, ни вашим, ни нашим.
Уклад маленькой коммуны был анархично-беспорядочным: спать ложились под утро, если вообще ложились, смотрели не TV-новости, полезные для профессионального успеха, а дурацкие мультфильмы, из тех, что ниже пояса. Каждый питался наособицу, как заблагорассудится, по кухне дежурить никто не хотел, в основном пробавлялись полуфабрикатами… Настя жестоко страдала оттого, что все идет не по задуманному, — девчонки курят в постели, оставляют огрызки на столе, часто матерятся и визгливо, в голос, смеются в три часа ночи, пока сосед-латинос не примется барабанить в стену, грозя полицией.
«Плебеи, совок!» — соглашательски шипел Щугарев по адресу разбитных подружек, отчего девушке казалось, что она обрела в лице Вити некий суррогатный заменитель своего прежнего мира. И если это подразумевало между ними постельные отношения, впрочем достаточно редкие, торопливые, когда соседки сматывались по своим делам, то Насте приходилось соглашаться на них, иначе ей было бы нестерпимо плохо — одной, без союзника, без поклонника, без живой души подле себя.
«Презентеры», или стажеры, по-нашему, должны были раз в неделю сделать, как здесь говорили, «пакет» — законченный сюжет. Лучшие сюжеты предназначались для эфира. Темы были произвольными, лишь изредка куратор, ленивый вальяжный мистер Родригес, подкидывал ребятам идею, которая могла заинтересовать разборчивого местного зрителя. А чтобы заинтересовать фермера в протертых джинсах, нужно было ох как постараться!
В родном городе с
подобным заданием Настя справилась бы влегкую. Она сообщила бы тему «пакета» маме, а та, открыв записную книжку, отыскала бы нужный телефон и в пять минут договорилась бы о приезде съемочной группы. После чего Насте осталось бы только набросать текст. Успех предсказуем, ибо не было в городе человека, который осмелился бы отказать директрисе телестудии.
Здесь же все оказалось иначе… Настя должна была не только придумать сюжет, но и договориться о приезде съемочной группы (попутно отвечая на вопросы, откуда она приехала, покажут ли этот сюжет по ТВ, когда покажут и заплатят ли участникам за съемку), найти машину, погрузить аппаратуру, прибыть на место, определить точку съемки, дать необходимые указания оператору, проговорить текст, потом смонтировать материал на студийном компьютере, с которым у Насти сложились весьма непростые отношения, озвучить, наложить комментарий… При этом надо было умудриться подать материал максимально объективно и одновременно мелко подольстить американскому налогоплательщику, на деньги которого и существовал канал.
Но невозможно добыть увлекательный материал, когда плохо знаешь город и не представляешь, что интересует его жителей! Когда не знаешь, как разговаривать с полицией, с охраной, с местными жителями. Когда всего боишься, когда кажется, что от снятого сюжета зависит дальнейшая жизнь… Когда рядом нет мамы, которая может позвонить, договориться, объяснить, растолковать, помочь, поддержать…
Неделями Настя слонялась по городу — жаркому, пыльному, грозящему стечь в океан, как растаявшее мороженое, — в поисках того, что могло стать ее «пакетом». Но отснятые ею материалы неизменно отправлялись в корзину!
Однажды куратор, снизойдя к своей подопечной, милостиво подкинул ей тему — открытие нового пивзавода в окрестностях города.
Настя растерялась.
— А где этот завод? Мне нужно на него съездить, да? Что я должна сказать о нем? — засыпала она вопросами своего руководителя.
Родригес небрежно махнул рукой:
— Что хочешь, милая… Это твой «пакет», и у нас в стране свобода слова…
— Я слышала об этом, — мрачно буркнула девушка.
Хваленая свобода обернулась для нее жесточайшей несвободой. Репортаж с пивного завода Настя, привыкшая к обличительно-клеймящему тону перестроечной журналистики, начала так: «Еще один пивной завод открылся в окрестностях города. За сегодняшний день десять тысяч банок пива сошли с конвейера, суммарным содержанием около двухсот литров чистого спирта. Вдумайтесь в эти цифры… Кто выпьет этот алкоголь? Подросток на папиной машине или уставший от работы драйвер? Все это не может не привести к увеличению числа аварий на городских трассах…»
Прослушав блестящий, по мнению автора, комментарий, Родригес разочарованно покачал головой.
— Не пойдет, — сказал он. — В нашем городе тысячи безработных. Открытие завода — это новые рабочие места, а ты рассуждаешь о вреде спиртного… Если люди перестанут покупать пиво, местным жителям негде будет работать… Понимаешь? Этот «пакет» не пойдет.
Настя расстроилась. Прошло много недель и много «пакетов», прежде чем ей удалось отправить в эфир свой первый материал — правда, одну только картинку без комментария.
Случайно услышав в передаче местной радиостанции, будто на городском пляже видели акулу, которая, порвав заградительные сети, чуть не поранила беспечных купальщиков, Настя отправилась на место происшествия. У воды стояла кучка зевак, обступивших вытащенные на берег сети.
В то время как девушка допрашивала свидетелей, оператор прилежно снимал рыболовные снасти с круглой, точно выгрызенной посередине дырой. Смуглый парень, густо покрытый черными волосами по всему телу, охотно согласился на интервью.
— Скажите, вы видели акулу? — спросила Настя, держа на изготовку микрофон.
— Меня уже снимают, да? — удивился тот. — Здорово! Всем привет!
— Вы видели акулу, не так ли?
— Это для телевидения, что ли?
— Да… Так вы видели эту акулу?
— А где меня покажут? В новостях?
— Да, возможно… Вы можете рассказать про эту акулу?
— Эй, девушка, да у вас акцент! Вы откуда приехали?
— Это совершенно не важно… Из России. Говорят, здесь видели акулу-людоеда… Расскажите об этом.
— Россия… Хм… Говорят, у вас чертовски холодно?
— Мистер, меня интересует акула… Где вы стояли, когда она появилась? Я имею в виду акулу…
— Акула? Какая акула?
— Акула, которая порвала сети… Вон те сети… Вы ее видели? Она пыталась на вас напасть?
— Нет, мэм, это была не акула… Это был водолаз, один из тех придурков с катера… Он прорезал сети ножом, запутавшись при всплытии. Акулы я не видел. А что, здесь правда была акула? Вы видели ее?
— Говорят, что…
— Эй, парни, здесь была акула!
Зеваки обступили журналистку.
— Акула? В самом деле?
— Давненько в наших краях не было акул!
— Черт побери! Скоро начинается сезон серфинга, а тут плавает всякое дерьмо…
— Жуткая дрянь эти акулы…
Настя знаком попросила оператора выключить камеру.
Пляжные завсегдатаи долго просвещали ее насчет того, что они думают обо всех дрянных акулах на свете и что жизнь станет еще дряннее, если эта дрянная акула возобновит свои дрянные нападения, как было семь лет назад, когда сорвался туристический сезон.
Репортаж, пущенный в вечерний эфир, выглядел так: ведущий сообщил на фоне картинки (рваная сеть, толпа зевак, море и катер на заднем плане):
— Слухи о появлении акулы на побережье оказались ложными. Вероятно, сеть порвали дайверы, занимавшиеся в бухте подводными съемками. Сейчас сети починены, и купальщикам ничего не угрожает.
Настя была счастлива, хотя мистер Родригес, просмотрев материал, произнес скучным голосом:
— Если собака укусила человека — это не новость… А вот если человек укусил собаку — это новость! — А потом добавил: — Кстати, мисс, пора бы вам запомнить формулу Квинтилиана: «Кто сделал? что сделал? где? какими средствами? зачем? как? когда?» Это безошибочный способ подачи новостей, проверенный рецепт репортажа… Ясно?
— Я постараюсь запомнить, — сведенными обидой губами пробормотала Настя.
Но формулу запомнила твердо.
Перед стажировкой Настя лелеяла сладкие мечты (они пошли прахом в течение первых же месяцев): что ее заметят в Штатах и пригласят на постоянную работу. Она станет звездой заокеанских новостей, начав постепенно, с низов, с рядового корреспондента например. А потом ее назначат ведущей дневного выпуска, потом утреннего, потом вечернего, прайм-таймового…
Через месяц стало ясно — этого никогда не будет. Причин много — акцент, не местное происхождение и, как ни странно, внешность. Настя была поражена: местные ведущие оказались людьми стандартно-безликой внешности, часто пожилыми.
— Внешность ведущего не должна отвлекать зрителей от содержания новостей, — объяснил Родригес.
Значит, даже если бы Настя оказалась американкой с идеальным произношением, здесь ей ничего не светило — из-за внешности.
Девушка появлялась в местном эфире то с заметкой о сбитом на загородном шоссе олене, то с сообщением о неработающем светофоре, водители, будьте внимательны…
— А сейчас наша русская гостья Настя расскажет нам о ремонте светофора, — сообщала ведущая, щедро улыбавшаяся всей своей образцово-показательной стоматологией. — Настя, а в России есть светофоры? — невинно интересовалась она в качестве «подводки» к сюжету.
— Да, Дейна, — отвечала Настя, вынужденно обозначая запятые в углах пухлогубого рта. — Но я живу в небольшом городе, и светофоров у нас не так много.
— О’кей, — самодовольно отзывалась противная мулатка Дейна, как бы даже не сомневаясь, что в России не может быть все так здорово, как в Америке.
Во время другого эфира, когда Настя рассказывала о сбитом на шоссе олене, ведущий Дик, морщинисто-мужественный, как старый шарпей, осведомился у русской красавицы:
— Настя, нашим зрителям, наверное, интересно, существуют ли в России шоссе?
По законам игры Настя должна была сказать, что дорог на ее родине практически нет, а те, что есть, не так великолепны, как в Америке, что конечно же было сущей правдой — но при этом такой обидной правдой… И она, конечно, сказала, что требовалось от нее по правилам игры, а Дик ответно пошутил после ее слов:
— Ну, про оленей я вас даже не спрашиваю, ведь все знают, что в России живут одни медведи!
Потом картинка уплыла из эфира, ведущий погас, оператор выключил камеру и предложил стажерке разделить с ним его вечернее пиво.
От этого предложения Настя буквально взбеленилась. Еще недавно Земцев — красивый, молодой, влиятельный, сильный! — умолял ее об ужине в лучшем ресторане города, а она надменно отказывалась… А тут такая честь, подумать только — вислопузый камермен, в брюхе которого, похоже, бултыхаются неисчислимые декалитры пива!
Ей нужно было поделиться с кем-нибудь своим негодованием, однако Щугарев внепланово исчез — именно тогда, когда она так остро нуждалась в нем!
Появившись через два дня, Витя американизированно оскалился в ответ на ее вопрос: «Где я был, там уже нету!»
Он не любил распространяться о своих делах. Только какие у него могли быть дела в чужой стране?
Перед отъездом дочери мама твердила что-то о коктейльных платьях, напоминала о вилке для рыбы, мусолила подзабытые правила этикета — верно, надеялась, что ее дочка будет общаться с миллионерами и звездами кино, однако, вместо званых ужинов, Настя вечерами маялась в плохой комнате в плохом районе города — ни одного миллионера в пределах досягаемости, смешно надеяться, странно рассчитывать, глупо уповать… Через картонные стены было слышно, как сосед-латинос сыто рыгает после пива, как нестерпимо сипит телевизор во время бейсбольного матча, когда «Пингвины» из соседнего штата громят местных «Голубых цыплят».
Денег было мало, хватало только на гамбургеры и картошку. Девушка ела и толстела, мерила талию, вздыхала и опять ела, потом отправлялась на скучные свидания с кагэбэшным Витей, чтобы любовными объятиями развеять грусть-тоску. Но Щугарев, поначалу прилежно выполнявший роль верного пажа и жилетки для плаканья, теперь безадресно пропадал днями напролет. Однажды его вроде бы видели в баре с чернокожей официанткой, молоденькой, но не смазливой. Хотя Насте было все равно (по крайней мере, она усиленно уверяла себя в этом), девушка отправилась посмотреть на мулатку, которая не то от любопытства, не то от бешенства матки связалась с никому не нужным русским стажером, однако похожую на описание подавальщицу в баре так и не обнаружила.
Однажды Щугарев не в службу, а в дружбу попросил девушку об услуге. Надо было съездить в Вашингтон, чтобы встретиться там с кем-то из посольства и забрать отправленную по дипломатическим каналам посылку — ее передал сыну любящий папаша-генерал. Сам Щугарев, по его словам, никак не мог вырваться, — ему предстояла съемка важного «пакета». Пришлось ехать Насте, у которой, как на грех, оказался свободный день.
Встреча с представителем посольства проходила в лучших шпионских традициях. В вокзальной сутолоке человек в темных очках молча вручил Насте небольшую коробку и так же молча удалился. Коробка оказалась легкой — всего-то килограмма два живого веса — и мало походила на съестную передачу.
Девушка покаталась на такси, осматривая город, и вечерним поездом вернулась домой.
Щугарев долго расспрашивал Настю, не было ли на вокзале чего-нибудь подозрительного, не интересовался ли кто содержимым свертка. Услышав, что ничего подобного не было, он успокоился, объяснив свою тревогу тем, что человеку из дипмиссии запрещено оказывать подобные услуги и он страшно рисковал своим положением.
На вопрос, что в посылке, Щугарев небрежно ответил, что так, ничего особенного, — икра и водка, однако ни икры, ни водки не предъявил, заявив, что уже сдал товар в русский магазин за валюту. Пришлось поверить…
А ровно через два дня Щугарев бесследно исчез. Его не было ни в квартире, которую он занимал с мутноглазым тихоней Борчиным, ни на студии. Его не было и в том самом баре, где его не раз видели. Лизка отыскала чернокожую подавальщицу-разлучницу, но мулатка на все вопросы, задаваемые на чистом английском языке, только глупо пялила выпуклые очи и взволнованно трясла высокой, явно силиконовой грудью.
Между тем Щугарев не объявлялся. Практикантам грозила головомойка от надзиравшего за ними посольского товарища, который и под серым гражданским пиджаком сохранял форменную выправку. Несмотря на либеральные времена, стажеры опасались досрочного возвращения к родным пенатам — наказания, грозившего в советские времена несчастным туристам, которые не сумели выявить в своих рядах тайного невозвращенца.
Нервная Лизка, уже присмотревшая себе для брачной эмиграции одного престарелого мальчугана и теперь умело томившая его обрывистыми подходами к своему телу, рыдала вслух, бормоча насчет засранцев, которые другим людям жизнь портят. Ей страшно не хотелось возвращаться на родину, ведь престарелый мальчуган не далее как вчера предложил перевезти ей вещи в свой дом, и вдруг все рушится, летит в тартарары, оборачивается прахом!
— Я знала, знала, — рыдала Лизка, капризно топая ногой на Настю, которая, по ее мнению, одна виновата была в случившемся — хотя бы тем, что не вывела на чистую воду своего ухажера. — Щугарев всегда казался мне таким подозрительным!
Только тогда Настя припомнила частые отлучки своего поклонника и то, что его однажды видели на противоположном конце города с неким странным гражданином средних лет, с которым Щугарев не мог иметь никаких отношений, поскольку по возрасту гражданин явно не годился для юношеской дружбы.
Решив, что чистосердечное признание лучше, чем дамоклов меч неизвестности, ребята сообщили о случившемся в посольство. Пытались известить родителей Щугарева об исчезновении их отпрыска, но их телефон упорно не отвечал, отзываясь длинными гудками.
А через пару часов диктор вечерних новостей торжественно сообщил, закончив рассказ о перевороте в Зимбабве, что еще один генерал КГБ, просветленный наступившей в России демократией, попросил политического убежища в Соединенных Штатах Америки. Фамилия генерала была Щугарев.
Услышав это, стажеры потрясенно переглянулись. Вот это была новость!
В следующие дни их поочередно тягали на беседы, во время которых ясноглазые дяденьки с пронизывающим взором и четко обрисованными бицепсами выдаивали из ребят информацию о перебежчике.
— Вы были подругой Щугарева, — говорили они Насте, на что девушка краснела, прятала взгляд и даже тихо попискивала, протестуя против слова «подруга». — Вы должны были замечать его настроения…
Девушка уверяла, что ничего «такого» она не замечала.
— С кем из американцев он встречался?
Но, кроме подозрительного господина средних лет и чернокожей соблазнительницы из местной «тошниловки», Настя никого не смогла вспомнить.
— Как часто Щугарев звонил своему отцу? О чем они говорили?
Настя признавалась, что да, звонил, конечно, но о чем они говорили, она не знает, потому что в это время беседовала по соседнему телефону со своими родителями, и ей было не до чужих разговоров.
А потом эти люди пронюхали о поездке в Вашингтон… Настя порядком струхнула, когда ей предъявили глянцевые фотографии, на которых неизвестный в очках вручал девушке подозрительный сверток.
— Но Витя сказал, что в посылке лишь водка и икра… — бормотала Плотникова, обливаясь горестными слезами. — Я не знала, что там ядерные секреты. Там ведь были ядерные секреты, да?
Допрашивающие молодцы заметно поморщились. Увы, ядерных секретов в посылке не оказалось, зато их успешно заменили мемуары генерала о службе в органах, проливавшие свет на некоторые так называемые загадки истории…
Все это было настолько мучительно — допросы, копание в чужом грязном белье, подозрения, грозные намеки, — что Настя в панике позвонила домой.
— Что делать? — спросила она у многоопытной мамы, которая тоже была наслышана о генерале-перебежчике.
Наталья Ильинична не знала, что ответить дочери. То ли посоветовать той возвращаться домой, наплевав на стажировку, то ли…
Но что «то ли»?
Об этом опасном «то ли» надо было еще подумать. Хотя издыхающий монстр КГБ был уже не так силен, как в приснопамятные времена, однако все же шпионский скандал — не лучшая реклама для добропорядочной девушки.
Во время конспиративного совещания, проходившего в парке, Наталья Ильинична и Андрей Дмитриевич брели по пустынной ноябрьской аллее, как два патриархальных старичка, еще не достигшие Лотовых годов, но уже неуклонно к ним стремящиеся.
— Насте нужно возвращаться! — произнес Андрей Дмитриевич твердым тоном. — Времена нынче не те…
— Не говори гоп, — сердито возразила Наталья Ильинична. — Девочке еще жить да жить…
Андрей Дмитриевич вздохнул.
— Вот только где жить — там или здесь? — пробормотала вполголоса Наталья Ильинична, адресуясь не столько к мужу, сколько к деревьям, обсыпанным пороховидным снегом, к бродячей собаке с вислым хвостом, к мокрой вороне с подозрительным чекистским взглядом, перескоками следовавшей за ними в ожидании если не решения Настиной судьбы, которая ей, этой вороне, была в высшей степени безразлична, то хотя бы внеплановой корки хлеба. — Но там у нас связей нет…
— Тогда пусть возвращается домой, — покорно согласился Андрей Дмитриевич. Хотя он гремел и горел на работе, но перед женой, которая горела и гремела не только на работе, но и дома, он явно пасовал.
— А если тебя тягать начнут? — сомневаясь, возразила супруга.
Так они ни к чему и не пришли, колеблясь между Востоком и Западом, заграницей и лукоморьем, отечественной карьерой дочери и ее иностранным счастьем.
Результатом этого конспиративного совещания стали предпринятые Натальей Ильиничной не очень-то умные шаги, послужившие причиной случившихся через много лет неприятностей. Однако в тот момент подобные действия казались нужными и даже необходимыми.
Дело в том, что Наталью Ильиничну уже вызывали в кубический серый дом, широко известный всему городу… Там доброжелательные товарищи подробно расспрашивали ее о конкурсе, просматривали работы стажеров, интересовались, кто числился в жюри и каковы были критерии отбора конкурсантов. Услышав фамилию Земцева, они неприятно усмехались, намекая, что вызов этот отнюдь не последний, мол, готовьтесь… Уже очень скоро, буквально на днях…
Наталья Ильинична струхнула не на шутку!
Встревоженная неприятными намеками, она бросилась к Барановым под предлогом попить чайку в дружественной простоте, лелея при этом далекоидущие планы.
— Как наш Сереженька поживает, Сергей Николаевич? — осведомилась спокойно, но с нервной ниткой, протянутой в голосе.
Баранов, вальяжно цедивший коньяк из крошечной рюмки, сразу почувствовал себя (наконец-то! в кои веки!) хозяином положения.
— Вашими молитвами, Наташенька, — снисходительно произнес он, вытирая мокрые губы. — На повышение Сережа пошел, в аппарате правительства место скоро ему выходит… Внученьку-то нашу вы видели? Цветочек ясный, шесть месяцев скоро, две груди в один присест высасывает, Олечка жалуется на нее…
Потеплев лицом, Баранов показал тайно нелюбопытной, но наружно любопытствующей гостье фотографии, на которых фигурировали очеловеченные плоды прокурорских усилий и инженерного наследственного трудолюбия, — жирный младенец женского пола, весьма непривлекательного вида, но, безусловно, полезный для целей Натальи Ильиничны. Гостья преувеличенно восхищалась чудесным ребенком, охала, поздравляла Баранова и Бараниху со счастливым дедовством, громко завидовала их счастью, чтобы затем спросить, как бы между прочим:
— А что, Сережа ваш завел ли уже связи в правительстве? Какие?
Она имела в виду Земцева, к которому хотела обратиться для разрешения своих семейных проблем и к которому теперь по его высокому ультрагосударственному положению подобраться было архитрудно. В его секретариате, не желая слышать ни о каких «старых знакомых Плотниковых», тупо твердили о порядке приема жалоб от населения, а ведь Земцев мог бы помочь Насте по старой памяти и движимый старым чувством… Он просто обязан был прекратить эти дурацкие накаты на невинную девушку, совершенно неуместные в нынешние либеральные времена! И в сущности, правильно сделал Щугарев, что сбежал вместе со своими воспоминаниями и секретами, шило ему в печенку…
Однако воспользоваться официальным путем обращения к Земцеву было абсолютно невозможно, потому что беду, которая случилась с дочерью, нельзя было доверить официальным каналам, да и не дойдет до него по этим каналам, богатым всякими заградительными препонами и охранительными препятствиями…
— А что же ваш зять? — осведомился Баранов с благожелательной иронией, со снисходительной подколкой в голосе.
— Какой зять? — подняла кругло выщипанные брови Наталья Ильинична.
— Как же, мы ведь тоже газеты читаем, политикой интересуемся, — с усмешкой возразил Баранов. — Ну и история’ Так вот зачем ему нужна была эта стажировка… Я имею в виду Щугарева.
— Зачем же? — задыхаясь, пролепетала Наталья Ильинична, и так прекрасно понимавшая зачем.
Дело в том, что еще во время предконкурсного разговора старик Щугарев-старший рекомендовал директрисе рассмотреть под особым углом зрения аудиовизуальные потуги своего сына, намекая при этом на перспективу взаимовыгодного сотрудничества. При этом он напомнил, как однажды, в какие-то семьдесят лохматые годы, Андрей Дмитриевич сболтнул кому-то не тому что-то совершенно не то, подразумевая нечто совершенно невинное, но то, что советская власть могла ему не простить, после чего его вызвали в большой серый дом в центре города, и только благодаря снисходительности генерала, который тогда еще был не генералом, а подполковником, Андрею Дмитриевичу почти ничего не было — кроме беседы по душам и пропуска, слава богу, подписанного на выход.
И не то чтобы покровительство органов требовалось Наталье Ильиничне в наше либеральное, дышащее вольностью время,
или она рассчитывала на него в перспективе, или опасалась той старой истории с мужем, но по своей советской выучке привыкла она не перечить тайной власти и потому выполнила просьбу генерала без задней мысли и даже без надежды на воздаяние.
И вот оно, это воздаяние, пришло откуда не ждали! Кто бы мог подумать, что старый генерал решит дернуть на Запад, подставив совершенно невинных людей!
— Стажировка была лишь предлогом, — тяжело глядя На медово побледневшую собеседницу, поучительно заметил всезнайка Баранов. — Сын Щугарева, воспользовавшись ею, отыскал заинтересованных лиц, готовых организовать канал переправки своего отца в Штаты, собираясь в обмен на секреты просить политического убежища… Кстати, Сереженька мне прекрасно этот механизм растолковал, — объяснил он свою осведомленность. — Он ведь сейчас с органами связан… Ну конечно, не по этому конкретному делу, а вообще, по работе…
— Связан? — обморочно пролепетала Наталья Ильинична, стремительно теряя лицо, раньше высокомерно взиравшее на парвеню Баранова с его дурацкими хрустальными вазами, однако теперь принявшее умоляющее выражение. — Тогда нельзя ли попросить… Ну, я не знаю, может быть, он сумеет… замолвить словечко… По возможности… По старой памяти, мы ведь столько лет вместе… И дружим… И его как сына… Все это так неприятно, вы ведь понимаете…
— Понимаю, — внушительно произнес Баранов, ничего твердо не обещая.
И даже не вышел проводить гостью до двери. Потому что всегда тонко чувствовал, когда кто кому обязан и кто в ком нуждается.
Глава 7
Итак, благодаря чьему-то невидимому вмешательству история с перебежчиком была спрятана в дальний угол прошлого, в его исторические анналы, — может быть, только для того, чтобы в нужный момент оказаться вытащенной на всеобщее обозрение? То ли Бараненок, вспомнив свое незабвенное детство и вкусные ужины в семье Плотниковых, замолвил слово перед нужным человеком, то ли вдруг воспрянувший из надмирного бытия Земцев — чем черт не шутит! — своей властной дланью оборвал томительное плетение скандала, то ли высосанный из пальца «шу-мёж» совершенно самостийно сошел на нет, обескровленный всеобщей саморазоблачительной гласностью, — не до сбежавших генералов было стране, бурно делившей нажитое предыдущими поколениями добро.
Таким образом, в профессиональном плане Настина стажировка завершилась вполне благополучно. Руководитель стажеров выдал девушке блестящие референции, хотя вслух сожалительно выразился о ней в том смысле, что она бесперспективна, потому что лицо у нее не саксонски лошадиное, усредненно типическое, каких везде навалом — и в супермаркете, и вечером на той самой «стрит», где девицы прогуливаются (они специально ходили смотреть), а кукольно-овальное, милое, с двумя мягкими запятыми и с искренней, а не дежурной улыбкой, им такая и не снилась с рефлекторным национальным оскалом и зубными коронками стоимостью в годовую зарплату.
После возвращения домой потекла благополучная тихая жизнь: нянюшкины блинчики, папина помощь, мамина защита. Только скучно Насте было, томилось что-то у нее внутри, непонятно что, какой-то дополнительный орган, образовавшийся в ней во время разлуки с домом, который ныл и требовал постоянно — туда, вперед, к успеху, напролом, без оглядки, чтобы все смотрели, завидовали, восхищались, потому что она может сделать очень много одним только взглядом в камеру. Теперь-то она знает, как очаровать зрителя так, чтобы наружно ее усилия остались незамеченными, — не улыбнуться, а только приподнять на миллиметр уголки губ, умело напрячь лицевые мышцы, заискрить глаза, в нужном месте сделать паузу, чтобы потом обрушиться йа зрителя стремительным словопадом, умело модулируя интонацией, обволакивая будто бы невыразительным голосом, на самом деле очень выразительным и много чего выражающим.
Итак, по возвращении Настя заблистала в эфире своими американской этиологии умениями, которых в здешних стоеросовых, русопятых краях, никто, даже родная мама, оценить не умел. Наталья Ильинична все пеняла дочери на ее экранную манеру поведения, твердо зная, что нужно местному зрителю, которому на самом деле многого не надо, и нечего его баловать.
— Ровно тебя заморозили! — удивлялась она, отсматривая записи. — Рыбонька, нельзя быть такой сухой, это не в нашем национальном духе. Нельзя про сгоревших во время пожара людей рассказывать так же вяло, как про рыбные консервы, протухшие на складе.
— Что, я должна рыдать? — холодно возражала Настя «ничего не понимающей»' матери.
— Нет, но… — Мама явно отставала от телевизионной моды, слабо разбираясь в ее последних веяниях.
Градус народного обожания тоже заметно снизился. Конечно, девушку все еще узнавали на улице, однако без прежней тотальной любви. Куда-то подевались все эти ветхие старушки в шушунах, которые спрашивали у нее насчет повышения пенсий, как будто она лично заведовала их выплатой, все эти мужчины возраста зрелости, перезрелости и неполовозрелости, которые сначала осовело хлопали глазами, завидев экранную красотку, а потом бросались наперерез через улицу за дохлыми весенними букетиками, чтобы с гусарским шиком одарить ими даму, все эти дети, которые, тыча пальцами, брели за ней следом, чтобы через минуту, сорвавшись, убежать с торжествующим чингачгуковским воплем, все эти девочки с прыщиками, завистливо шушукавшиеся за ее спиной, упоенно разглядывая нерыночного разлива звездные шмотки. Постепенно старушки оставили свои вопросы насчет пенсий, мужчины стали примороженными, как и их январские букеты, а дети, в силу своей природной простоты охотно поддающиеся на любую эмоциональную отзывчивость, просто перестали замечать Настю. Она превратилась в экранную механическую маску — высший пилотаж иностранного вещательного мастерства, которое в родных палестинах, увы, оценить было некому.
Впрочем, Настя не желала, чтобы ее оценивали. Что ей любовь толпы! Что ей зависть коллег!
А между тем ей уже двадцать семь лет — и ничего нового… Подруги все повыскакивали замуж за кого попало, а друзья все переженились на ком придется. Нынешний губернатор — старый партийный хрен, сколько перед ним глазками ни хлопай, он все заученно вешает про промышленные перспективы области, и расшевелить его можно, только сунув под хвост зажженную сигарету…
И вдруг, из сказочного небытия, из прекрасного далека, смяв благообразное и местами даже монотонное течение нашей истории, вернулся в родные края блудный сын Бараненок. И не один явился, а с толстой женой Ольгой и с дочкой, девочкой-поганочкой, явился — Насте на головную боль, а остальным на геморрой и на расстроенные нервы. И кто его сюда звал, в тишайшее провинциальное царство?
Правильно, никто.
Явившись, Сергей Николаевич, некогда наслышанный о неприятностях своих давних знакомых и даже принимавший, надо полагать, некое участие в этих неприятностях, самонадеянно ожидал, что Плотниковы примчатся к нему с поклоном и с благодарностью насчет его поддержки в том самом американском скандале — поддержки, кстати, преимущественно моральной, так как подтвердить или опровергнуть сам факт этой поддержки не мог никто.
Но против ожидания гордые Плотниковы не спешили засвидетельствовать почтение своему юному крестнику и даже, кажется, ждали, что тот первым явится к ним с супругой и с дитем, как к начальнику своего отца, одна нога в министерстве, другая здесь, тем более что в последнее время у Андрея Дмитриевича опять забрезжила небольшая надежда на столицу, опять некий однокашник в нужном машиностроении окопался…
Так и не дождавшись визита, Бараненок крепко обиделся, затаив в душе если не подлость, то низость. Сам он с поклонами заходить не стал и даже, однажды встретившись с Настей на улице, напустил на себя такой высокомерный вид, как будто демонстрировал всем своим одутловатым лицом, что никого узнавать он не собирается!
Оказалось, что Сережу Бараненка выписал себе для помощи в делах коммуняка губернатор, пришедший на смену демократу Земцеву. Надо сказать, во время недавних выборов областные жители, истомленные высоким накалом демократического беспредела и обуреваемые ностальгией по прежним временам, отвергли демократического, выпестованного Натальей Ильиничной кандидата, который, кстати, оказался бы неплохим женихом для Насти, будучи ее давним, еще по музыкальному училищу и студенческим временам приятелем, тем более этот Порошин когда-то ухаживал за ней, цветы дарил, хотя, конечно, не нужно вперед загадывать, тем более что его так и не выбрали… А какого выбрали, граждане, такого и получайте!
Наталья Ильинична по собственной инициативе и на собственную голову демократического Порошина в телевизоре показывала, вечера встреч с ним устаивала, ставила в новости сюжеты о том, как тот, не щадя живота своего, трудится и продвигает вперед отсталую область, и в лоб внушала людям, что только такого губернатора им и надобно, потому что… Потому что сама Наталья Ильинична видела неисчислимые выгоды в губернаторстве своего протеже, выгоды даже куда более явные и значительные, чем в случае с Земцевым, и куда более весомые, чем новая аппаратура для студии, новая норковая шубка и новый шофер-обаяшка… Ее мечты терялись в ультразвуковых стратосферных высотах, грезилась ей абсолютная власть по всему краю, во всей ее полноте и неохватности — власть над нравами, людьми, обстоятельствами и финансами. Но…
Не вышло!
Бульдогомордый коммунист, единственным достоинством которого была огромная, с кукиш, бородавка на щеке, — косноязычный, в морально устаревшем костюме, — воцарился в области назло Наталье Ильиничне и на беду ее малочисленному семейству. Самое ужасное, что по роду своей деятельности Наталья Ильинична должна была угождать и заискивать перед ним, освещать его экскурсии по остановленным заводам, поддерживать его глупые начинания вроде пенсий старушкам и бесплатных сырков учителям, и вообще выказывать ему пиетет и всяческое обожание. К тому же опять готовилась ей замена, опять из небытия возник тот самый, однажды побежденный призрак, двадцать лет как из ВГИКа, заведующий репертуарной частью местного театра. Опять подымался он грозно и напоминающе, как тень отца Гамлета, чтоб ему пусто было, осиновый кол ему в сердце…
Этот бульдогомордый партократ (Пузырев) не только критиковал лично самое Наталью Ильиничну, десять лет на руководящей должности, собаку съела, но и утверждал, будто по ТВ смотреть нечего, городские новости освещаются из рук вон плохо, вечером в сетку ставят американское киностарье, сисястые девки и бандиты с автоматами, как будто у нас самих таких девок нет, а автоматы у нас вообще лучшие в мире, всеми признано. В итоге, не найдя точек соприкосновения с Натальей Ильиничной, он вызвал себе на подмогу помощника, назначил его вице-президентом, возложил на него неприятные для Плотниковой обязанности по связям с общественностью и средствами массовой информации, то есть с нею лично… И кто, вы думаете, был этот самозваный куратор средств массовой информации?
Сережа-Бараненок!
Сережиной семье по приезде выделили служебную четырехкомнатную квартиру, не хуже, чем у Плотниковых, а даже лучше, потому что современной планировки и с двумя туалетами — в центре, прямо напротив оперного театра, так что по летнему времени было слышно, как заезжие меццо-сопрановые звездочки распеваются прямо в душных окнах, полуодето белея в прохладной темноте. Дочку Сережи, бледную поганку, точную копию своего отца во младенчестве, только еще более рыхлую и без яркого румянца по скулам — продукт нового синтетического времени, плод вымученный, хилый, акушерски убогий, — записали в детский сад для местной элиты, где было три языка от носителей, танцы, музыка, бассейн и доктор с защищенной диссертацией.
Жена Бараненка, прокурорская дочка, нигде не работала, домохозяйничала. Ходила она одетая неброско, но дорого, хотя такой чувырле что ни надень — все простовато, все не к лицу, все как с чужого плеча. Гладкое без косметики белое лицо, лицо сердечницы с голубоватыми губами и полным телом — супружеской радости от него, видно, мало, да и Сережа на эти радости, видать, скуп.
Бараненок в своей квартире сразу же обставился, да так, что сразу стало ясно, что квартира эта ему навсегда досталась… Сам он к своим неполным тридцати годам заматерел, раздался в плечах, отрастил на пузе трудовую мозоль. Кряхтя, появлялся из выделенной ему немолодой, но бодрой «бэхи» («БМВ»), одной из лошадок элитного губернаторского гаража, любовно составленного еще прежним, понимавшим толк в красивых женщинах, дорогих машинах и хорошей жизни губернатором, жалко, что его забрали в Москву, и не стало в городе разудалого бесшабашного веселья, не стало налетов на остановленные заводы, к голодающим рабочим, не стало кавалерийских набегов на пригородные бескоровные фермы, не стало спортивных соревнований — команда губернатора на футбольном поле против команды профессионалов, дружеская ничья, совместный банкет в ресторане по случаю матча, ухарство и кураж ушли из городской жизни, осталась только нудная повседневная работа да мелкая подковерная борьба за городской заказ. Только мелкие бандитские распри остались да дружное льстивое единодушие.
Кроме контактов со СМИ, Баранова-младшего обязали курировать еще и взаимодействие губернатора с силовыми органами — должность опасная не столько для самого Бараненка, сколько для людей, у которых отношения с ним складывались не слишком гладко. Должность эта была странная — ну там, если надо с наркотиками побороться, или перекрыть канал оружия из-за рубежа, или закрыть притон с девочками в том самом оперном театре, что напротив чиновничьего кирпичного дома, окно в окно, бесстыдство, дети же видят, развращают нашу молодежь западными фильмами, а потом получают… Закрыть притон, закрыть оперный театр, девиц на трудработы в санаторий для туберкулезных (для стимуляции обоюдного выздоровления)… Все.
Барановы-старшие опять, зазнавшись, перестали заходить на чай к Плотниковым. Наверное, теперь они ходили в гости к прокурору, ему дарили свои хрустальные вазы, перед ним заискивали, а Наталья Ильинична нервничала — потому что, ежели что случится, на нее первую обрушатся, она всегда на виду, на переднем крае, но все равно не хотела первой звонить насчет здоровья и первой в гости не шла, гордячка.
Про Настю и говорить нечего, Бараненок для нее практически не существовал как человек, будучи лишь некой исторической субстанцией, другом детства. Да и не знала она, кстати, что во время той истории с Щугаревым Наталья Ильинична, сглупив, на поклон к Барановым бегала, а если б узнала, устроила бы матери грандиозный скандал. Потому что не надо было этого делать, ведь и так все бесследно схлынуло, времена-то изменились безвозвратно! Кажется, изменились…
— Что изменились — да, — кротко ответила бы Наталья Ильинична, — но что безвозвратно — еще вопрос.
Из опасения перед временами, которые по принципу спиралевидного движения и ренессанса могли еще вернуться (хотя Наталья Ильинична и не задумывалась о таких глобальных исторических подвижках, а мыслила приземленно, оперировала больше интуитивно, чем по расчету), она приняла решение действовать — тот самый инстинкт твердил ей, что медлить нельзя… Бараненка надо срочно нейтрализовать, пока еще он не развернулся в полную силу, к тому же в таком маленьком городе двум мощным личностям никак не ужиться. Под мощными личностями Наталья Ильинична подразумевала себя — естественно — и Сергея Николаевича — вынужденно, тем более что она помнила его в мокрых штанишках, с пустышкой во рту, с соплями до подбородка, с вечными аденоидами и дурацки приоткрытым ртом, — фу-фу-фу, вспоминать противно! — в политике без году неделя, только благодаря своему тестю-прокурору, старому маразматику, советскому выродку…
Между тем прокурор был лично омерзителен для Натальи Ильиничны не только и не столько из-за своего зятя, а еще и потому, что в свое время, взяв на вооружение инспекторские сведения, которые поставлял ему Сережа, будущий родственник, беззастенчиво пенял Наталье Ильиничне на ту самую норковую шубу и на того самого шофера-обаяшку. Прокурор даже возбудил по этому пустячному поводу проверку, которая заглохла только благодаря снисходительности все понимавшего Земцева, смеявшегося над мелкими условностями жизни, такими, как траченная молью шуба и шофер, когда все остальные воруют заводами, а не шубами, наплевав на прокуроров с высокой колокольни.
Итак, Наталья Ильинична, которой не давали развернуться в городе, объявила наступление по всем фронтам. Проконсультировавшись с юристами (те от и до прошерстили законодательство области), она отыскала парочку юридических блошек: например, что коммуняка Пузырев не имел права назначать вице-губернатора по своему усмотрению, ведь должность эта выборная. Таким образом, он применил административный ресурс и нарушил закон. Потому что избирался Пузырев один, без своего «вице», и народ его избирал одного, без «вице», а «вице» народ не избирал, и, значит, Баранов незаконно поставлен командовать общественным мнением и лично Натальей Ильиничной, то есть, конечно, это звучит не так, а по-другому: незаконно поддерживает связи с общественностью и средствами массовой информации, вот!
И уже светил в эфире высоким лбом один местный юрист, и светил лысиной другой юрист, московский, приглашенный за большие деньги, и растолковывали они один другому и, попутно, гражданам всю незаконность местной власти, и талдычили про важность соблюдения правовых норм, и качали неодобрительно головами. И все это так и осталось бы местным, мелкокалиберным «накатом», если бы у Натальи Ильиничны не была припасена тяжелая московская артиллерия, которую она не преминула пустить в ход.
А теперь немного о московской тяжелой артиллерии.
Помните ту неудачную поездку Насти, когда девушку несправедливо обошли на конкурсе, заявив, будто в ней не чувствуется индивидуальности, а в ее конкурентке, которая переспала со всем жюри (о чем болтали в кулуарах, и небезосновательно), эта индивидуальность чувствуется очень остро? Тогда Плотникову продвигал и лоббировал старинный друг Натальи Ильиничны, выходец из местной культуры, с которым у Настиной мамы случился в стародавние времена громкий, но тайный роман, благодаря которому, собственно, — и роману, и деятелю культуры — она и стала руководить местной студией, вполне заслуженно, впрочем, и умело.
Этот человек по имени Захар Шумский был важным деятелем областного масштаба. Однако так и остался бы он куковать со своим областным масштабом, кабы не его брат-уролог, знаменитый Степан Шумский. Этот Степан Шумский пользовал от болезней не только местных партийных функционеров, но и столичных тоже, и не как обычно, ректальным массажем, а преимущественно нетрадиционными методами лечения, а научила его этому какая-то древняя старуха, не то Ванга, не то что-то в этом роде, врать не буду.
Однажды уролог-целитель Степан Шумский вылечил от острого приступа простатита некоего члена президиума, попавшего в их края по служебной надобности, после чего лекаря пригласили в Москву лечить остальных членов президиума, как бы двусмысленно это ни звучало, но правда есть правда… Перебравшись в столицу, Шумский-уролог не преминул позаботиться о Шумском — деятеле культуры, воспользовавшись своими связями с членами, собственно говоря, президиума, чтобы пристроить своего брата. Тем более, что брату переезд был необходим, поскольку его связь с одной журналисткой, супругой директора оборонного завода, выглядела уже чересчур оскорбительно для партийной морали. Шумский-младший, хотя он был на самом деле старшим, с удовольствием перебрался в столицу, сумев благодаря внезапному разрыву сохранить дружеские отношения с Натальей Ильиничной, тогда еще Наташей… Ему волшебным образом дали на откуп международный отдел в ГАСС, причем белые страны, а не черную африкано-азиатскую мелкоту, а Наталью Ильиничну из «Часа производственника» мгновенно вознесли в директоры студии — чтобы она чаше могла ездить в командировки в столицу и даже без своею мужа. С течением времени любовная связь с Шумским сильно ослабела, а деловая, наоборот, окрепла, особенно тогда, когда Шумский перебрался на телевидение (первая
программа, опять же международный отдел, опять же брат-уролог постарался).
Захар Шумский и был тем самым тайным лоббистом Настиных интересов. Но тогда он не смог победить интересы других лоббистов, потому что числился всего лишь четвертым заместителем директора первого канала по детскому вешанию. В итоге Настя кастинг не прошла — ибо что такое было «детское вешание» против «спортивного», «международною» и «заместителя по рекламе», вместе взятых и скооперированных любовью к одной глупо-белокурой конкурсантке, итоговой победительнице!
Итак, у Натальи Ильиничны имелся в запасе тайный козырь, и она не преминула им воспользоваться. Шумский, узнав о беззакониях, творимых новым губернатором, поднял шумиху, пользуясь детским вешанием как своим собственным. Он-то и дал знать Земцеву, что с его уходом в большую политику демократия в его родной области глохнет и чахнет, а прогрессивных деятелей, которые самоотверженно указывают на попирание законности, гнобят почем зря, вытащив из нафталина дело о шубе и шофере, а между тем шубу давно сожрала моль, а шофер разбился по пьяной лавочке.
Земцев, как всегда, когда речь заходила о демократии и законности, сделал рефлекторную стойку, чтобы бороться с нарушением этой самой законности, за эту самую демократию. Тем более, что, поднаторев в политических играх, он уже смутно подозревал, что его влияние на властном Олимпе вскоре сойдет на нет и ему, возможно, придется возвращаться на родину, хорошо бы там построить для себя запасные аэродромы и организовать новые каналы влияния.
Вскоре появились признаки надвигающегося шторма — первая рябь на воде, первые, еще отдаленные громовые раскаты, первые, косо падающие крупные капли, последний луч света, вырвавшийся из-за туч… В газетах запестрели заметки о неправильно назначенном «вице», на телевидении замелькали коротенькие репортажики о борьбе праведных и неправедных, где под «праведными» подразумевались некоторые здоровые силы области, а под «неправедными» — известно кто… Короче, начала разыгрываться одна из тривиальнейших партий, которые обычно ничем не заканчиваются, потому что длятся годами, то затихая, то возгораясь, а в конце концов победители договариваются между собой, ибо так выходит дешевле и проще. И то. что изначально выглядело как борьба добра со злом, неожиданно, сменив окраску, превращается в борьбу плохого с худшим, а кто участвовал и сопереживал этой борьбе, тот по ее окончании остается в дураках.
Кресло «вице» под Бараненком опасно зашаталось, губернатор, его патрон, испуганно затрепетал, потому что он сызмальства не привык к тонким закулисным интригам, предпочитая идти напролом. И хотя кресло под Натальей Ильиничной шаталось тоже, прямо-таки тряслось, и заведующий репертуарной частью уже заносил над ней свою карающую длань, но Плотникова все же не теряла. надежды.
А что же Настя, спросите вы?
Пока что она покорно следовала в кильватере своей матери, играя в нашем повествовании партию второй скрипки, чтобы уже в следующей главе, оставив закулисье, единолично выйти на авансцену рассказа, полностью завладев вниманием любезного читателя.
Кстати, в том, что в споре двух властей вышла победителем четвертая власть, пятая колонна, виноват был один губернатор Пузырев. Эх, выполнил бы он то, о чем просил его «вице», различавший угрозу в розовой дали, которую губернатор-оптимист принимал за померанцевый рассвет, полный надежды, тогда как это был кровавый закат, полный безнадежности… Обратился бы Пузырев с жалобой в министерство, в ведении которого числился тот самый завод, коим бессменно руководил Андрей Дмитриевич, — глядишь, по-другому сложилась бы наша история, другие бы в ней оказались победители и побежденные. А может, вообще никаких победителей и побежденных не было бы, потому что не случились бы многие сражения и много чего стало бы ненужным и невозможным, например Настин переезд в Москву, который вскоре должен свершиться, но не благодаря Шумскому-урологу, который к тому времени потерял влияние во всех сферах жизни, кроме собственно урологической, а благодаря Шумскому — деятелю культуры. Тот, может быть, станет, наконец, первым заместителем, потом перепрыгнет в директоры дирекции детского вещания, если ему не помешает та сугубо областная, мелкая грызня, длящаяся уже много лет и всем надоевшая, уже даже и мне, которая об этом вынуждена писать, когда хочется писать о большом и светлом, великом и чистом, грустном и большом, о несбывшемся, но таком возможном…
Итак, — вкратце и вскользь, курсивом и петитом, штрихпунктирно и прерывистой волнообразной линией — опишем!
Хотя правда-матка была на стороне Натальи Ильиничны, но губернатор-интриган, жажди реванша, объявил наступление на строптивую директрису. Сначала Плотниковой попытались припаять уголовное дело. Суть его сводилась к тому, что деньги за рекламу, размещаемую на канале, проходили мимо кассы телекомпании. Закрутила дело областная прокуратура по результатам проверки контрольно-ревизионного управления (чувствуется хищная лапа Бараненка!). Проверяющие выяснили, будто бы городское телевидение недополучило три миллиона рублей. а необоснованные скидки за рекламу составили четыреста тысяч рублей. Умело науськиваемая кем-то невидимым прокуратура установила, что руководитель студии, то есть мадам Плотникова, самолично предоставляла эфирное время для рекламы коммерческим фирмам, однако договоры на размещение рекламных объявлений не заключала. За это. следовало из материалов уголовного дела, обвиняемая получала от рекламодателей деньги, компьютеры, аудио- и видеотехнику…
Наталья Ильинична рыдала. Она не представляла, куда могли подеваться оригиналы договоров, которые лежали в такой синенькой с золотым папочке… Может, их кто-то видел?
Никто не видел, кроме… кроме Вени Борчина!
«Вице»-Бараненок выудил из небытия мальчика Борчина, который после американской стажировки мирно служил в телевизионном хозяйстве, ничего не имея против своей начальницы Натальи Ильиничны, кроме того, чтобы ему и дальше продолжали повышать зарплату, нестерпимо маленькую по нынешним инфляционным временам. Веню вызвали пред ясные вице-губернаторские очи и сказали, что от него ждут свершений на благо родного края. Мальчик потупился, пробормотав, что готов по зову сердца, по велению долга… И согласился информировать Баранова относительно планов Натальи Ильиничны, ее промахов, просчетов и служебных (с кем не бывает!) оплошностей: Именно в портфеле Борчина покоилась та самая синяя с золотом папочка…
Бывшему стажеру пообещали платить зa поставленные сведения, а также намекнули на перспективу карьеры. Мальчик, а точнее, юноша, а теперь еще и муж (он только что женился), Борчин согласился с предложением. Для затравки он выдал сведения относительно стажировки, которая запятнала честь Плотниковой младшей пособничеством изменнику родины.
«Вице» поморщился: та давняя история по нынешним арестам совершенно не котировалась.
Тогда мальчик выложил про норковую шубу. Но и это была битая карта…
Тогда мальчик-юноша-муж Борчин, напрягшись еще раз, откопал что-то про трубы на заводе Андрея Дмитриевича, которые пошли налево, но до этого «лева» так и не дошли. Возбудили шумиху в прессе и замутили проверку то налоговой линии.
Проверка показала, как дважды два, что трубы дошли, куда шли, но потом вернулись обратно за ненадобностью и некондицией и уже благополучно сгнили на складе.
А потом Борчин переметнулся на сторону служения Наталье Ильиничне, справедливо полагая, что губернаторские посулы все еще остаются посулами, а кушать хочется уже — сегодня. И поведал своей патронессе про сделанное ему предложение, объяснив, что он согласился с ним только для видимости, лишь для того, чтобы поподробнее рассказать о злобных происках их невинной жертве.
Наталья Ильинична в знак признательности поставила мальчика (а также юношу и мужа) на материально ответственную должность, назначив ему премии, съемочные и прочие выплаты.
Таким образом Борчин стал работать двойным агентом на двойном гонораре и с двойной же выгодой — потому что от губернатора, сообщив ему о трубах, он получил квартиру, а от Натальи Ильиничны, вовремя сообщив о тех же трубах, получил денег на меблировку жилья. Трубы быстро вывезли самолетами оттуда, где они были, вернули их, куда нужно, и даже успели сгноить.
Правда, позже Борчин решил окончательно переметнуться на сторону губернатора. К тому времени он уже собрал данные о грехах Натальи Ильиничны, однако оказалось, что окончательно перекинуться на выгодную ему сторону он не может, потому что директриса тоже припасла на него компромат.
Потому что материально ответственные должности просто так не занимают! Потому что даже на мелкой должности трудно удержаться от крупного воровства, а должность Борчина предусматривала возможность избавляться от устаревшей аппаратуры, сбывая ее местным порностудиям и районным домам культуры за приличную мзду.
И пришлось Вене осесть на коротком поводке, который туго, под самое горлышко затянула на нем Наталья Ильинична. И пришлось ему отказаться от сотрудничества с губернатором в той форме, которую от него требовали, — в форме компромата, чтобы продолжить его в форме прямого восхваления достоинств Натальи Ильиничны, ее превосходных качеств и свойств.
Тогда, поняв бесперспективность борьбы на данном этапе, губернатор торжественно примирился с гранд-дамой городского телевидения, и первая власть облобызалась с четвертой, и вскоре дядя Коля Баранов с традиционной хрустальной вазой забежал «на Огонек», и в городе воцарилось хрупкое, легко нерушимое равновесие, баланс сил, консенсус интересов.
Все эти события произошли аккурат перед тем, как Настя переехала в Москву, выйдя, наконец, из тени своей матери, из вторых, ведомых скрипок нашего повествования в скрипки первые, сольные, ведущие. Потому что кончилась та часть ее жизни, где она была маминой дочкой, папиным солнышком, и началась часть вторая, менее светлая, чем первая, и гораздо более драматическая.
Часть вторая
АНГЕЛ В ЭФИРЕ
Глава 1
В последние год-два Наталья Ильинична часто названивала Шумскому — будто бы просто так, поболтать о том о сем, справиться о здоровье, напомнить о былом, помечтать о грядущем… И они мирно болтали, жаловались на здоровье, вспоминали о былом, сожалели о грядущем. И в конце долгого междугороднего разговора неизменно звучал аккордный вздох Натальи Ильиничны:
— Ну, что там у вас с кадрами, Захарчик? А то моя Настенька все в Москву рвется. Только боюсь отпускать девочку… Кровиночка, золотко, такая красавица! Ну, ты же помнишь, какая она…
Шумский помнил, конечно. Он мялся, жевал губами и мычал, но прямо отказать бывшей зазнобушке не решался.
— Я ведь на детском вещании, — скромно напоминал он. — Многого не могу… В сущности, я всего-навсего пешка…
Но Наталья Ильинична знала, что связи на телевидении превращают пешку в ферзя, и упирала именно на них. Впрочем, напрямую требовать услуг от Захара она, конечно, не могла, поэтому ей приходилось пользоваться намеками, надуманными и даже лживыми.
— Недавно видела твое фото в газете, — ворковала она грудным, бархатным голосом. — И ты знаешь, что я тебе скажу, Захарушка… С годами она становится все больше похожей на тебя. Правда-правда! У нее твои глаза совершенно, и нос…
— Да? В самом деле? — оторопело удивлялся Шумский. Ведь, если ему не изменяет память, познакомились они с Наташей уже после рождения девочки, а сошлись еще позже… Но может, изменяет?
Между тем Наталья Ильинична, умело лавируя между воспоминаниями с сожалительным привкусом и надеждами на будущее с привкусом оптимистическим, долго расспрашивала собеседника о разводе с женой, и как дети, то есть сыновья, навещают ли отца… И, услышав, что жена живет отдельно, дети пристроены в телерекламе и наилучшим образом, а отца они не навещают, поскольку и так ежедневно видятся с ним по служебной надобности, торжественно восклицала:
— Вот видишь, это же сыновья!.. — С присущим ей напором она втолковывала Шумскому, что сыновья — это одно, а дочь — это другое, вот она, отрада родительскому сердцу, вот она, услада и упокой, вот оно, бессреб-реничество и благодарная нежность, и все это будет — только кликни, только позови, только пристрой… — Настя так талантлива! — восклицала Наталья Ильинична. — Захар, ты же помнишь того педагога, который прочил ей…
Что-то такое Шумский действительно припоминал.
— А какая она красавица!..
Захар, вспоминая Наташу в молодости, вполне верил в красоту ее дочери.
— А какой у нее английский язык! Вот бы ее на информационное вещание пристроить, в иностранный корпункт…
— Но я на детском вещании, — слабея и душой и голосом, кротко блеял Захар.
— Ну кассетку-то ты можешь передать хотя бы? — не сомневаясь в могуществе своего бывшего любовника и тем самым тайно льстя ему, напирала невидимой, но ясно воображаемой грудью Наталья Ильинична. — Кто там у вас этим заведует…
А Шумский, вспоминая, кто именно заведует информационным вещанием, внутренне содрогался, ведь заведовал им твердолобый, старой закалки партиец, ставивший голые принципы выше морали, а интересы дела выше интересов личности. Это был безнадежный, отживший свое ортодокс, одно обращение к которому сулило явные неприятности, не только лично для Шумского, но и для всего детского вещания в целом, которое и так переживало не лучшие времена и даже вынуждено было давать рекламу презервативов в «Спокойной ночи, малыши», утешая свою совесть тем, что детки все равно ничего не поймут, а вот их родителям будет полезно, и потом — сексуальное воспитание молодежи! — есть сейчас такой полезный лозунг в наше малолозунговое, принципиально беспринципное время.
Капля камень точит — так и Наталья Ильинична точила Шумского, пока тот, наконец, не решился помочь своей дочери — пусть не настоящей, а духовной, названой. Тем более, что «дочка» — умница-красавица, не первый день на ТВ, с американской стажировкой в анамнезе, с кучей доморощенных дипломов, свидетельствующей о победах в журналистских конкурсах: «Лучший репортаж», «Лучшее интервью», «Лучшая ведущая», «Мисс городское ТВ», «Любовь зрителей», «Мечта мужчин» и т. д. и т. п.
И потому, когда объявили конкурс по всей стране, что-то типа «Алло, мы ищем таланты», участвовать в котором имели право провинциальные и даже совсем подпольные студии, дядюшка Захар подсуетился насчет своей иногородней протеже. Дела у него складывались удачно: недавно на метровой частоте начал работу новый канал, куда Шумский плавно переехал вместе со всем детским вещанием, и даже при всем обилии московских кузин и племянников, тетушкиных деток и бабушкиных родственниц, любовниц важных банкиров, мечтавших засветиться в «ящике», а также самих банкиров, мечтавших о том же, образовалась некоторая нехватка кадров, которых хоть и переманивали с других каналов, но переманить в достаточном количестве не могли, да еще на такую зарплату, на которую звезд первой величины калачом не заманишь… С техническим персоналом проблем не было — редакторов брали с филологического, режиссеров, благо отечественное кино тихо, но верно загибалось, из ВГИКа, операторов — с кооперативных свадеб, звуковиков — с заводского радио. Их наспех переучивали, наскоро воспитывали, только бы оправдать спонсорские вливания, только бы ухватить денежный кусок, освоить его, переварить и не подавиться. А вот свежих, незахватанных лиц и неистрепанных мозгов для нового, с иголочки канала не хватало.
Говорят, что случаются на телевидении чудеса, и до сих пор ходят по «Стаканкино» (так обыватели называли «Останкино» по его давним буфетным привычкам) слухи: будто бы однажды, когда не оказалось под рукой корреспондента, поставили водителя студийной машины перед камерой — и тот блеснул! Тогда назначили его из водителей в корреспонденты, а потом в ведущие, а потом в директора программ, а теперь он уже целым каналом заведует… И между прочим, не каким-нибудь каналом имени Москвы, а самым что ни на есть телевизионным каналом, и даже в правительство вхож, он там свой человек, — и это без рожи, без кожи, без специального образования, без протекции, только по благости звезд и по недосмотру шального перестроечного времени, славного своими перевертышами!
Но теперь, увы, иные времена: телевидению требуются крепкие профессионалы, обученные и вымуштрованные, а для неофитов и практикантов дорога на ТВ закрыта. Между тем профессионалов по-прежнему мало, они нарасхват, на вес золота.
И вот, чтобы отыскать этих профессионалов, руководство новорожденного канала и объявило журналистский конкурс. Состязания претендентов должны были состояться в прямом эфире, в сопровождении традиционной конкурсной шелухи — с голосованием широких телезрительских масс по телефону, с денежными призами и подарками, с вызовом определившегося победителя в студию, под прямой принципиальный взгляд телекамер, с лицезрением его счастливых слез, с фанфарами и литаврами, с лавровыми венками и приглашением триумфатора на работу. Везунчику предназначалась для единоличного заведования новостная программа, а что такое новостная программа, объяснять, думаю, не надо — это безусловный прайм-тайм, это сумасшедшие деньги, сумасшедшая слава, сумасшедшая народная любовь, наконец…
На самом деле проходил конкурс так.
Два хмыря в монтажной записывали видеокассету для отборочного тура, отметая явно провальные, сделанные на коленке материалы.
— Это чья кассета? — берясь за черный прямоугольник, спрашивал один из них, с коротким ежиком волос, из-под которых просвечивал плешивый затылок.
— Артемьева, — ответствовал его напарник с перхотью на плечах.
— Угу.
Кассету переписывали, выбрав из трех сюжетов один, самый короткий, двухминутный, чтобы не утомлять просмотром и без того измотанное собственной жизнедеятельностью жюри.
— Это чья? — брался за новую кассету Плешивый.
— Шумского.
— Мальчик от него?
— Нет, вроде девочка.
Помолчали недоуменно. Удивленно переглянулись.
— Кто такая? Откуда?
— Почем мне знать…
Молчание. Мелькание кадров на экране.
— А она ничего, — признали, глядя на Плотникову, проникновенно вещавшую с экрана о беспризорных детях.
— Ну да… Сиськи у нее знатные… Только все равно не пройдет.
— Почему?
Короткий смешок в кулак, от которого перхоть поземкой взметывается по плечам.
— Ха! Мы, онанисты, народ плечистый, нас не заманишь сиськой мясистой, — ответствовал Перхотный, увиливая от прямых объяснений и довольствуясь скабрезной, допускающей разные толкования косвенностью.
— Да ну брось ты… Шумский, говорят, скоро все производство рекламы под себя подомнет… Его сыновья ролики «работают» для канала.
— Ага, дадут ему… Знаешь, сколько без него желающих? — Кивок на мутно серевший монитор. — Это его дочка, что ли?
— Ясен пень… Не любовница же! Всем известно, что на нашем канале задом, как та избушка, не поворачиваться…
— А ты и не поворачивайся, — посоветовал Плешивый и вздохнул: — Ладно, запишем и эту кралю на всякий случай…
Следующей оказалась пожилая тетка от некоего Куропятова, который раньше был банкиром, а теперь подвизался неизвестно где и непонятно кем, но на канале его еще помнили по славному банкирскому прошлому. Куропятовскую тетку обрезали по самые пятки, оставив для приличия только фиксатую улыбку на крупном плане. Также поступили с Фридманом, от которого был племянник откуда-то с северов, невзрачный, но бойкий. От Гутионтова была внучка с дефектом дикции — младенческой шепелявостью. Внучку пришлось оставить, хотя она явно ни на что не годилась.
Переписали работы еще нескольких важных и не очень конкурсантов, для контраста разбавив их провинциальным надрывом, чрезмерным как по накалу, так и по чрезвычайно низкому качеству материала.
Когда кассета была сформирована, Перхотный с усмешкой предложил напарнику:
— Ставлю сто «бакинских» на ту грудастую от Шумского.
— Считай, сто «бакинских» уже у меня в бюджете, — осклабился в ответ Плешивый. — Шумский на канале никто, скорее уж Гагузяп свою блондинку протолкнет.
— Блондинка слабая, — авторитетно заметил Перхотный. — А Цыбалин, говорят, нынче не в фаворе, с верхов на него катят… А ты на кого ставишь?
— На шепелявую, — усмехнулся Плешивый. — Ставлю сотню.
— Думаешь, Гутионтов пропихнет свою внучку? Старик давно в маразме, его никто не слушает…
Разбили руки.
— А если выйдет по нулям, ни мне, ни тебе? — поинтересовался Плешивый.
— Тогда сложим бабки и отправимся в санаторий лечить печень. Половина — на выпивку, половина — на рулетку.
В студии погас свет.
— А где кассета-то? — невзначай спросил Перхотный.
— В ящик бросил… Завтра в жюри отнесу, — зевнул Плешивый, показывая зубы, похожие на черные горелые пеньки, оседлавшие младенчески розовую челюсть.
Вышли. Покурили на крыльце. Уже подходя к автостоянке, Перхотный вспомнил:
— Черт, ключи забыл… Придется вернуться…
— Брось, нам по пути, а тачку завтра заберешь.
— Мне мать вечером на дачу везти, так что лучше вернусь, — отказался Перхотный. — Ну, пока!
Плешивый уехал, а Перхотный вернулся в здание телецентра.
Кивнул на входе знакомому милиционеру. Поднялся в монтажную, выудил кассету из ящика стола.
Замелькали на быстрой прокрутке немые кадры, а потом шепелявая кандидатка зашамкала на экране ярко накрашенным ртом — уже со звуком и в нормальном темпе.
Перхотный несколько раз просмотрел сюжет. Почесал подбородок рукой, взбодрил перхоть, ровным слоем обсыпавшую чубчик.
Потом принялся колдовать.
Обрезал слегка начало. потом конец — совсем чуть-чуть. Речь заглушил, наложив еще одной звуковой дорожкой дополнительные шумы: шепелявая зашамкала совсем уже нестерпимо, с присвистом. Потом, манипулируя палитрой цветов, слегка зажелтил лицо, отчего оно приняло вид угрюмый, совершенно волчий, сдвинул кадр, увеличив изображение, так что голова конкурсантки заполнила собой все пространство экрана.
Еще раз прокрутил пленку, раздумывая. Сильнее испортить материал было трудно, если не невозможно.
Потом ночной ваятель набело переписал плоды своих тайных стараний.
— Сто «бакинских»… — ворчал он. отправляя кассету на прежнее место. — Ишь ты. разогнался… Думает, на верняк поставил и можно деньги в карман положить, не парясь… А вот хрен тебе!
Полюбовавшись репортажем о беспризорных детях, точнее, его прелестной авторшей, он вдруг возмутился вслух, обращаясь к экрану:
— Господи, ну кто так монтирует — левой ногой и без глаз! Ну и специалисты у них в этом Забрюхатинске. или как там его…
И принялся перемонтивать сюжет — переделывать склейки, совсем уже топорно лезшие в глаза, сокращать, где можно… После полуторачасовой работы репортаж смотрелся почти по-останкински — то есть почти прилично, почти на уровне.
— Жалко, исходников нет. — вздохнул про себя ночной Пигмалион. набело переписывая свою Галатею.
Возвращая кассету в стол, он самодовольно усмехнулся: сто долларов практически у него в кармане. Не все же Плешивому выигрывать, в самом деле!
Предварительное заседание жюри (оно же и окончательное) проходило в кабинете генерального директора. На нем присутствовал весь цвет канала — сам директор, его заместители подневному и общественно-политическому вещанию, директор по связям с общественностью, информационный директор, главный продюсер и так, разная мелочь вроде Шумского.
Междусобойчик был в самом разгаре, когда генеральный директор Цыбалин, оторвавшись от рассказа о своих недавних трениях с министром информации (тот старался отхапать заказ на рекламу для тайно руководимого им агентства, которое давно уже оккупировало все федеральные каналы и теперь мечтало простереть свою длань и на новорожденный «метровик», суля его руководителям вечное министерское снисхождение), плавно перешел к текущим проблемам.
— Конечно, полтинника я ему не дам, хватит с него и двадцати процентов, — рокотал Цыбалин, откидываясь на спинку стула. — Уже и дом на Лазурном Берегу построил, а все гребет себе… Нам дело подымать надо, — он об этом подумал?
— Как бы не прогадать, — осторожно заметил Шумский. — Может быть, лучше не ссориться с министерством?
— А как работать без рекламы? — возмутился Цыбалин. — Пусть меня поцелуют в нижние щеки, ежели я отдам ему больше двадцати процентов… Кстати, из министерства прислали кого-нибудь на конкурс?
— Какого-то мальчика, — брезгливо поморщился директор по связям с общественностью.
— Что за мальчик? Чей-то сын?
— Чей — неясно, но кассету прислали с министерской сопроводиловкой.
— Ну а мальчик — что он из себя представляет?
— Ну, мальчик средний… Но будем надеяться, что поддается дрессировке… Так что, его поставим на первое место?
— Придется… Ну, значит, даем министерству двадцать процентов плюс отдаем на откуп их кандидату новостную программу. Пусть добирают «джинсой»!
Шумский озабоченно покачал головой. Одновременно с ним покачало головой дневное и утреннее вещание.
Двадцать процентов министру было мало, это был прямой повод для ссоры, а ссориться с властями предержащими выходило себе дороже.
— Может, лучше согласиться на тридцать процентов, а на конкурсе отобрать действительно достойные кадры?
Цыбалин сморщил узкие, брюзгливые губы, что означало у него нескрываемое раздражение.
— Сколько мы сняли со спонсоров под конкурс? — осведомился он.
Ему назвали цифру — шесть нулей, потом семь, потом восемь…
— Кстати, банк «Северный» очень просит за свою девчонку, — напомнил Шумский. — Я ее видел, она ничего. У меня, кстати, тоже есть одна на примете… Хорошенькая…
— Что такое этот «Северный»? — поморщился Цыбалин. — Сегодня он есть, завтра обанкротится, а министерство нам по жизни терпеть, так что обойдемся без банкирских девиц. Приткните ее куда-нибудь на музыкальное вещание, там такие постоянно требуются…
Итак, все было решено, победитель назначен. Итоги конкурса были подведены, хотя сам конкурс еще не состоялся.
Наталья Ильинична совершенно не сомневалась в успехе, который был сужден ее дочери. Она и Настю убедила в нем, опираясь не столько на свой профессиональный опыт, сколько на свою давнюю связь с Шумским.
Всей семьей ждали трансляции конкурса, которая должна была проходить в прямом эфире, в неудобное, какое-то полдневно-утреннее время, в выходной день. Телезрителям предлагалось звонить по телефонам, чтобы выразить свое мнение об участниках звонками, по числу которых и будет определен победитель — однако не прямо и однозначно, а косвенно, с учетом мнения людей компетентных и признанных: ведь заседавшее в зале жюри (крупный план известных телеведущих, так сказать, совесть нации, — актеры, режиссеры, продюсеры и прочие телевизионные, захватанные и не слишком физиономии) должно было скорректировать зрительские голоса в сторону явной профпригодности, прибавив лишние или убрав недостающие баллы. Итоговый победитель должен был определиться по совокупности зрительских голосов и голосов жюри.
Конкурс начался, экран стал показывать сюжеты отобранных кандидатов, предваряя их краткой информацией об авторе, зрители непрерывно звонили в студию, цифры в углу кадра мелькали, подсчитывая звонки, жюри ставило свои оценки — за телегеничность, за качество материала, за манеру держаться, за все, за все, за все! — чтобы по совокупности баллов выявить несомненного фаворита. Но участников конкурса было много, и оценок было много, и чисел на экране было много…
Настя вздрогнула от волнения, различив на экране первые кадры своего «беспризорного» репортажа.
— Ничего, ничего, — подбадривала ее Наталья Ильинична, смятенно проседая голосом, — отлично смотришься, твой материал на голову выше всех остальных, да и звонков видишь сколько?
Но от волнения девушка не могла по достоинству оценить работу своих соперников. Она только заметила, что на ее номер позвонило очень много зрителей, сколько, правда, не ясно, — числа мелькали с хаотической, не поддающейся анализу быстротой.
— Ой, Янтаренко поставил тебе «отлично» за телегеничность! — подскакивала возбужденная Наталья Ильинична, разглядев что-то на экране во время короткого промелька.
— Да? — лепетала Настя. — Где? Правда?
— А Берсков — три за обаяние! — возмутилась мама. — Старый пердун!
— Господи! — Настя бессильно сжала кулаки.
В конце концов объявили победителя… Им оказался столичный косенький мальчик, который сразу же после объявления своей фамилии отправился в студию получать приз, поцелуи председателя жюри и какие-то конверты, о чем-то свидетельствующие…
Настя побледнела как полотно.
— Что это? — не поняла она. Наталья Ильинична сидела точно обваренная кипятком.
Очевидно было, что везунчик оказался в студии не просто так, а был приглашен заранее. Значит, его выбрали еще перед конкурсом. А то, что Настю не пригласили в Москву для подведения итогов, явно свидетельствовало о том, что ее кандидатура даже не рассматривалась в качестве победителя. Ни одной минуты!
— Ну я им устрою! — грозно воскликнула Наталья Ильинична, осознав изначальную предопределенность дочкиного поражения. — Мальчик явно слабый, я бы такого к себе ни за что не взяла, хотя у нас в городе кадров в обрез! Он зажат перед камерой, он свистит ртом, он проглатывает окончания, а текст читает заученно-монотонно, как «Отче наш»! А сам материал… Ерунда на постном масле!
Подталкиваемая справедливым гневом, она потянулась к телефону.
— Мама, не надо! — пролепетала Настя, бледная от свершившейся несправедливости. Звонками делу не поможешь, она окончательно и бесповоротно проиграла. К тому же ее позор видела вся страна, весь город! Теперь не оберешься соболезнующих охов-вздохов…
— Что «не надо»?.. Нет, я ему скажу! Он узнает у меня, почем фунт изюму! — бушевала Наталья Ильинична, рассерженно давя на кнопки. — Ну, я устрою скандал в прессе — с их судейством, с их звонками, с их подкупленным жюри…
Телефон, как на грех, не желал соединяться с Москвой. Линия шипела и трещала, как взбешенная змея.
— Я… я поеду в министерство… Да, в министерство! Там меня знают, я там однажды была… Я им открою глаза! Я год назад встречалась с министром на заседании, он меня запомнил! Я ему выскажу всё! Всё! Там всё куплено и все куплены!
Угрозы Натальи Ильиничны были тем сильнее, чем острее она ощущала свое абсолютное бессилие.
Наконец, бросив телефонную трубку, с перепугу отзывавшуюся прерывистым зуммером, она констатировала с хищным прищуром:
— Короткие гудки… Захар от меня скрывается, подлец! — Спокойная, как шторм, выдохшийся после суток непрерывного бушевания, Наталья Ильинична рухнула в кресло.
Минуту спустя она проговорила с мудрой рассудительностью:
— В конце концов, истинная победительница — это ты, Настя… У тебя больше всего зрительских звонков, у тебя высокая оценка Янтаренко — а это много значит, кстати… Что ж, и в нашем городе можно жить, и работать, и побеждать в конкурсах, — с вялой неубедительностью продолжала она. — А потом мы опять попробуем… Через год, через два… Но все-таки Шумский у меня попляшет, как окунь на сковородке!
— Не надо, мама, — устало проговорила Настя, совершенно убитая своим провалом. — Проиграла так проиграла…
Внезапно пасмурный и вязкий полумрак комнаты вспорол продолговатый телефонный звонок.
— А, это ты… — тускло отозвалась Наталья Ильинична, схватив трубку. — Да, все видела, конечно… И я хочу тебе заметить, дорогой… — Отливавший металлом голос вдруг гневно сорвался с верхней ноты, застыв в томительном многоточии.
А потом отозвался неожиданно покорно, даже ласково:
— Да… Хорошо… Конечно… Завтра? Годится. Обязательно… Спасибо тебе, милый!
И, возвратив трубку на рычаг, мама произнесла почти обыденно, выдохнув из легких вязкий, сгущенный напряжением воздух:
— Так, значит, все-таки Москва… Фу-у-у!
Итак, Настю приглашали в штат программы корреспондентом. На рядовом канале, в заштатной передаче.
Но все-таки — в Москву, в «Останкино»!
Через несколько лет, готовя текст для очередной передачи, Настя скажет, просияв вспоминающей улыбкой:
«Часто мы думаем: нам обязательно достанется то, чего мы достойны… Но, увы, как правило, мы вынуждены с кровью добиваться предназначенного нам — а именно так поступила героиня нашего следующего сюжета… Жизнь изначально несправедлива, и надеяться, что вы победите только потому, что достойны победы, слишком самонадеянно!»
Тем не менее она победила…
Глава 2
Надо сказать, наши хорошие знакомые, Плешивый и Перхотный, тоже были не в восторге от конкурса. Каждому было жалко своих денег, но еще жальче было тратить честно заработанные доллары на принудительную гульбу.
— Ну что, по нулям? — скрепя сердце предложил Плешивый.
— По нулям, — скрипя тем же самым органом, согласился Перхотный.
Таким образом, каждый остался при своих.
— Эту грудастую, которая от Шумского, все-таки взяли, — помолчав, добавил Перхотный. — Корреспондентом в штат. У нее приз зрительских симпатий, как-никак… Против мнения народа не попрешь!
— Да, народ у нас простой… Вот если бы она без блузки выступала, точно победила бы. С такой-то грудью! — с ухмылкой возразил Плешивый.
Он выразительно закатил желтоватые белки глаз, на короткий миг превратившись в бельмастого слепца-рапсода.
Перхотный заметил:
— Ладно, будет хоть одна смазливая мордашка на нашем канале, а то на этих теткиных племянниц без слез смотреть нельзя. Ни рожи ни кожи!
— Парни тоже дрянь, — сочувственно подхватил собеседник. — Третий класс, вокзальный вариант. Глазу отдохнуть не на чем…
Кому что нравилось…
Руководителем канала, только что отстроенного на пепелище местного вещания, был Цыбалин Игорь Ильич, широко известный в узких кругах телеобщественности. На канале его звали Главным.
Главному уже стукнуло шестьдесят, это был старый матерый телевизионщик, не только удачно переживший все неприятности партийного крушения, но даже извлекший из него некоторые материальные дивиденды и наладивший полезные связи в высоких московских кругах. Ходили слухи, что в советское время он, несмотря на свою партийную ангажированность, а может быть, и благодаря ей, занимался тем, что тиражировал кассеты на вывезенном из-за границы магнитофоне, снабжая этим ходким товаром нужных и важных людей. Говорили о нем также как о пионере отечественного телевещания, однако никаким пионером он никогда не был, если только в школе, а занимался тем, что в советское, не любившее выскочек время скромно цензурировал телепередачи, выискивая блох инакомыслия в пышной шевелюре безупречно-партийного вранья.
В конце восьмидесятых он стремительно выдвинулся из задних, подпирающих, образно говоря, стенку рядов. Уловив нотку гласности, еще неясно и смутно носившуюся в воздухе, он эту нотку ретрансляционно усилил разоблачительными передачами в историческом, посконно-лаптевом духе. Игорь Ильич всегда чувствовал конъюнктуру — тем и был силен. К началу девяностых он уже обладал немалым политическим капиталом, который заработал на развлекательных ток-шоу, где секс в удивительной пропорции мешался с политикой, так что политика начинала походить на секс, а тот превращался в общественно-политическую, вне-личностную задачу. Популярность его передач зашкаливала: в них известный демократ спорит с порнозвездой, которая, несмотря на постсоветское дефлорирующее бесстыдство, безуспешно притворялась актрисой. Постепенно о Цыбалине в «Останкине» стали говорить, что он даже из провального «Сельскохозяйственного часа» сможет смастерить сумасшедший по рейтингу телепродукт.
О его деньгах болтали многие, о его тайной жизни не знал никто. У него, кажется, когда-то имелась жена, домохозяйка, о которой мало что было известно, сын-музыкант, давно порвавший со своим отцом, но главное — в нем подозревали главаря той самой «голубой мафии», о которой так много кричали в прессе.
В тот день Цыбалин объявил собрание для только что набранных работников канала, в числе которых была и Настя. Она уже знала, что руководителем программы «Побудка», куда ее пригласили работать, назначили немолодого пузана с вислым носом и мокрыми губами по фамилии Гагузян. Про него говорили, что Гагузян — армянин из Карабаха, бывший цеховик, невесть какими клановыми путями проникший в «Останкино».
Сотрудники в свободном порядке расселись по стульям. Настя облюбовала себе место в сторонке, — она здесь никого не знала, и ее никто не знал. Настороженное отношение к себе она уловила с первой секунды после проникновения в святая останкинских святых — верно, коллеги небезосновательно подозревали, что она попала сюда не столько благодаря конкурсной удаче, сколько по протекции. Технический персонал — операторы, видеоинженеры, звуковики, режиссеры, редакторы — кучковался наособицу от корреспондентов.
Многие из присутствующих давно знали друг друга и неплохо ладили — это было видно по теплым взглядам, рукопожатиям, коротким поцелуйчикам, выдававшим старинные деловые, если не интимные связи. Кто-то с кем-то раньше работал, кто-то с кем-то раньше выпивал в останкинском буфете, кто-то с кем-то соревновался на вечеринках в литрбол, кто-то кому-то был должен — если не в материальном, то в матримониальном плане, кто-то с кем-то когда-то спал (по приязни или по деловой необходимости, все равно), кто-то на ком-то когда-то был женат — флюиды старых связей, коммуникативные обрывки взглядов и улыбок плотно густели в воздухе. А Настя была выключена из напряженного внутриколлективного поля — и от этого чувствовала себя слегка ущербной.
На проводах в Москву мама, напутствуя свою дочку, окончательно выпорхнувшую из родительского охранительного лона, сказала:
— Помни, милая: улыбка маскирует оскал, а поцелуй — одна из форм укуса. На телевидении, как и в большой политике, врагов нет, как и друзей, — есть только временные интересы и временные союзники. Не верь дружбе, не ввязывайся во вражду, смотри в оба и не давай себя скушать… Ты же не хочешь, родная, бесславно вернуться домой?
Конечно, Настя этого не хотела.
— И еще, всегда ищи причину приязни и неприязни в чьих-то ущемленных интересах…
Мама знала, о чем говорит: за двадцать лет руководства телевизионным серпентарием она собаку съела в закулисных интригах, пережив не только советское время с его партийно-номенклатурными придирками, но и в демократической карусели умело удержавшись на плаву. Сменив на своем посту двух губернаторов, она теперь готовилась пережить третьего.
Итак, Насте не хотелось в первый же день, доверчиво откликнувшись на дружеское расположение, приятель-ственное рукопожатие, подружкин поцелуй, ввязаться в хаос запутанных корпоративных отношений. Поэтому она улыбалась всем одинаково ровно — немного заученно, немного растерянно, — и уже успела снискать парочку приязненных взглядов от коллег мужского пола и завистливых — от женского.
Шумского на собрании не было, — он, видимо, самоустранился от руководства своей подопечной.
Пока сотрудники «Побудки» обменивались приветствиями, дверь кабинета стремительно распахнулась, как будто ее вышибли. Из черного квадрата, заштрихованного коридорным сумраком, соткался суетливый Гагузян, за ним вынырнула на свет полная дама с воинственно задранным бюстом — как позже оказалось, Макухина, главная финансистка, затем, веско переговариваясь с собеседником, мушино мельтешившим позади начальства, вплыл генеральный директор — вальяжный, небрежнодлинноволосый, в вольнодумно мятом костюме, со смелым разворотом покатых плеч, с солидным выпятом живота.
— Ну, «побудчики», здравствуйте, что ли… — произнес он, блестя идеальной фарфоровой улыбкой, — как будто сжимал зубами кусок свежего творога. — Как дела?
— Ждем первой зарплаты! — выкрикнул кто-то дерзкий из задних рядов.
— Не дождетесь… — снисходительно отозвался Главный.
Коллектив поддержал начальственную шутку вынужденным гоготком. Бисерным желтозубым смехом рассыпался Гагузян.
— Для начала обсудим концепцию передачи… — Цы-балин вольнодумно присел на краешек стола. Брючина задралась, обнажив полоску бледно-волосатой цыплячьей голени.
Сотрудники уже знали: «Побудка» задумывалась в формате двухчасовой утренней программы. Последние известия в ней должны были перемежаться клипами, мультфильмами и короткой рекламой (преимущественно «джинсовой», а не лобовой, чтобы зрители, не дай бог, не сбежали раньше времени на работу) — это накладывало определенные ограничения на содержание и манеру подачи новостей.
— Для начала я хочу задать вопрос, господа… Как вы думаете, для чего существует телевидение вообще? — Тяжелый, с сабельным отливом взгляд скользнул по задумчиво посмурневшим лицам. — Ну, смелее! — Кусок творога, зажатый между тусклых губ, заблестел совсем нестерпимо.
Ответить решился лишь Ваня Проценко, косенький победитель конкурса.
— Чтобы информировать зрителей, рассказывать им новости, — заявил он. В его голосе звучало самодовольство человека, ощущающего свой солидный вес.
Цыбалин смешливо вздернул одну бровь, забавляясь ответом.
Гагузян иронически покачал головой.
— И все?
В обсуждение включились остальные сотрудники:
— Чтобы развлекать народ!
— Чтобы будить людей по утрам, провожать их на работу, а вечером успокаивать после трудового дня!
— Чтобы показывать фильмы!
— Чтобы учить доброму, вечному!
Но все ответы были мимо цели — лицо шефа приняло брезгливо-тошнотворное выражение, как будто ему приходилось выслушивать ужасные благоглупости.
— Чтобы формировать общественное мнение! — вдогонку выкрикнул кто-то умный, когда в студии уже воцарилась жидкая тишина.
— А зачем нам, собственно говоря, общественное мнение? — Главный небрежно дернул покатым плечиком. — Власть высоко, выборы далеко… Канал наш не федеральный, вещает не на всю страну, а только на центральные регионы… Нет, ребята, пора оставить романтические бредни, которые вам вбили в голову на ваших дурацких журфаках!
Гагузян коротко хохотнул, буравя преданным взглядом начальственный профиль.
— Открою вам глаза, друзья мои, чтобы потом вы не говорили, что я вам ничего не объяснял… Телевидение, ребята, нужно для того, и только для того, чтобы… — Задержав дыхание, он обвел взглядом внимательно белевшие лица. — Чтобы продавать рекламу!
По рядам пронесся удивленный вздох. Настя растерянно моргнула — ее, сохранившую провинциальное, слегка лицемерное целомудрие, коробила столичная беспринципность. Реклама, конечно, — это хорошо, но ведь не рекламой единой, как говорится… С другой стороны, не будет рекламы — телевидение загнется через пятнадцать минут, это даже тупому ясно. Но так бесстыдно, с улыбочкой признавать это…
— Про остальное забудьте, друзья мои! — между тем продолжал Цыбалин. — Важна только реклама. Новости нужны для того, чтобы лучше продавать рекламу, фильмы нужны для того, чтобы лучше продавать рекламу, музыка нужна для того, чтобы лучше продавать рекламу… Кто считает иначе, тому лучше уйти…
Конечно, никто не поднялся и не вышел. Буравчики безжалостных глаз вдруг помягчели над приподнявшимися щечными мешками — Цыбалин улыбнулся.
— Я рад, что мы с вами мыслим одинаково, ребята… Итак, первое правило нашей передачи: больше рекламы хорошей и разной. И второе: какой должна быть реклама, определяет руководство канала, а отнюдь не творческий коллектив. Третье правило: кто протащит свою «джинсу» в эфир, тот в две секунды распрощается с работой. И не только на нашем канале, предупреждаю… «Стаканкино» — это большая помойка, где все друг друга знают, и кто думает, что сможет безнаказанно путешествовать с канала на канал, тот глубоко ошибается. — Цыбалин говорил отрывисто и жестко, так что было ясно — несмотря на шутливый тон, он вовсе не шутит…
Главный удалился так же стремительно, как и появился. После его ухода атмосфера заметно разрядилась, сотрудники осмелились пошевелиться.
— Круто забирает! — прокомментировал сказанное голос позади Насти. Обернувшись, девушка увидела долговязого парня с длинными волосами, обсыпанными, как снежком, мелкой перхотью. Он сидел широко расставив ноги, обтянутые линялыми джинсами, а его зеленые, в наглую крапинку глаза насмешливо подмигнули красотке.
— Слушай, а я тебя знаю… — громко произнес парень, не смущаясь множеством любопытных ушей. — Ты участвовала в конкурсе… Ну и бодяга, скажи? Как они тебя засудили, а? Педерасты! Кстати, когда эта лабуда закончится, пошли в буфет обедать… Лады, сестренка?
Купившись на ласковое обращение «сестренка», Настя с улыбкой кивнула коллеге.
Вперед вышел суровый Гагузян, после ухода начальства мгновенно избавившийся от нежного выражения своей физиономии.
— Наша передача — утренняя, — начал он с расхристанным кавказским акцентом. — А утром что человеку нужно?
— Реклама! — нагло выкрикнул долговязый из-за Настиной спины.
Гагузян смешливо перекосил рот в знак того, что оценил удачную шутку.
— Утром зрителям нужно хорошее настроение! Никаких плохих новостей, сплошной позитив… Ведущий должен излучать оптимизм, корреспонденты должны излучать оптимизм, интервьюируемые должны излучать оптимизм. А чтобы все они излучали оптимизм, технический персонал тоже, кстати, должен его излучать. Кто с этим не согласен, тот будет уволен в три аккорда… Вопросы есть?
— Есть! — смело выкрикнул Ваня-ведущий, явно вообразивший себя первой скрипкой в «побудочном» оркестре. — В нашей стране порой случаются разного рода неприятности… Нам что, молчать о них?
— Хороший вопрос… — кивнул Гагузян. — Но и плохой тоже, кстати! Потому что ответ на него ты, Проценко, должен найти самостоятельно. Ну, я тебя слушаю… Если дашь неверный ответ, будешь уволен сию же секунду, так что не торопись, родной, подумай… Я жду!
Всем своим абрекски-хищным видом Гагузян показывал: шутки побоку. В комнате повисла удушливая и тягучая, как патока, тишина. Стало слышно, как неумолимо тикают чьи-то наручные часы.
Ваня, стиснув зубы, мертвенно поснежел лицом.
— Э-э-э… — замялся он, не зная, какого ответа от него ждут.
— Ведущий должен мгновенно реагировать на заданные вопросы. Особенно на каверзные! Особенно — телеведущий! Журналистская сметка, вот как это называется, — произнес Гагузян, уже набирая в грудь воздуха, чтобы гаркнуть бесповоротное и окончательное «Вон!».
— Я… я так полагаю, я считаю… — засипел Ваня, суетясь голосом и глазами. — С одной стороны… хотелось бы не сообщать плохие новости… с другой стороны, не сообщать их нельзя, поэтому… поэтому… поэтому их нужно сообщать! Но мягко, оптимистично, с доброй ул ыбкой…
Он прикрыл глаза, как куренок под ножом мясника, уже приставившего острое лезвие к нежной шейке. Главный «побудочник» расплылся в кривой, как турецкий ятаган, ухмылке.
— Да, верно… — кивнул он.
Проценко расслабленно опал на стуле, — гроза, метавшая в него почти физические молнии, прошла стороной.
— Значит, так..: — продолжал Гагузян. — О неприятных новостях сообщаем мягко, как будто вытираем попку младенцу. Кровуху не кажем, трупы прячем, мат микшируем… Каждую секунду помним, что нас смотрит вся семья, в том числе дети. Никакой порнухи, максимум — легкая эротика. Что касается «джинсы»…
Он обвел гранитным взглядом затаивших дыхание сотрудников.
— Как сказал уважаемый Игорь Ильич, никакой «джинсы», никогда, ни при каких обстоятельствах!
— Что касается «джинсы» — все ясно… А как насчет гонораров? — смело выкрикнул тот же дерзкий долговязый за Настиным плечом, очевидно ничего не боявшийся, никаких таких гроз и молний.
— Гонорар определяется личным вкладом каждого в рейтинг передачи. Нет рейтинга — нет гонорара… Подробнее об этом скажет Ольга Дмитриевна Макухина, которая заведует нашими финансами.
Великая по своей обширности грудь поднялась в воздух.
— Ребята, — проникновенно начала Макухина. — Все будет хорошо, ребята… Мы — один творческий коллектив, у нас одна цель: мы должны сделать лучшую утреннюю программу! И мы сделаем ее!
— Хайль «Побудка»! — Долговязый за спиной Насти не унимался.
— Будет хорошая передача — будет много рекламы, будут и гонорары… Я знаю, что все вы творческие личности. У вас амбиции, у вас собственная точка зрения, но не может быть иной точки зрения на деньги, кроме одной: чем больше денег, тем лучше. Я права?
Легкий гул подтвердил истинность ее слов.
— Поэтому я желаю отличной работы вам, ребята! А я, в свою очередь, постараюсь, чтобы вы финансово не скучали. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами… Мы вас здесь собрали именно потому, что вы — таланты!
Настя с надеждой приподняла голову, услышав теплые и человеческие слова в стенах, показавшихся ей бесприютно враждебными.
— А что касается «джинсы»… — построжела Макухи-на. — Если к вам вдруг начнут подкатывать с предложениями, ведите клиента ко мне — и я вас, ребята, не обижу… Все мы люди, все мы человеки…
Большая грудь опала, в воздухе зареяли слабые, как будто посмертные, с того света улыбки; кто-то отважился на смешок, кто-то решился вздохнуть.
Но Гагузяну не понравилась благодушная расслабленность аудитории.
— Может быть, вы все и творческие личности, как утверждает наша милейшая Ольга Дмитриевна, да только, господа, мне на это наложить с прибором… Вы — подручный материал, который нужен только для того, чтобы лучше продавать рекламу. Кто лучше продает рекламу, тот — супер! А свои творческие амбиции можете засунуть в одно место… Считайте, что вы горбатитесь на заводе по производству продукта, который называется «Побудка», а кто ‘считает, что пришел сюда творить или, к примеру, завоевывать звание лучшего журналиста, того милости просим на выход… Кто хочет найти здесь трибуну для пропаганды светлого, доброго, вечного, тот пусть немедленно сваливает. Кто думает, что к его мнению здесь станут прислушиваться, — аналогично… Наша цель — конечный высококлассный продукт! Он называется «Побудка», и ничего, кроме производства продукта, вы здесь не найдете. Точка.
Помолчав секундно, он вновь придал своему рту свирепую янычарскую форму.
— Поздравляю, ребята, с началом работы… Через неделю «Побудка» должна выйти в эфир. Уже запущены анонсы в СМИ… — А потом добавил почти тепло: — Поздравляю, ребята, вы попали в ад!
В останкинском буфете змеилась очередь, частью состоявшая из раздавленных только что отгремевшим совещанием «побудчиков».
Когда Настя уже приблизилась к стойке, перед ней вклинился тот самый отвязный тип, во время планерки подававший смелые реплики. Он упреждающе прорычал в ответ на возможные возражения очереди:
— Девушка мне занимала, разве не видно, что мы вместе… — Он по-свойски приобнял Настю за талию, как будто они были знакомы добрую половину вечности, после чего нежно улыбнулся: — Ая тебя везде искал… Куда, думаю, запропастилась?
Настя хотела было отбрить нахала, но тот вдруг произнес:
— Меня, кстати, Валерой зовут… Между прочим, красотка, твоя победа на конкурсе — это моя заслуга.
— Вот как? — возмутилась девушка, высвобождаясь из кольца обнимающих рук.
— А то! Это ведь я готовил просмотровую кассету для жюри! Кстати, в вашем Урюпинске, по-моему, никому не известно, что такое монтаж, пришлось собственноручно поправить твой материал… Понимаешь, красавица, монтаж — это главное на ТВ. Пусть даже картинка идеальная, но если монтаж плохой, то… Я же видеоинженер и знаю, что говорю…
— Послушайте… — взъярилась Настя, избавляясь от обнаглевшей мужской руки. — Во-первых, что такое монтаж, я и без вас знаю, во-вторых, я не из Урюпинска, а в-третьих…
— Слушай, что мы как чужие, на «вы», — возразил бойкий ухажер. — Меня зовут Валерой, кстати… Между прочим, из-за тебя я проспорил сто «бакинских»… Слушай, Настюха, с видеоинженерами нужно дружить! А то припрешься ко мне со своими долбаными исходниками, я тебе намонтирую такое, что мама не горюй…
Потом, когда они сидели за столом, перхотный Валера продолжал просвещать хорошенькую неофитку:
— Все дела в нашем «Стаканкино» знаешь где решаются? Здесь, в буфете! Здесь — сердце нашего «Стакаше-ка», за стакашеком и вершатся все назначения, все эфирные замены…
Настя огляделась по сторонам: по словам Валеры, здесь, в этой бетонной клетке, строились карьеры и крушились судьбы, завязывались официальные связи и тайные адюльтеры. За чашечкой черного кофе или чего покрепче строились планы новых передач и совершались кадровые перестановки, здесь отыскивали звезд и списывали их в небытие. За этими обшарпанными столами кроились судьбы: кто-то возносился к небесам, кто-то падал в бездну, кто-то зарабатывал капиталы, кто-то их лишался. И хотя высокая телеполитика делалась в другом месте, в кремлевских кулуарах, в правительственных коридорах, в небесных эмпиреях, но частные судьбы вершились именно здесь — среди столов с кругляшами от мокрых стаканов, среди окурков, объедков и огрызков.
— А почему наша контора называется «Стаканкиным» — знаешь? — спросил Валера и, не дожидаясь ответа, объяснил: — Говорят, однажды голливудский оператор сюда приехал… Ну, наши, конечно, перед ним раскапустились: да мы такие, да мы сякие… Да мы тут тоже не лаптем щи хлебаем… И показали гостю шикарную телекартинку: буря мглою небо кроет, шторм, валы, смотришь на экран — яйца стынут. Шикарная, говорю, картинка… Голливудец спрашивает: как же вы снимали, парни? Парни отвечают: командировка на северный флот, вышли в море, там шторм, чуть не потопли, одного смыло, камера — вдрызг… Тот головой крутит обалдело, говорит: ну вы лохи, ребята, кто так снимает? Я вам такую бурю сниму в стакане воды, что вам просто башню снесет. А ему отвечают: да мы бы тоже сняли в стакане, только свободного стакана у нас в «Останкине» не найти…
Настя рассмеялась.
— А что, Цыбалин тоже здесь обедает? — любопытно оглядевшись, поинтересовалась она.
— Главный обедает у себя в кабинете, — авторитетно ответил всезнайка. — Но начинал он во-он за тем столиком. — Он ткнул пальцем в дальний угол. — Я тогда пацаном сюда бегал, мне отец пирожные в буфете покупал. Мой папаша тоже «инженегром» здесь вкалывал.
— Инженером, — автоматически поправила Настя.
— Нет, именно — «инженегром»! — поправил Валера и объяснил: — А все потому, что мы пашем, как негры, — сверхурочно и без праздников, а платят нам за это тоже как неграм на плантации.
— Зачем тогда ты работаешь?
— А что еще делать? Знаешь, милая, ТВ — это как наркотик. Один раз хлебнул — двадцать лет лечишься. Да ты, верно, сама это знаешь…
Настя знала это.
Пообедав, приятели поднялись из-за стола.
— Второе место для общения — курилки, ну и туалеты, — продолжил экскурсионный монолог Валера. — В сортирах знаешь какие карьеры делаются… Взять хоть Гагузяна…
— Ну-ну? — заинтересовалась Настя.
— Коральку гну! Оттуда прямо руководителем программы заделался… Чего только не сделаешь, имея тугую попку…
— А ты чего ждешь? — усмехнулась Настя. — Кто тебе мешает?
— Я не по этому делу, Настюха, — с очевидным сожалением вздохнул Валера. — Я идейный гетеросексуал, за что и страдаю всю жизнь… И размножаюсь я только по любви…
— Я тоже! — фыркнула Настя, в который раз пытаясь избавиться от назойливой руки, которая так прочно оседлала ее талию, как будто имела на нее неоспоримые права.
— Годится, — обрадовался останкинский Вергилий. — Значит, вечерком идем к тебе?
— Кто идет, а кто катится колбаской по Малой Спасской! — парировала Настя.
— Свинская неблагодарность, как всегда, — с фальшивым вздохом отозвался Валера. — И это после всего, что я для тебя сделал? А?
Настя тактично перевела разговор:
— Слушай, ты, кажется, всех здесь знаешь… — Она взяла приятеля под руку, выходя из буфета. — А что представляет из себя Макухина?
— Стерва, баба с железными яйцами, — так отозвался о грудастой финансистке останкинский бытописатель.
— Она мне показалась такой милой, — возразила Настя, на излете молодости все еще сохранившая некоторую простодушную доверчивость. — Она единственная, кто на планерке вспомнил о творчестве…
— Ее творчество — это деньги! — фыркнул Валера, левый уголок его рта иронически пополз вверх. — И только деньги! Одни лишь деньги! Причем все деньги на свете она считает своими собственными. Поэтому все ее обещания нужно делить на десять. Сказала, что заплатит сотню, — сама посчитай, сколько получишь в реале… И за «джинсу» она тебе отстегнет копейки… Не то что Гагузян — тот клевый мужик на самом деле. Кстати, он не только шеф «Побудки», но и директор дирекции информационного вещания. А это тебе не хухры-мухры. Второй человек на канале.
— Гагузян? — поморщилась Настя. — Этот беспринципный хам?
— Само собой, беспринципный… Но при этом отличный парень, светлая голова! Ради идеи может даже наплевать на деньги.
— Это Гагузян протолкнул в ведущие косенького Проценко? — обиженно спросила девушка, имея в виду своего удачливого конкурента, на которого затаила детскую по своей этиологии и женскую по своим последствиям обиду.
— Не-а, Проценко откуда-то сверху спустили… Он не то племянник министра информации, не то деверь президентского пресс-секретаря… Что-то в этом роде, точнее сказать не могу.
Настя успокоилась — не в ее натуре было бороться с ветряными мельницами и министрами информации.
— А Цыбалин? Что он такое?
— Ходячий денежный мешок, старый педик! — отмахнулся Валера. — Он и ко мне, кстати, приставал, только я его послал. Ему на все плевать, лишь бы бабло капало… На высокие идеи ему наплевать особенно.
— Послушать тебя, так здесь все педики! — возмутилась Настя.
— Что поделать… Про «голубую мафию» слыхала? Настюха, единственный нормальный человек на этой помойке — это твой покорный слуга, прошу любить и жаловать… Особенно любить…
— Перебьешься! — улыбнулась девушка.
— Впрочем, тебя тоже не с улицы взяли, это всем известно, — добавил Валера опытным голосом. — Кстати, ты Шумскому кто?
Настя не стала говорить, что она всего-навсего дочка старой знакомой. Слишком неправдоподобно это звучало, слишком целомудренно по нынешним циничным временам. Между тем со своим благодетелем она виделась всего-то раза два — один из них едва ли не во младенчестве, а второй раз, когда они с мамой приходили благодарить дядю Захара за конкурсное содействие. Тогда у нее словно заклинило губы из-за невозможности рассыпаться в благодарностях перед этим сальномясым толстяком, обеспечившим законную, по мнению девушки, но, однако, совершенно неполнокровную победу, где-то даже проигрыш… Она еще не знала, как дорого стоят проигрыши в «Останкине», какой большой кровью они оплачиваются. И как мало стоят выигрыши, как легко они достаются… И как часто здесь бывает наоборот!
— Моя мама раньше работала с Шумским, — стараясь говорить правдоподобно, объяснила девушка. — Она попросила Захара Ивановича передать кассету для конкурсного жюри и…
— Будет заливать! — Валера расплылся в недоверчивой улыбке. — Уж мне-то ты можешь признаться. Все же знают…
— Что знают? — удивилась Настя.
— Что ты его внебрачная дочка… Ты так похожа на него!
Настя сочла за благо промолчать. Ладно, дочка так дочка… Но неужели она, с ее признанной фотомодельностью, действительно походит на этого яйцевидного карлика с веснушчатой лысиной?
Впрочем, какая ей разница. Пусть думают что угодно.
Глава 3
Закипела предэфирная работа… Через неделю всем штатным корреспондентам «Побудки» надо было сдать отснятые материалы выпускающему редактору, чтобы получить добро на эфир. Но где снимать репортажи и о чем они должны быть, никто журналистам не сообщил, — крутись, стало быть, как хочешь. Это было «побудочное» ноу-хау: по мысли начальства, личная инициатива репортера (которого в прямом смысле «кормили ноги») была важнее кабинетных наработок редакции. Ситуация осложнялась тем, что в затылок «штатным» дышали «внештатники», которые тайно мечтали сменить свое неустойчивое заштатное положение на более прочное и более денежное.
Конечно, в родном городе у Насти не возникло бы подобных проблем. Мама договорилась бы с кем надо о съемке — и репортаж гарантированно отправился бы в эфир. Здесь ситуация была иной. Настя маялась от боязни сделать что-то не то. Между тем близилось время сдачи материала, а девушка, вместо того чтобы рыть носом землю в поисках подходящего сюжета, с несчастной физиономией слонялась по останкинским коридорам, прикидывая, когда именно ее выкинут отсюда — в день эфира или чуть позже.
За сутки до часа икс Настя в приступе отчаяния, подписав в материальном отделе заявку, отправилась со съемочной группой в зоопарк.
— Что мы будем снимать? — спросил Дмитрий Петрович Пустовалов, опытный оператор, пожилой и хмурый, с длинными волосами, собранными на затылке в тощий хвост. — Надеюсь, не задний план слона? Дерьма у нас в «Стаканкине» и без того навалом…
У журналистки в голове царил полный вакуум. По дороге в зоопарк, подпрыгивая на боковом сиденье съемочной «Газели», она лихорадочно соображала, о чем будет ее сюжет. Выходило, что ни о чем, однако Настя нутром чуяла, что лицезрение пушистых животных — именно то, что требуется доброй утренней программе.
— Пришла весна, весне дорогу! — восторженно заявила Настя, глядя прямо в камеру. — С первой февральской оттепелью проснулся бурый медведь, красноногие журавли начали свои брачные игры. Сотрудники зоопарка утверждают, что поведение животных — это своеобразный барометр, предсказывающий погоду. И этот барометр утверждает, что весна не за горами…
Выключив камеру, оператор Дмитрий Петрович выплюнул на землю вязкий коричневый комок.
— Фигня какая… — разочарованно пробормотал он. — Лучше бы на свалке сняли бомжей — тот же эффект! — И презрительно отвернулся от журналистки.
Однако Валера, просмотрев исходный материал, похвалил девушку:
— Классный сюжет. Особенно про брачные игры вышло хорошо… Слушай, Настюха, а когда мы с тобой начнем наши игры, а?
Пропустив намек мимо ушей, Настя пожаловалась:
— А Дмитрий Петрович сказал, что ерунда!
— Пустовалов, что ли? — ухмыльнулся Валера. — Что ты хочешь от завзятого «вестюка»… Его из эртээровского «Криминала» к нам взяли, они там без трупов и дня прожить не могут. Он, кстати, в Чечне раз сто был… Конечно, для него брачные игры журавля — это бирюльки. Но материал нормальный, так что не дрейфь!
Действительно, материал без звука прошел в эфир. Антон Протасов, бывший в тот день выпускающим, лишь одобрительно кивнул, бросив короткое: «Годится».
Вечером позвонила мама.
Настя чуть не разрыдалась, услышав родной голос. Ей все время казалось, что ее судьба висит на волоске и бесславное возвращение к родным пенатам не за горами.
— Настенька, я видела твой сюжет! — закричала мама в трубку, перекрывая голосом расстояние. — Но почему ты так нервничала?
Конечно, маму не мог обмануть самоуверенный и даже залихватский тон репортажа.
— Я не знаю, что снимать дальше! — нервно всхлипнув, прокричала Настя. — Трупы нельзя снимать, аварии нельзя, ничего нельзя! Ведь у нас утренние новости! Каждый день просматриваю ленту информагентства — и ничего не нахожу!
Мама задумалась.
— Сними роддом, — предложила она, поразмыслив пару секунд. — Ну, сколько младенцев родилось в сутки, сколько из них негров, сколько китайчат…
— Дерьмо, слюнявое дерьмо, — резюмировал Дмитрий Петрович, выходя из роддома.
— Когда у нас с тобой родится что-то в этом роде? — поинтересовался Валера, монтируя материал о младенцах.
— Вчера, — привычно ответила Настя.
— Ерунда, но сойдет, — резюмировал выпускающий Протасов, отсмотрев кассету, и бойко подмигнул хорошенькой корреспондентке.
Вечером повторился новый раунд междугородних переговоров и консультаций.
— Что дальше снимать, я не знаю! — привычно заныла Настя в телефонную трубку.
— Что-нибудь доброе, красивое, вечное… Сюжет про выставку глухих художников или концерт слепых гитаристов, — отвечала мама, воспитанная нынешним временем в духе антисентиментальности. А потом добавила обескураженно: — Ну, я не знаю, Настя, что там еще у вас в Москве есть… Попробуй, наконец, придумать сама…
— Трансцендентное дерьмо, — резюмировал Дмитрий Петрович, засняв выставку слепых художников.
— Когда у нас с тобой начнется что-то в этом роде? — спрашивал Валера, углядев на одной из картин парочку в экстазе плотской страсти.
— Вчера, — автоматически отозвалась Настя.
— Ерунда, но ерунда подходящая, — резюмировал дежурный выпускающий, отсмотрев материал. — Годится…
Настю утешало только то, что ее коллеги тоже метались, как ошпаренные кошки, в поисках оптимистически выдержанных материалов. И тоже с трудом находили их.
В буфете, как всегда, было много народу, хотя уже наступил тот малолюдный промежуточный час, когда для завтрака слишком поздно, а для обеда рано, самое время для легкого перекуса. Настя ковыряла ложкой какое-то невнятного цвета рагу, когда за ее столик подсел гривастый парень с мутным взглядом волчьи-серых глаз.
— Не занято? — буркнул он, плюхнувшись на стул. Окатив нахала холодным взором, Настя автоматически отметила землистую бледность его лица и крупно-нервную дрожь длинных пианистических пальцев.
Оба кисли над тарелками, внезапно объединенные изъятостью из окружающей их буфетно-обеденной толпы, которая обтекала их со всех сторон, многоголово бурлила, то и дело взрывалась возгласами узнавания и криками встречного восторга. Размышляя о своем положении в программе, словно разгадывая шараду с многими составляющими — Гагузяном, оператором Пустоваловым, Макухиной, избегающим ее Шумским, — Настя досадливо морщилась от назойливых звуков.
Визави, казалось, полностью разделял мизантропию девушки — что было видно по его мрачно-щетинистому виду, по насупленным взглядам напрострел и навылет, рассылаемым в окрестное пространство. Причем эти взгляды волшебным образом огибали Настю, образуя вокруг нее незримый кокон немого дружеского расположения.
К их столику танцующе приблизился полный мужчина с оттопыренной нижней губой.
— Вадик! Ба! Какими судьбами в «Стаканкине»? — разулыбался он, распахивая объятия. — К отцу пришел? Или к нам, в музыкальную редакцию пожаловал?
Мрачный тип ненавистно буркнул:
— Тебе-то что?
— Наваял что-нибудь новенькое? — не отлипал залетный приятель. — Покажешь? Давай быстренько, а то я спешу.
— Отвали, — буркнул суровый мизантроп, приканчивая коньяк, цветом похожий на компот из сухофруктов.
— У тебя хорошенькая подружка, я где-то ее видел… — заметил между тем самозванец, обрызгав Настю оценивающим смешком. — А впрочем, как знаешь… — И откатился к другому столику.
Проводив нахала рассерженным взглядом, девушка вдруг столкнулась с точечным прихмуром зрачков напротив. И поняла: ее только что заметили.
Мрачный тип, вставая, потянулся в карман. Рагу было отвратительным, как останки мамонта, сдобренные кетчупом…
Между тарелок вдруг упал цветной квадратик, одним уголком угодив в соусное пятно.
— Если интересует, вот… Сегодня вечером в клубе «Хай-тек», — отрубил хмурый небрежно, как будто имел в виду нечто совершенно противоположное по смыслу: и не приходите, вас это не интересует, не может интересовать, и нечего вам там делать…
Это был «флаере» на посещение одного из клубов, которые за последнее десятилетие так изобильно развелись в столице, что на всех не хватало ни публики, ни музыкантов — особенно модных и особенно альтернативных, которые всегда нарасхват, которые раньше только по записи, а вживую только на «квартирниках», которые, в отличие от попсы, — никогда чесом по стране, только по любви и за идею, которые являлись на публике как драгоценная редкость — лишь в случае априорного взаимопонимания с пригласившим. На билете стояло известное в узких кругах имя, точнее, сценический псевдоним — Вадим Бесов, или просто Бес.
«Так вот кто это!» — догадалась Настя. И решила воспользоваться приглашением — но вовсе не потому, что заинтересовалась незнакомцем, а чтобы хоть вечером отвлечься от своего вечного неразрешимого вопроса: «Где взять сюжет?»
Так они познакомились.
Потогонная «побудочная» жизнь продолжалась несколько месяцев подряд. Находить сюжеты становилось все труднее, как и отрабатывать редакционные задания, снимая их в оптимистическом утреннем ключе. Вскоре Настя решилась на шаг, который приберегала для момента безысходности, для той черты, за которой происходит потеря журналистской невинности.
Она позвонила в институт фармакологии. «У вас есть какое-нибудь новое перспективное средство, чтобы порадовать наших зрителей?» — спросила у невидимого, растерянного больше ее абонента.
Абонент тяжело задумался, но сказал, что вроде есть. Речь шла о лекарстве для лечения псориаза.
Подмахнув в материальном отделе заявку на съемку, Настя с группой пробыла в святая фармакопейных святых. Оператор бегло снял кадры с колбами и ретортами, с белыми халатами и учеными лысинами, с хорошенькими лаборантками и симпатичными подопытными мышками, у которых имелись проплешины на нужных экспериментатору местах — до применения препарата и со свежей шерсткой — после оного. Все было скучно и псевдонаучно. Сотрудник, рассказывавший о лекарстве, бессвязно блеял; по его словам выходило, что препарат оказался вовсе не так хорош, как на то надеялись экспериментаторы, и вообще, нет в жизни счастья — демонстрировала его морщинистая, как у старой зоосадовской обезьянки, физиономия.
— Ну, до такого дерьма я никогда не опускался, — глумливо заметил оператор, укладывая кофр с камерой в редакционную «Газель» — с таким же тщанием и любовью, с какой мать укладывает свое дитя для непременного после всех гигиенических манипуляций сна.
— Послушайте, — побелев, взвилась Настя. — Если вы еще раз… позволите себе назвать то, что я делаю, дерьмом, то… я… — Она захлебнулась воздухом, которого оказалось неожиданно много в уличном мареве, сквашенном густым автомобильным выхлопом. И в ярости замолчала.
Пустовалов удивленно поднял на нее глаза:
— И что же станет со мной, бедным матерщинником? Неужели мне вырвут язык?
— Я пожалуюсь на вас Гагузяну! — овладев собой, тихо отчеканила Настя.
— А я думал, своему папаше, — вполголоса удивился оператор, явно имея в виду Шумского. А потом заметил в темное пространство салона, где жестоко страдавший с похмелья осветитель уминал за обе щеки уличный фаст-фуд: — Радует только, что скоро все это кончится…
— Что кончится? — удивилась Настя.
— Все кончится, — меланхолически заметил оператор. — «Побудка» закончится, и ты вместе с ней… А вот я, скорее всего, останусь!
Когда отснятый материал, наконец, смонтировали, то и видеоряд, и комментарий, и даже трагический отблеск в глазах самой журналистки — все это рефреном повторяло слова о том, что скоро все закончится.
Очевидно, Пустовалову было известно нечто, чего не знала Настя и о чем ее коллеги обменивались неопределенными, межстроковыми намеками — мол, денег мало, рекламодателей в «Побудку» калачом не заманишь, жизнь поганая, при таком раскладе скоро придет конец всему…
— Да ладно, на безрыбье, как говорится… — хмыкнул Валера, прогоняя смонтированный материал. — Жаль, что это лекарство — не средство для потенции… Тогда совсем другой эффект был бы!
— Слушай, я перепишу текст, — хватаясь за соломинку, сулившую не столько спасение, сколько затягивание утолительных мук, предложила Настя.
И, уединившись на пятнадцать минут в укромном уголке, быстро набросала новый комментарий к сюжету.
«Ученые возлагают большие надежды на новый препарат, — в приступе нездорового вдохновения строчила она. — Испытания на мышах подтвердили, что у самцов мужского пола восстановление физической активности происходит в десять раз быстрее, вызывая сильное повышение половой функции». Перечитав последнюю фразу, Настя задумалась: как бы назвать это новое, только что придуманное ею средство: «Громобой»? «Фейерверк»? «Вспышка слева»?
«Фонтан»!» — догадалась она, завершив текст округлогладкой фразой: «А мужчинам лишь остается ждать, когда препарат появится в свободной продаже»…
— Отлично! — ухмыльнулся Валера, пробежав глазами новый закадровый текст. — То, что надо! Синхрон оставим — он вполне нейтрален, а комментарий новый наговоришь…
Через час он вручил Насте кассету, против обыкновения не добавив при этом ничего скабрезного.
— Спасибо! — обрадовалась девушка, ощущая себя наполовину спасенной. — Если бы не ты…
— Лишь бы помогло, — криво ухмыльнулся Валера.
И безнадежно махнул рукой. Кажется, он тоже догадывался, что дни ее в «Побудке» уже сочтены…
Под веками Насти вспухли слезы — и ушли в зарес-ничную темень… Ничего, она еще поборется!
После телефонного разговора с мамой девушка юркнула обратно в постель, тесно прижавшись к человеку с чуткими пальцами, тому самому, что сейчас с волчьей бдительностью вглядывался в непролазную тьму, будто силясь разглядеть за ней нечто невидимое, но такое важное. Ведь только животным теплом можно было развеять тот волглый холод, от которого она старалась избавиться любым способом, даже так — прижимаясь к чужому телу, словно к родному. Но мрачному чужаку в ее постели эта страшная бесприютность была, очевидно, привычна и приятна, ему было хорошо и покойно обитать с нею бок о бок.
А утром, точнее, уже днем, длинным, до раннего вечера растянувшимся полднем, он, этот случайный, на одну ночь человек, произнес буднично, словно обращаясь не к ней, а в пустоту:
— Пойду… Мне пора.
Настя вопросительно вскинула на него глубокие, озерной синевы глаза. Отвернулась, небрежно дернула плечом.
Уже стоя в дверях, он спросил тускло:
— Оставишь телефон?
Она промолчала — как будто ничей голос не нарушал внутрикомнатной тишины, как будто не было никакого вечера, никакой ночи, ничего не было между ними. Она осталась одна. И останется одной впредь в этом городе одиночек, рыщущих по улице в поисках падали. В отвратительном жестоком городе. В Москве…
Вечером он позвонил ей — откуда только узнал номер? Как добыл? Непонятно… Пусть это останется за кадром нашей истории и Настиного понимания. Все-таки узнал и позвонил, чтобы после телефонного соединения спокойно проговорить в трубку тусклым, равнодушно ровным голосом:
— Ты, кажется, сказала, что тебе понравилась та композиция с ударными…
Она, кстати, ничего такого не говорила. Ей вообще не нравилась его музыка — никогда! Ни до их знакомства, ни теперь…
— Сегодня ночью я работаю в «Бэк-граунде»… Придешь?
Ей не хотелось идти. Но она почему-то пошла.
Это был странный роман, не похожий на обычные отношения, подразумевающие непременное единение душ и постельную болтовню вполголоса и вполнакала — после единения тел, после обоюдной запарки, после смятых простыней, после растрепанных волос на подушке и скомканного одеяла, после обрывистых фраз, прерванных из-за мгновенного понимания обоими смысла и оттого делающих ненужным их произнесение вслух. Вечером Вадим был обычно занят в клубе, а потом они ехали к ней, редко — к нему. И она, вглядываясь в его неправдоподобно суженные зрачки, твердила себе, себе же недоговаривая, — зачем он мне нужен, такой? А потом утешала сама себя — ведь никто ничего не узнает. И обещала себе твердо: сегодня в последний раз. Непременно.
Но через пару дней они опять встречались, либо по его инициативе, либо по ее почину, чтобы, ничего не спрашивая и ничем подробно не интересуясь, просто быть вместе. Чтобы ничего не требовать от партнера — ни расспросов, ни интереса к себе, а требовать только одного — просто быть рядом. Просто быть.
Но потом, с течением времени, она все же поняла: и это требование слишком велико для него, ведь после сиюминутного земного блаженства он беззаботно отплывает в поднебесные лазоревые дали, в заоблачный кровавый перелив, оставив ее совершенно одну, абсолютно одну, а туда за ним она не пойдет, ни при каких обстоятельствах, даже если смертью пригрозят — нет, нет и нет! — не пойдет по этой дорожке из кроваво-капельных точек, взбежавших вверх по локтевой, сизо-набухшей под истонченной кожей вене, не пойдет, и все тут. А с ним она остается только по собственной глупости, по недосмотру, по безалаберности, по одиночеству, но она скоро оставит его, совсем скоро, она должна уйти от него хотя бы из чувства самосохранения, потому что быть с ним — это все равно что встать одной ногой по другую сторону бытия, так же страшно, не нужно и опасно. Словно в сказке, в детской страшилке: берегись, мамочкина дочка, волка с серым взглядом сумрачных глаз, уведет он тебя в дебри лесные, так что не найдешь ты обратной дороги — кроме той, кроваво-капельной, как будто брусничной, только ведь — она знает твердо! — эта дорожка всегда ведет назад, и никогда вперед, всегда вниз, и никогда — вверх, всегда в бездну, и никогда — из нее… Никогда!
Когда после эфира Гагузян объявил об очередной летучке, у девушки испуганно сжалось сердце. Хмурые сотрудники неохотно собрались в просторном кабинете, предчувствуя головомойку, которая не замедлила воспоследовать.
— Значит, так, — начал руководитель программы, посверкивая сталью во взгляде и оглушая стальным акцентом в голосе. — Мы сейчас находимся в глубокой попе! Причем глубину этого места знаю только я…
Никто не посмел отреагировать улыбкой на мрачный начальственный юмор. Сотрудники понуро молчали, как бы придавленные общей виной за неуспех «Побудки».
— Приглашая вас работать, я рассчитывал на ваши таланты, господа… Все же вас не на помойке нашли, а набрали с бору по сосенке! Однако все вы оказались без-дарностями — этот факт очевиден не только для меня, но, увы, и для зрителей тоже… Что за материал вы мне приносите, господа журналисты? Лабуда! Нечего ставить в эфир! Кого в семь часов утра обрадует репортаж о подорожании проездных билетов? Кого спросонья осчастливит интервью с привокзальным бомжем? За все это время только один-единственный человек удержался в контексте утренней программы…
Сотрудники насупленно переглядывались — кто же этот счастливчик, сволочь эдакая…
Выгонят… Через минуту всех выгонят, а программу закроют, подумала Настя, ухнув сердцем в собственное, внезапно опустелое подбрюшье.
— Это Плотникова! — продолжал Гагузян, невесело ухмыльнувшись. — У нее единственной материалы отвечают требованиям утреннего эфира. Я сейчас, конечно, не говорю об их качестве, оно весьма убогое, я говорю о теме… Только Плотникова, одна из вас всех, поняла свою журналистскую задачу так, как следовало понять ее всем…
По рядам пронесся легкий гул, вразнобой зазвучали голоса:
— Мало радостного у нас в жизни!
— Дайте нам наводку — и тогда мы выдадим такой материал, что закачаешься!
— Так, еще один выкрик — и все будут уволены, — властно оборвал Гагузян. — Наводку им подавай… «На водку» вам подаст Господь Бог!
Аудитория обиженно погасла.
— Итак, показательная порка на этом закончилась, но вы, господа, действительно бездари! — продолжал Гагузян с издевательским смешком. — Значит, так, объясняю еще раз для особо тупых: снимайте что хотите, но только радостно и с песней. К примеру: да, проездные на метро подорожали, но не так сильно, как могли бы… Да, кошмарная авария на шоссе произошла, но не все же в ней погибли, кое-кто уцелел… Да, бомжи на свалке живут, но не помирают же…
Он поднялся, давая понять, что инструктаж закончен.
А когда журналисты зашевелились, осмеливаясь, наконец, выпустить из груди углекислый воздух, загремели стульями, спеша к выходу, внезапно произнес, перекрывая нестройный гул голосов:
— Плотникова, останьтесь!
Настя внутренне обмерла, застыв в дверях. Ее коллеги неласково посматривали на удачливую конкурентку, выбираясь в коридор.
Дождавшись, пока комната опустеет, Гагузян обозначил ртом янычарскую скобку:
— Предупреждаю, Плотникова: то, что я говорю хорошего, надо делить на десять, а плохое умножать на пятьдесят… Понятно, к чему я клоню? Корреспондент из тебя дерьмовый, это очевидно: дешевая патетика, затянутый комментарий, детский надрыв… Да и понятно, чего там можно наснимать в зоопарке… Информационный повод убогий, прямо скажем… А надо просто: что, где, когда, почем…
— Формула Квинтилиана, — несмело отозвалась Настя.
— Какая еще формула? В первый раз слышу! — небрежно хмыкнул шеф. — Вот еще что… У нас проблема: Проценко как ведущий не тянет… В общем, так, начнешь работать q ним в паре, благо внешность и дикция позволяют, затем полностью возьмешь на себя эфир… Сумеешь?
— Д-да, — кивнула Настя. — Я уже вела новости на региональном ТВ, справлюсь.
Ее собеседник оскорбительно осклабился:
— Региональное ТВ… Ты бы еще приплела «хоум-видео»! И потом… Нужно оживить «Побудку» коротенькими, минут по двадцать интервью на актуальные темы. Подбор гостей — за тобой… Какие есть идеи, кого хочешь пригласить в эфир?
— Ну… Земцева можно, — чуть слышно обронила Настя и, предвидя критику относительно своего выбора, защитительно добавила: — Я хорошо его знаю…
— Ладно! — согласился Гагузян. — Кстати, Земцев сейчас у всех на устах в связи с последними назначениями в правительстве… Начинай готовить интервью — ну, там, прикинь вопросы, нарой чего-нибудь лакомого в биографии… Чтобы зритель не смог оторваться от экрана! Только ради бога, никакой политики, никакого этого ясновельможного хамства…
— Как же без политики, ведь Земцев политик? — простодушно удивилась Настя.
— Сама придумай как… — янычарски улыбнулся Гагузян, приобнимая Настю рукой, осевшей на спинке стула. — Ты ведь журналист — тебе и карты в руки… Что-нибудь о жене, о детях, о родных истоках — о том, что интересно простому человеку…
Найдя пылинку на ее руке, более воображаемую, чем материально существующую, он воздушным, замедленным движением смахнул ее. Потом, продолжая что-то говорить, невзначай коснулся пряди волос, тронул шовчик проймы — внезапно его пальцы замерли в каком-нибудь сантиметре от ее груди, задержав напряженное, вечно длящееся мгновение, ожидая чего-то — какого-то шага с ее стороны или знака? Сопротивления или поощрения? Или благожелательной, готовой на все нейтральности?
Настя испуганно съежившись. Она поняла, что… Да. именно так… Сейчас начнется то, о чем болтают досужие языки, то, с чем она ни разу не сталкивалась, покинув пределы родительской бронезащиты…
Но как ей реагировать на посягательства начальства, — то ли смириться, как с неизбежным злом, то ли сражаться, самостийно обороняясь от жестокостей телевизионного мира, до сих пор более воображаемых, чем реально прочувствованных…
Она видела пористую, несвежую кожу щек, кавказский кинжальный ус с легкой хнистой проседью, настороженный вороний глаз, драпированный редколесьем выцветших ресниц, почувствовала паленый запах прокуренного рта… Дорогой одеколон со сложносоставными нотками вдруг смешался с запахом ветхозаветного, обреченного на свершение адюльтера, вызывая тошноту и нестерпимое желание бежать… И вместе с тем — невозможность пошевелить рукой…
Взлетевшая кисть обрисовала в воздухе черты, в точности повторяя контуры женского тела, потом скользнула вниз, к натянутой коленями юбке, ни секунду не могшей служить надежной преградой… Девушка обреченно закрыла глаза, решаясь…
Недаром у них говорят: должность ведущей не дается по благорасположению звезд или производственным заслугам, ее нужно заработать… Как именно заработать — теперь понятно… За все нужно платить, говорят… Но почему должна платить именно она — она, которая никогда никому не платила, ни за что, ни за какие коврижки… Которая достойна этой должности больше всех…
Настя нервно дернулась плечом, закашлялась, оттягивая время, — опасная ладонь замерла в напряженно уплотнившемся воздухе…
Может быть, есть шанс избежать неизбежного… Она скажет ему, что ее отец, он… Он — это Шумский, и ее отец будет вынужден…
Или лучше с милой стыдливостью пролепетать, что, пожалуйста, только не здесь, не на этом казенном столе, лучше вечером, она будет даже рада… Вечером она будет готова на все…
А сама тем временем позвонит Шумскому… Добрый дядюшка — что он ответит? Скажет, чтобы соглашалась? Посоветует рвать когти? Сделает вид, что эта история его совершенно не
касается?..
От напряжения она вдруг чихнула.
Рука, внезапно оборвав невыносимое мгновение, нервно дернулась — и ускользнула в карман, с ловкостью патентованного фокусника выудив оттуда клоунский платок в крупную клетку.
Вислый нос с характерным насморочным хрюканьем погрузился в мятый голубой хлопок. Кинжальный ус смялся. Настя робко отодвинулась, переводя дыхание.
Напряжение, густившее воздух, внезапно обмякло.
— Задача ясна? — как ни в чем не бывало поинтересовался Гагузян, расслабленно откидываясь на спинку стула. — Значит, я жду от тебя результатов, Плотникова! А насчет Земцева… Кажется, Шумский что-то упоминал о ваших с ним отношениях…
Она догадывалась, что именно.
Настя выбрела из начальственного кабинета на подламывающихся ногах. Секретарша критичным, бьющим наотмашь взглядом скользнула по ее юбке, оценивая стройность остро белевших коленок.
Она все знала? Но что она могла знать — ведь ничего не было!
Догадывалась? Но о чем, ведь ничего такого не было!
Слышала? Но в кабинете нельзя было различить ни звука — кроме дыхания и биения сердца, а потом громкого чиха и насморочного, годного для комедии сморкания…
В коридоре Настя нос к носу столкнулась с Ирой Ларионовой. Ларионова была тоненькая, поганкиной бледности блондинка, которую взяли в «Побудку» с загибавшегося «дециметра». Ее изящной прорисовки личико неизменно сохраняло приветливо-равнодушное выражение, отчего казалось, что его обладательница никогда не переживает по поводу столь докучных и эфемерных материй, как карьера, рейтинг или тематика простеньких, без божьей искры репортажей, которые она с легковесной регулярностью (как казалось Насте) поставляла в эфир.
— Очень мило выглядишь, — весело защебетала девушка. — Новый крем? Или стрижка? Вчера была в одном косметическом салоне, там сейчас скидки, хочешь, адрес черкну… Кстати, Макухина справлялась о тебе…
— Макухина? — Настя удивилась. — Что ей нужно?
— Знаешь, у этой стервы нет привычки плакаться мне в жилетку… А зря! Может, тогда бы мой конвертик… — Ларионова помахала конвертом, похожим на тот, в котором им обычно выдавали зарплату, — каждому отдельно и конфиденциально, под расписку о неразглашении суммы, — стал бы гораздо толще!
И она зацокала по коридору на вихляющихся каблуках.
Настя тут же забыла о Макухиной. Еще вчера она истерично обдумывала обстоятельства своего увольнения, воображала унижения, которые ей придется пережить после позорного возвращения домой, — а теперь… Свершилось! Она — ведущая! Кто бы мог подумать…
Когда первый восторг слегка поистрепался, мысли девушки переключились на предстоящее интервью… Забавно будет встретиться с Земцевым, — и не где-нибудь, а в Москве, в студии телеканала, на котором (и в этом не приходится сомневаться) ей отныне суждено играть первую скрипку. Увлеченная своими планами, Настя не стала выяснять, зачем ее искала Макухина. Может быть, чтобы выдать деньги, зарплату…
Да, Макухина — это всего лишь деньги, зарплата, те жиденькие рублишки, которые им выдают в тощих конвертиках… Но Насте, которая всегда считала себя выше низменного прагматизма, меркантильного копейничанья, выше черной гонорарной зависти коллег, сейчас было не до финансовых проблем. Куда больше ее занимали вещи сугубо профессиональные: когда состоится ее дебют в качестве ведущей, как ей себя вести, во что одеться, каким тоном задавать вопросы собеседнику… Лучше всего, пожалуй, подойдет отвлеченно-беспристрастная манера речи, без заискивания, без явного пиетета перед собеседником, с аристократическим отстранением, с тонкими изящными шпильками — всем тем арсеналом тайных средств, который позволит сделать интервью острым, но не скандальным: ведь скандальность противоречит самой физиологии утренней, изначально оптимистичной передачи. Впрочем, жаль, что противоречит. Очень жаль…
А еще ей надо решить, как вести себя с Гагузяном. Хотя что, в сущности, можно предъявить ему по гамбургскому счету? Смахивание воображаемых пылинок с женского плеча? Касание ладонью, более придуманное, чем реально бывшее? Еле заметное прикосновение к волосам? Однако стоит звякнуть Шумскому — во-первых, сообщить, что ей предложили стать ведущей: все же старичок кое-что сделал для нее, пусть и не так много, как мог, как обязан был сделать по тем давним, практически родственным связям с ее матерью… Во-вторых, добавить постскриптумом, сопровождая свое замечание удивленным смешком: мол, на студии его, Шумского, считают ее отцом, непонятно почему, так что пусть не удивляется, если вдруг услышит…
Конечно, в ответ дядя Захар наговорит ей всяких приятных вещей. Наверное, начнет расспрашивать о матери, скажет, что он почел бы за честь иметь такую дочку, красавицу, умницу, семь пядей во лбу, семь футов под килем, заверит, что и впредь станет ей помогать и что, если у нее вдруг будут проблемы, он всегда поможет ей их разрулить, ведь по большому счету он за нее в ответе, поскольку отчасти по его вине (старческий подкашливающий смешок) Настя и попала в останкинский серпентарий… После чего они оба рассмеются сердечным смехом, как смеются люди одного уровня,‘Воспитания, одних интересов, смеются межстрочно, пунктиром, так, что другим может быть неясно, над чем они так самозабвенно веселятся.
То есть он должен ей сказать все это как человек в возрасте, к тому же друг ее матери и вообще знакомый семьи, порядочный человек — для своих порядочный, конечно, для тех, кто с ним в связке, кто с ним по жизни идет ноздря в ноздрю, а для остальных — по-разному, как придется…
Но дядя Захар неожиданно нарушил все ее планы, позвонив первым, когда Настя еще не успела приготовиться к разговору. И он звонил ей не для того, чтобы выслушать обтекаемые, обкатанные во рту благодарности, а для того, чтобы кое-что разузнать у нее. Но что же?
Прервав поток словесных округлостей, которыми от-репетированно сыпала его протеже, он настороженно буркнул:
— Что там у тебя с Макухиной?
— Ничего, — оправдываясь, пролепетала Настя. — Мне предложили стать ведущей.
— А при чем тут Макухина? Это же не ее епархия, — на противном конце провода пожал плечами (конечно, воображаемо и подразумеваемо пожал) Шумский. А потом добавил жестко: — Если тебя спросят обо мне, скажи, что я вообще ничего не знал… Слышишь, ничего!
В ответ на Настино мычащее недоумение трубка отозвалась нервной пульсацией.
Девушка в уме перебирала фразы странного обрывистого разговора. Что имел в виду Шумский? Что он не знал? О чем вообще речь?
Было тревожно.
Глубокой ночью Настя позвонила домой. Она усиленно притворялась спокойной, хотя спросонья мама совсем не различала оттенки дочкиной тревоги.
— Тебя берут ведущей! — воскликнула Наталья Ильинична, но, оценив не только приятность новости, но и ее скоропостижность, бдительно осведомилась: — Это заслуга Захара? Или нет?
Как ей было объяснить, когда и самой себе объяснить происходящее было невозможно… Настя нечаянно всхлипнула: ком в горле мешал говорить.
— Неверное, я понравилась руководству… — выдавила она.
— Кому? Цыбалину? — спросила опытная мама. В ее сонном хрипотке прорезалась полночная подозрительность.
— Скорее уж Гагузяну…
Она не стала уточнять, чем именно понравилась, не стала озвучивать свои зыбкие сомнения, понимая, что на сей раз мама ничем не сможет ей помочь. На сей раз ей придется решать все самой. И на все решаться…
Ребус разросся в ее голове до размеров гигантской головоломки и теперь давил виски, мешал дышать, думать, жить…
А мама все восторгалась дочкиным успехом, все советовала, наставляла (ее советы и наставления звучали как из прошлого века, не по существу и не по адресу), строила предположения и догадки, а потом вдруг сникла, точно шарик на нитке, слабо обжимавшей его тонкое устье:
— Ну что я тебе говорю! Ты же взрослая, все знаешь сама…
«Часто мы должны выбирать между чувством долга и велением сердца, — скажет она, когда очередная телеистория станет поводом для нового моралите. — Героиня нашего сегодняшнего сюжета колебалась между любовью и обязанностью, пока сама жизнь не определила ее выбор. Порой мы склоняемся в пользу долга, отказываясь от любви. Увы, обстоятельства толкают нас на жертву, делая нас несчастными… Однако в выполнении долга уже заключена толика счастья! Главное — ее найти, ощутить, прочувствовать…»
И она тоже сделала выбор не в пользу сердца.
Глава 4
Сразу после разговора с «дядюшкой» Настя решила расстаться с Бесом. Ей казалось, что подобная связь может неблагоприятно сказаться на ее карьере, ведь, если руководство канала узнает о ее связи с «торчком», бог знает, как это может сказаться на ее телебытовании…
Однако невозможно было выбросить из памяти бывшее между ними и несбывшееся. Когда по радио звучали его бессловесные, из одних аккордов композиции или песни с глуховатым английским речитативом, Настя внутренне вздрагивала. И мало что понимала из того, что творится вокруг нее, даже если Валера говорил ей нечто важное, вот как, например, сейчас:
— Макухина спрашивала у меня о тебе…
— Что? — переспрашивала Настя, не понимая ни слова из того, что ей говорили, даже саму себя не слыша в этом сумбурном разнобое, затесавшемся между двумя радийными вставками, в его лучшей мелодии, в его любимом напеве…
— Ну, я сказал: работает, мол, как все…
…Интересно, где он сейчас? С кем? Поклонниц у него тьма-тьмущая, выбрать из них хорошенькую и нетребовательную куда проще, чем быть с ней, с Настей, проще, чем ежевечерне выдерживать ее оценивающий взгляд: под кайфом он сейчас или нет, после ломки или… Или — что?
— Что? — размыкала она пересохшие губы.
— Непонятно, чего она на тебя взъелась… Да-а-а, теперь ты у нас ведущая и со мной спать ни в жизнь не станешь… Может, щас попробуем, пока ты еще на земле, а не в эфире, а? Настюха, ты что? Оглохла, что ли?
…Вадим никогда не рассказывал ей о себе, да и она тоже молчала. Они были как два атома, случайно сцепившиеся валентной, крепче любви или ненависти, связью, как две щепки, прихотью течения прибитые к одному и тому же берегу… И как Настя ни твердила себе, что ей с ним не по пути, что он для нее — это гибель, смерть, тлен, что они слишком разные, слишком чужие друг другу…
И что если бы мама узнала, то она бы, конечно… И если бы папа проведал, то он бы, естественно… И как хорошо, что они ничего не знают, никто ничего не знает, никто! Как хорошо, что она догадалась сменить квартиру (дяде Захару спасибо, это он предложил подобрать ей подходящий жилищный вариант), как хорошо, что он ей больше не позвонит… И как плохо это все…
Плохо. Да.
— Слышишь, — предупредительно поднял палец Валера, вслушиваясь в мелодию. — Беса опять взяли в ротацию на MTV. Странно — композиция, кажись, новая, а ведь трепали, что он окончательно сторчался, давно ничего не пишет…
— Что? — Настя, наконец, вернулась в монтажную комнату, к перхотному Валере, давно уже привычному и где-то даже домашнему, все про всех знавшему, все про всех ведавшему. А вот про нее он ничего не знал, не ведал, не догадывался даже, слава богу…
— Кстати, ты в курсе, его настоящая фамилия — Цыбалин? Вадим Цыбалин, сын нашего Главного…
— Бесов — сын Цыбалина? — не поверила Настя.
— Музыкант он, естессно, гениальный, но… Был! Пока не сторчался… Вчера я наткнулся на него в нашем буфете, у него вид как у вурдалака. Наверное, приходил к своему папаше башлей просить. Видно, того, по клубам чешет, на «снежок» не хватает.
— Неужели фамилия Беса — Цыбалин?
— Ну да! Да об этом вся Москва знает, Настюха… Понятно, нашему Главному не в радость такой сынок, он вообще делает вид, что такого родственника у него нет, — чтобы не испортить репутацию. Раньше, говорят, он его лечил, за границу вывозил, в клинике запирал — а все без толку! Теперь они вроде бы окончательно разбежались.
Настя нервно закусила губу. Главное — не показать, что она страшно заинтересована рассказом Валеры. Главное — не выдать себя, это главное…
Но почему… Ведь ничего не было… И теперь ничего нет… И дальше ничего между ними не будет… Никогда.
Выйдя из монтажной, Настя прямиком отправилась в редакцию. С главным редактором Антоном Протасовым у них издавна сложились приятельские отношения. Это был простой (простоватый! — возразила бы придирчивая Наталья Ильинична) сорокалетний мужчина, моложавый внешне, даже несмотря на залысины на лбу. Протасов начинал на ТВ телеинженером, потом в сумасшедшие девяностые годы (виртуозно рокировавшие князей с грязью, свиней с калашным рядом) переквалифицировался в репортеры, потом в стрингеры, работал специальным корреспондентом в горячих точках, но по наступлении тридцати пяти лет, вследствие, наверное, их отрезвляющего, стреноживающего влияния, осел в редакторах, на скучной, но напряженной работе, в скучной, но нужной программе, на высоком, но вполне заслуженном окладе.
Настя готовилась обсудить с Антоном предстоящее интервью с Земцевым. Нужно было расставить смысловые акценты, обкатать вопросы — короче, тщательно подготовить свой дебют в качестве ведущей, свою очередную победу в пику тайно-неудачливому роману с Бесом.
Однако в кабинете главного редактора вместо его миролюбивого хозяина внезапно обнаружилась Макухина, которая смело оккупировала хозяйское место, — с грозным просверком под белесой, карандашом очерченной бровкой, с надменным выпятом нижней губы. Финансистка имела такой страшный вид, как будто находилась в пыточном кабинете, вооруженная плеткой-семихвосткой, булавой или держала в руках меч-кладенец, голова с плеч…
— Вы, Плотникова, поначалу казались мне образцом бескомпромиссного журналиста. По крайней мере, с этой стороны мне вас рекомендовали, — начала Макухина без околичностей. — По крайней мере, именно на эти ваши качества рассчитывало руководство канала, приглашая вас на работу…
Настя виновато опустила глаза.
— Но вы, без году неделя на канале, стали заниматься неблаговидными делами… Делишками, я бы сказала! «Джинсой»!
— «Джинсой»? — задохнулась девушка.
— Именно, — отрезала Макухина. — Я знаю, Протасов не поручал вам приготовить материал об этом вашем «Фонтане»… Сколько вам заплатили за рекламу нового препарата? И кто? Назовите фармацевтическую компанию! Чистосердечное признание в ваших же интересах!
— Мне не в чем признаваться, я… — начала Настя, но суровое «Впрочем, это не важно» прервало поток испуганно слипшихся во рту слов.
— Вы нарушили главный принцип нашей работы: никакой «джинсы»! Вы уволены!
— я…
Настя беспомощно обернулась на Протасова, тот лишь оторопело взирал на всевластную Макухину. Бесстрашный стрингер, прошедший Чечню и Белград, трясся перед бескомпромиссной финансисткой, подмявшей под себя всех и вся — своими белыми конвертиками и своими красивыми словами о журналистском долге…
Но как же интервью, как же Земцев, как же Москва, как же мечты, надежды…
— Вы уволены, Плотникова! Сдайте пропуск-и журналистское удостоверение, подпишите обходной лист. Все!
Да, она пойдет и признается во всем… Покажет исходники, объяснит… Они поймут: она решилась на этот шаг лишь из-за хронического бестемья. Ведь недавно сам Гагузян дал журналистам карт-бланш: снимайте что хотите. А она сняла то, что. снаружи похоже на «джинсу», но не «джинсовое» ни в одном своем кадре — ведь она все выдумала, от первого до последнего слова. И никакого препарата нет, никакой «фонтан» не взмывает перламутровой, с мраморным отливом струей в небеса. Однако признаться в этом — означало собственноручно расписаться в своей журналистской беспомощности. Невозможно!
И какое затмение тогда на нее нашло? Ведь не будь этого материала, какой прекрасной оказалась бы ее телевизионная судьба! Ну, сдала бы она выпускающему слабый сюжет — ее провал мгновенно забылся бы, едва она очутилась бы в кресле ведущей. И зачем она решилась на эту «псевдоджинсу», ведь не девочка же, простушка, первый день на ТВ… Увы, сделанного не воротишь.
Конечно, Валера засвидетельствует, что она самолично придумала чудо-препарат. Что она сочинила и его название, и приплела ему мнимую панацейность. А Пустовалов и вся съемочная группа удостоверят правоту его слов — ведь снимали они лекарство от псориаза, а не средство для потенции. Но только эта их защита для Насти — как нож под дых, нестерпимо. И зачем же она…
Черт! Черт! Черт!
Ясно зачем — чтобы всегда оставаться самой лучшей, самой талантливой, не чета другим, какой она была с самого детства: на пределе высших возможностей, у самой верхней планки, во всем эталон и образец для подражания, недостижимый идеал среди невнятных людишек со стандартной судьбой…
И одному только Вадиму ей не нужно что-либо доказывать, потому что мирская шелуха не имела для него особого значения, ему совершенно не важно было, какая она, а важно было то, что она есть рядом, что она молчит, дышит, существует. Поэтому, наверное, и ей было с ним так хорошо, как не будет уже никогда и ни с кем…
Но речь сейчас не о нем, а о ней, ведь для нее теперь все кончено, потому что признаться Макухиной в собственном вранье она не может. Потому что такое признание даже хуже, чем явная «джинса»…
Для Насти все кончено. Глупо, но это так.
Так внезапно…
— Что?! — Мама предынфарктно охнула в трубку, не в силах поверить в случившееся.
— Да, — тускло подтвердила дочь.
— А Шумский? Ты звонила ему? Ты с ним разговаривала?
— Зачем? — гордо усмехнулась Настя — не столько для мамы, которая за дальностью расстояния не могла бы прочувствовать гордого накала этой усмешки, сколько для внутренней реабилитации.
— Легче всего опустить руки и сдаться, — сурово парировала Наталья Ильинична. — А ты попробуй переломить ситуацию! Пойди к Гагузяну, пойди к Главному! К министру! К Земцеву, наконец!
— Ладно, я попробую, — тускло пообещала Настя. Но она была уверена — ничего не выйдет.
Когда министру информации сообщили о новом распределении рекламного времени, тот лишь осуждающе покачал головой, а потом заметил своему заместителю, губастому типу со стертым, точно обсосанным лицом:
— Значит, вот они как…
— Только получили лицензию, как сразу все договоренности побоку. Смелые! — уловив неблагодушие в облике начальника, констатировал его помощник Ельцов. — Решили, что теперь им палец в рот не клади. Так ведь и лицензию можно отозвать… Нарушений-то сколько!
— Какие нарушения? — поинтересовался патрон. — Надеюсь, серьезные?
— И серьезные тоже… У кого из телеканалов их нет! — вздохнул заместитель, радея не столько за общее дело, сколько за интересы своего шефа. Обычно он тихо следовал в фарватере событий, ведь начальнику всегда виднее, куда направить баржу своего министерства, в какие такие лазоревые дали, ультрамариновые моря, за какой такой синей птицей. Сейчас нос баржи однозначно указывал на проштрафившегося Цыбалина.
— По лицензии канал считается общественно-политическим, значит, двенадцать процентов его эфирного времени должно быть отведено под детское вещание… Но разве эти бессовестные продавцы рекламы отдадут эфир детишкам? Ведь их передачи нельзя перебивать рекламой, к тому же младенцы ничего не могут купить…
— Безобразие! — грозно отозвался министр.
Понятливый Ельцов мигом просветлел обсосанным лицом, угадав, куда он должен обратить взыскующий нарушений взор.
— Управление государственной инспекции завтра же начнет проверку деятельности канала… — заверил он шефа. — После отправки предупреждения о нарушении условий вещания действие лицензии будет приостановлено.
— Надеюсь, чтобы одуматься, с них хватит и одного дня… Если не подействует, направьте им второе и третье предупреждение.
— Одного будет вполне достаточно, — уверенно улыбнулся Ельцов.
Совещание только началось, когда Настя вошла в приемную генерального директора.
— По какому вопросу? — окрысилась на нее барбиоб-разная секретарша. — Игорь Ильич не принимает!
— Я подожду! — Настя опустилась в кресло.
Сквозь поры гладкого пластмассового секретарского лица проступило возмущение настырной визитершей. Из-за приоткрытой двери доносился бархатный генеральский баритон:
— …О том, что процент детского вещания не соответствует указанному в лицензии… Кроме того, дирекция канала не предупредила министерство об изменении своего юридического адреса…
— Мы их предупреждали! — возразил фальцетом чей-то петушиный голосок. — Если они нашу бумагу потеряли, это их проблемы.
— Сейчас это наши проблемы! — раздраженно вспылил баритон. — Третье предупреждение касается рекламы спиртных напитков… Выяснилось, что у пива «Ершов», рекламируемого нами на льготных условиях, крепость шестнадцать процентов, а это значит, что продукт попадает в категорию спиртных напитков, реклама которых категорически запрещена… Макухина, это ваш клиент?
— Да… — нехотя отозвалась серая кардинальша. — Но дело в том, что компания-производитель покупает у нас восемь процентов всего объема рекламы, причем далеко не утреннюю дешевку… И потом, пиво — оно и есть пиво…
— Да это не пиво, а настоящий ерш! — возмущенно отозвался кто-то невидимый.
Смех, колесом прокатившись по комнате, вылетел в приемную, где терпеливо ждала Настя.
— И потом, все каналы рекламируют «Ершова», но почему-то предупреждают только нас! — возмутилась Макухина. — Мне лично ясно, откуда ноги растут…
— Действительно, придирки-то формальные! — буркнул голос, в котором Настя узнала петушиный фальцет своего мнимого дядюшки.
— Кстати, Шумский, почему вы не обеспечили лицензионной нормы детских передач?
— А где я возьму вам эту норму? — возмутился Шумский. — Чтобы обеспечить двенадцать процентов, я должен выдать в эфир две программы с участием детей плюс мультфильмы и полный метр… Откуда мне все это взять? За границей купить? Но там подобная продукция стоит архидорого, это при том, что рекламу в детские передачи ставить нельзя… Откуда я возьму деньги на закупку? Вот и набирается у нас едва ли три процента от нормы за счет японского мультсериала про харакири, который приходится показывать в самое глухое время, в пять утра.
— Мы же знаем, из-за чего весь сыр-бор, — после паузы вздохнул чей-то негромкий басок. — Не проще ли отдать министерству требуемый процент рекламы, чем выполнять его надуманные требования?
— Кто еще хочет высказаться? — поинтересовался генеральский голос.
— Пусть все останется как есть, — предложил вкрадчивый кавказский баритон. — А там посмотрим… Как у Ходжи Насреддина… Или ишак заговорит, или шах сдохнет! И потом, я слышал, в министерстве нынче ждут перемен… Ну, вы понимаете…
— Если мы выкинем «Ершова» и вставим в эфир детей, то в итоге потеряем солидную часть прибыли… — вздохнула Макухина. — Но через месяц министерство опять отыщет какое-нибудь нарушение!
— Значит, лучше отдать… — с сервильным вздохом резюмировал Шумский.
— Им палец дай — так они всю руку по локоть отгрызут, — проворчал Главный. Голос его отливал палаческим металлом. — Ладно, я подумаю…
В кабинете загремели отодвигаемые стулья — совещание закончилось. Секретарша Цыбалина, настороженно скосив глаза на дверь, еще быстрее затарахтела по клавиатуре компьютера, как будто хотела обогнать саму себя.
Выходившие из кабинета люди, верхушка канала, ее отборное ядро, белая кость, голубая кровь, на сей раз выглядели уныло.
— Главный не в духе, — безадресно заметил кто-то из выходивших.
— Угу, будешь тут в духе, когда тебя как липку обдирают, — возразил ему приятель. — К тому же, знаешь… — С оглядкой на дверь, опасливо. — Его сынок, говорят, опять после передоза… Чуть не скапутился… Дело тухлое… Ему и так не сладко, а тут еще неприятности с министерством…
Настя с бьющимся сердцем поднялась с кресла.
Главному сейчас не до нее… Ей лучше не соваться. И потом, что она может сказать в свое оправдание? Все построенные в уме, добросовестно отобранные, отцеженные фразы сводились к сакраментальному: не виноватая я! Этого было мало…
Но что с Вадимом? Жив ли он? Что, если спросить о нем у его отца?
Тот в ответ обязательно поинтересуется, какого черта она спрашивает, догадается, что между ней и его сыном что-то было — выведет это из ее же бурного отрицания, — решит, что она из той же серии, из той же оперы, из той же тусовки, что и Вадим, и тогда… Тогда…
Нет, не годится.
Углядев в толпе выходивших Шумского, Настя с трудом отлепилась от стены.
— Захар Иванович! — выдавила изо рта непроталки-ваемые, вязкие как гудрон слова. — Мне нужно с вами поговорить…
Какое насилие она над собой совершала в тот момент, лебезя перед этим лысым колобком с испуганной испариной на лбу! И это она, которая никого и никогда не просила о снисхождении, не навязывала себя, не проталкивала, — никому и никогда! — а все получала заслуженно, по праву, по праву рождения, по праву воспитания, по праву красоты и, самое главное, по праву таланта, очевидного для всех и каждого дарования!
Шумский нехотя повернул к ней заржавелую, в багровых наплывах шею:
— А, это ты… — На его лице проступила блеклая, выжженная страхом пустота.
— Меня уволили, — выдавила девушка первую часть заготовленной фразы.
— А, ну, поздравляю… — невнимательно отозвался Шумский. — Едешь домой, да? Ну, предавай маме привет…
— Передам, — пообещала Настя.
И, все еще храня на лице пронзительную улыбку, постепенно вырождавшуюся в трагический оскал, стремительно зашагала прочь. К сожалению, она не могла заплакать — слишком много людей было вокруг нее. Слишком много.
В самолете ее конечно же узнали, несмотря на черные очки и явное желание остаться неузнанной. Сначала стюардесса обронила с особым нажимом: «Рада приветствовать вас…» (это прозвучало как признание), а потом кто-то в салоне узнающе ойкнул «Это она!», явно запамятовав фамилию и имя, выцедив из мусора памяти лишь ее лицо. А потом сосед, какой-то мелкий предприниматель, еженедельно мотавшийся по делам в Москву, прилип к ней с дурацкими расспросами.
После серии дешевых комплиментов этот простофиля попытался назначить ей свидание — но от встречи Настя категорически отказалась, демонстративно любуясь обручальным кольцом кавалера, которое тот не успел припрятать. И добавила с ехидной усмешкой, что святость брачных уз для нее нерушима, после чего мужчина посмотрел на свою руку с такой решительной'неиавис-тью, как будто хотел отрубить проштрафившийся палец вместе с обручальной меткой.
Это узнавание, откровенно говоря, было нестерпимым. А в мозгу свербел, перекашивая на одну сторону напускную улыбку, привязчивый рефрен: ведь еще никто не знает о ее провале! Что будет, когда весть о ее изгнании из «Останкина» обойдет весь город? Знакомые станут тыкать в нее пальцами, враги, наружно сочувствуя, внутренне будут аплодировать ее позору.
В воображении она прокручивала оскорбительный для себя разговор:
— Плотникова утверждает, будто она в отпуске…
— Какой отпуск?.. Ее выгнали за непрофессионализм! Это же очевидно, ведь все видели, как она беспомощно блеяла на экране…
— Да, какие-то слюни про беременную кенгуриху в зоопарке… Да, в Москве таких не держат!
— Интересно, чем она теперь займется?
— Известно чем… Мамочка небось припасла ей местечко… Подарит пару дипломчиков на собственной лепки конкурсах, чтобы девочка поскорей утешилась. Или выдаст замуж за хорошего человека…
— Ну, опять эта фифа станет каждый вечер по ящику фигурять… Всегда ее терпеть не могла!
И Поречная будет наружно сочувствовать, в утешение приводя свой поучительный пример: вот смогла же она выжить без ТВ, выкарабкалась, и даже неплохо себя чувствует, подвизаясь в местной рекламной конторке, и с Настей будет все так же, и даже лучше, — потому что у нее мама… И Илья Курицын станет тайно торжествовать над поражением бывшей жены, уже вторым серьезным поражением в ее жизни, если первым считать ту американскую историю, воспримет этот провал как компенсацию, как знак тайной справедливости судьбы, всем сестрам по серьгам, а на воре шапка… И Борчин, сочувственно улыбаясь, начнет за спиной подхихикивать в кулак, а в лицо примется рубить правду-матку с тайным подтекстом, с микроскопическим, но болючим уколом, с язвинкой, с червоточинкой… Многие примутся жалеть ее — подруги по институту, по музучилищу, школьные приятели, но чем громче зазвучит хор соболезнований, тем невыносимей он будет для Насти. Лучше уж сразу уйти вслед за Бесом на тот свет. Вдогонку за ним.
Да. Слиться с ним в одно целое где-то там, — вернее, где-то здесь, потому что все это думалось на высоте десяти тысяч метров, в самолете, под пронзительно ясным небом, раскинувшим вправо и влево свои необозримые крыла, напротив солнца, обрамленного выцветшим ореолом игольчатых лучей — слиться в музыкальной фразе, в одном аккорде, сплетясь звуками, как пальцами, и полететь рука об руку — все выше, выше, выше, все дальше от земли, с ее свинцовым, вымотавшим душу притяжением, в невесомость бестелесности, в прямой эфир…
Оказывается, можно пережить и фальшивое соболезнование, и искреннее сочувствие. Все это одолимо, если водрузить на лицо маску, похожую на пиратский. флаг с его бандитским угрожающим оскалом. Если к телефону не подходить, дверь не открывать, на улицу не выползать, ни с кем не встречаться, а только днями напролет листать географический атлас в поисках города, готового принять беглянку, но не находить его, и снова искать, и снова не находить.
Однако от дяди Коли Баранова с его демонстративным сочувствием спрятаться было невозможно. Едва ли не в первый вечер после прилета Насти заявившись к Плотниковым, он покровительственно похлопал девушку по плечу:
— Ничего, ничего, деточка. Бывает…
Николай Федотович пожаловал с женой, однако без хрустальной вазы. Он, конечно, ни за что не пришел бы первым, поскольку сын его теперь подвизался в каком-то министерстве, и если не шел в гору, то уверенно и целеустремленно заползал на нее, что как будто давало его отцу некую фору в их негласном соревновании с Плотниковым, предоставляло возможность реванша в той необъявленной войне, которую давние сослуживцы вели — неосознанно, но беспощадно — друг с другом. Однако очень уж хотелось ему полюбоваться раздавленной неудачей Настей, ее растоптанными родителями, хотелось лицезреть вымученные улыбки на их лицах, хотелось с царственным великодушием утешать их, заранее зная бесполезность, никчемность и даже болезненность подобного утешительства — все равно что подживающую рану изо дня в день теребить лишними перевязками, имея при этом цель самую благую.
— Что же ваш драгоценный Шумский не вступился за Настеньку? — будто бы радея за девушку, но на самом деле тайно радуясь ее неуспеху, начал Баранов, вонзая кинжально заточенное лезвие в невидимую рану.
Его замечание произвело ожидаемый эффект. Настина мама объяснила с бледной улыбкой:
— У него самого дела нынче не ахти… Какая-то комиссия из министерства грозит канал закрыть…
— Значит, поэтому вашу Настеньку оттуда поперли? — бесцеремонно заметил друг семьи, не только загоняя орудие поглубже, но и с хрустом проворачивая его в отверстой ране.
Настя бледно молчала.
— Что же вы… Надо было позвонить моему Сереже, у него связи, он бы мог помочь… — Баранов досадливо оглядел застольно коричневевшую бутылку «Метаксы», заметив, что всегда предпочитал греческим поделкам оригинальный «Мартель» с его чистым как слеза ароматом, который, между прочим, не только в совокупности с лимоном хорош, но и сам по себе, в чистом виде.
— Да-да… — вынужденно согласилась неизвестно с чем (не то с коньяком, не то со звонком Сереже) Наталья Ильинична.
Настя чуть не взвыла от внутреннего напряжения, от которого потемнело в глазах, точно перед обмороком.
— Да ведь не закрыли канал-то! И не закроют! — сурово, как бы чистую правду говоря и за нее же радея, поднял замутненные коньяком глаза дядя Коля и с удовольствием еще раз провернул орудие в невидимой, но всеми нервами осязаемой ране: — Небось руководство канала под этим предлогом захотело от лишних людей избавиться…
Допив рюмку, он поднялся на затяжелевших ногах. И, уже стоя в двери, снисходительно обронил с дружеской ворчливостью в голосе:
— Значит, завтра же позвоню Сереже… Он для вашей Насти чего-нибудь сделает по старой дружбе, вы уж не беспокойтесь. Пристроим куда-нибудь девочку…
И пока никто не успел крикнуть ему в спину защитительное, запрещающее «не надо», с треском затворил за собой дверь.
Две недели Настя валялась на диване, грызла нянюшкины печенюшки, листала книги, которые еще недавно находила интересными, а теперь считала ужасно скучными, слушала диски (особенно часто последний диск Беса, нервно-напряженный, высокооктавный, высоковольтный, весь на разрыв аорты, на замирание сердца сделанный) — и все перетирала свое прошлое, тем самым понемногу изживая его, изжевывая как будто.
И думала Настя, что непонятно по какой причине вообразила она себя великим талантом, ведь никаких реальных оснований, которыми бы питалось столь лестное мнение, у нее не было. С другой стороны, возражала она себе, конечно, талант у нее имелся в наличии, и талант безусловный, хотя не столько журналистский, сколько дикторский, но талант — это еще не все в нашем скучном мире, под горлышко стянутом цепями условностей, связей, чужих и своих выгод, уступок и одолжений. Не вписалась Настя в мелкоузорную вязь интриг — и вылетела со свистом из «Стаканкина», несмотря на свой талант, который у нее все же имелся, ведь недаром она столько лет на ТВ пробавлялась… Не только же мамиными усилиями, но и своими тоже!
А потом… Но «потом» не было ничего, кроме ламентаций, и сожалений, и неясных планов, и не изжитой до конца обиды… То грезился ей отъезд в другой город, в соседнюю область, то прикидывала она, за кого бы ей быстренько выскочить замуж, чтобы скоропалительным браком-замужеством прикрыть брак производственный, то подумывала организовать собственное рекламное агентство, а потом, может быть, снять какую-нибудь докумен-талку на заработанных капиталах, а после, набравшись опыта и авторитета, на большое кино переключиться…
Но… Большое кино в маленьком городе… Не бывает! Ах, сколько она сделала бы на столичном телевидении, если бы… Если бы ее жизнь обернулась по-другому.
Например, каналу, как известно, не хватает детских передач… Пожалуйста! Можно сделать подростковые новости. Затрат — минимум: яркая студия, парочка ведущих нужного возраста. Новости школьные, новости компьютерных игр, новости детской моды. Советы, как наладить отношения с родителями. Рекомендации, как бороться с хулиганами. Где отдохнуть на каникулах школьнику. Как подработать. Да мало ли!..
Или, например, еще… Передача о людях, которые попали в экстремальные ситуации и успешно справились с ними. Например, выжили после ужасной аварии. Или собственными усилиями спаслись из январской полыньи. Или в разгар безработицы открыли свое дело и через тернии к звездам стали предпринимателями. Или, например, начали на телевидении рядовыми корреспондентами, а потом стали телеведущими, обожаемыми всей страной…
Последнее — не про нее, увы, не про нее…
Через две недели добровольного, почти монашеского, если не брать в расчет чревоугодие, затворничества Настя подвела черту под своей прошлой жизнью. Замерев в неустойчивом равновесии, еще не до конца отказавшись от прошлого и не полностью смирившись с будущим, она внутренне созрела для выбора нового пути.
Но ее размышления внезапно прервал долгий междугородний звонок.
Трубку подняла нянюшка — Настя, неделю назад объявив бойкот телефону, вовсе не собиралась его отменять.
— Ее нет, — привычно отозвалась старушка и так же привычно поинтересовалась: — Кто звонит? Что передать? Чумский, да?.. Ага, Шура-Ульяна-Мария и так далее… Шумский!
Настя подскочила на месте, но, стреножив свое любопытство веригами воспаленного самолюбия, вновь ровненько осела на диване.
«Шумский, наверное, хочет извиниться», — подумала она. Но к чему ей теперь его оправдания? Когда все у нее отболело, все ушло, все уже в прошлом…
Трубку перехватила мама, оскорбительно холодным «алло» демонстрируя полную бесполезность любых телефонных реверансов.
Однако говорят, что вчерашнее прошлое — это завтрашнее будущее… И когда мама, обернувшись к дочери с вопросительно затихшей, чего-то ждущей трубкой, растерянно пробормотала: «Он говорит… Тебя зовут… вести вечерние новости!» — она поняла, что ей не избежать ни того ни другого.
— Да, она вылетает немедленно, — не дожидаясь дочкиного согласия, выпалила Наталья Ильинична, обладавшая кошачьей реакцией.
— Я никуда не поеду! — ответила Настя, когда трубка уже засипела междугородними помехами, сердечно прощаясь. — Мой ответ — «нет»!
Отлету предшествовала целая ночь истерик и обсуждений.
— Я не хочу, чтобы Бараненок просил за меня! Это унизительно!
— Подумай, Настя, какой Бараненок, ты что… Я узнавала, он — лишь мелкая шишка в Министерстве машиностроения, заместитель начальника отдела, что ли… Да на телевидении он ничего сделать не может!
— Это не важно! Здесь все вообразят — весь город, и знакомые, и незнакомые, — что только благодаря ему меня взяли обратно… Бред какой-то! С ума сойти: протекция Бараненка, этого толстого недоумка, который вечно потом воняет! Невыносимо!
— Не нужно слушать сплетни, Настя. Ты едешь, потому что тебя пригласили!
— На каких условиях пригласили? Что они от меня хотят?
— Никогда не узнаешь, пока не попробуешь, — рассудил Андрей Дмитриевич, метавшийся — морально и материально — между женой и дочерью.
— Настя, дважды на такое место не зовут, — на излете спора заметила Наталья Ильинична, совершенно обескровленная яростным сопротивлением дочери. — Будешь потом всю жизнь локти кусать!
— Лучше всю жизнь кусать локти, чем хотя бы однажды унизиться перед Барановыми, — с надрывом проговорила Настя.
И отправилась собирать вещи.
Глава 5
Гадая, что произошло во время ее отсутствия, Настя вылетела в Москву. Что-то все не сходилось в ее рассуждениях, пасьянс не складывался, пазлы не сцеплялись в выпукло-ребристый, знаменитого пейзажиста ландшафт, то в картинке все что-то мешало и выпирало из нее, то при рассмотрении в ней обнаруживались лакуны и пустоты, провалы и бездны.
Может быть, Шумскому стало стыдно за свое непротивление злу насилием… Может быть, Макухина поняла, что никакой «джинсы» на самом деле не было… Может быть, Гагузян, разглядев ее великие дикторские задатки, лично бросился на амбразуру начальственного гнева…
Дядя Захар при встрече был приторно любезен. Он даже сердечно приобнял Настю, вводя ее в знакомый предбанник.
— Что же ты сбежала, дурочка! — В его голосе звучала отцовская нежность. — Тебя искали в Москве, не нашли… Вечерние новости у нас сейчас не прикрыты, возьмешься, надеюсь?
— Я же здесь, — надменно буркнула Настя, собираясь быть гиперосторожной со своим покровителем.
— Конечно, без моего содействия тебя нипочем не нашли бы! — торопливо заметил Шумский, снизив голос до интимного шепота. — Ведь это я настоял на твоей кандидатуре… Конечно, кое-кто возражал, пришлось стукнуть кулаком по столу… Сама понимаешь, желающих много, а должность одна. Ну, точнее, две…
Взглянув на маленький кулачок, обметанный рыжей порослью и обсыпанный ржавым пигментом, Настя оскалилась настороженной улыбкой, которую при желании можно было счесть благодарственной. Кажется, добрый дядюшка хотел увидеть на ее лице признательность, вводил в неоплатный долг, — он как будто дальновидно рассчитывал на будущую власть своей протеже, которая ему может пригодиться — и власть, и протеже…
Они вошли в кабинет, дверь которого ранее украшал красочный логотип «Побудки», а теперь на ней висела наспех отпечатанная табличка «Вечерние новости», что свидетельствовало если не о неотвратимости происшедших здесь перемен, то хотя бы об их радикальности. Га-гузян встретил Настю как старую знакомую, и притом знакомую любимую — что было немудрено, если вспомнить те его пассы и жесты, которыми он не то обвораживал девушку, не то мутил ей голову во время недавнего производственного тет-а-тета.
— Куда же ты запропастилась, Плотникова! — воскликнул он, с неожиданной галантностью припадая к девичьей руке. — Мы тебя искали по всей стране!
— Меня уволили, если вы помните, — тоном оскорбленной невинности заметила Настя.
— Того, кто тебя уволил, тоже уволили. — Дернув заволосатевшей губой, Гагузян расцвел кривой, как ятаган, янычарской усмешкой.
«Макухину уволили?» — удивилась Настя, наружно не выказывая ни удовлетворения, ни сожаления. Неужели беспринципную финансистку уволили из-за нее? Хотелось бы в это верить…
— Блок наших вечерних новостей рассчитан на двадцать две минуты, — информировал Гагузян новую ведущую, вводя ее в курс дела. — Пока мы планируем так: политика — пять минут, социальные новости — десять, еще пять минут — спорт, культура и что там еще найдется… Обязательный прогноз погоды. Но прогноз будет не на тебе, так что не волнуйся… Короче, основной упор делаем на социалку. Уже прикинули: планируемый состав зрителей — это пенсионеры, городские бюджетники, мелкие служащие…
— Новости для бедных, — объяснил Шумский.
Настя поморщилась. Гагузян заметил ее гримасу:
— Иначе пока не получается… Общероссийское вещание нам не по карману. Завоевание аудитории начнем с Москвы, освоим столицу — двинем дальше… В общем, думаю, ясно: ведущая новостей должна нравиться пионерам и пенсионерам.
— И всем остальным мужчинам! — подмигнул Шумский — в его тоне прозвучал двусмысленный намек.
Гагузян перебил «детского» директора, невнимательно фыркнув:
— Не думаю… В сущности, в первую очередь ты должна понравиться женщинам. Домохозяйкам. Они должны идентифицировать себя с ведущей, только тогда «новости» станут по-настоящему эффективными. Из этого следует манера подачи материала — простая, без зауми, без этих новомодных затей с множеством камер, с дешевым инфотейнментом — развлекаловкой для гурманов. Надо понимать, что обеспеченные гурманы новости вообще не смотрят, потому что для них особый шик — это не знать новостей… А почему так, знаешь?
«Действительно, почему?» — задумалась Настя.
— Потому что богатые не зависят от политической текучки. От нее зависят бедные — вот что мы должны иметь в виду.
— Короче, дешево и сердито, — пояснил Шумский.
— Скромненько и со вкусом, — возразил Гагузян.
Настя с трудом изобразила восторг: это было совсем не то, о чем ей грезилось в самолете. Правда, по сравнению с двухнедельной выдержки мечтами о провинциальном рекламном агентстве это было нечто…
— Каковы будут ваши условия? — спросила она дерзко, как учила ее мама, потому что надо помнить: кто ничего не просит, тому ничего не дают, времена дешевой булгаков-щины канули в Лету, в наше циничное время бессребреников не любят, нестяжатели в нем не выживают.
Гагузян белозубо сверкнул ятаганской улыбкой, надвое располосовавшей лицо:
— Диктуй свои условия. Я весь внимание!
Заносчиво вздернув подбородок (от страха), Настя швырнула ему в лицо отливавшую металлической чеканкой фразу:
— Пять тысяч долларов в месяц, я думаю, мне хватит…
Именно эту гипотетическую сумму озвучила Наталья Ильинична, придя к ней совершенно умозрительно, в отрыве от реальных московских заработков.
— Две. Плюс служебная квартира, в перспективе — машина с охраной.
Пришлось согласиться.
— Итак, начинаем работать! — поднялся Гагузян, завершая аудиенцию. — Через две недели — первый эфир.
Столько событий уместилось в этот куцый, наполовину укороченный поздним прилетом день… Последним его аккордом стала встреча с Валерой. Настя заглянула в монтажную, впервые за день выдав на лицо не отрепетированный полуоскал, которым она оборонялась от тайных пакостей судьбы, а вполне искреннюю улыбку.
— Привет, красотка! — просиял Валера, раскрывая слишком пылкие для хорошего вкуса объятия. — Между прочим, я хранил тебе почти супружескую верность, Настюха. И даже ни с кем не спал… Ну почти… А ты?
— Я тоже, — рассмеялась Настя, чувствуя себя вернувшейся домой. — Послушай, просвети меня, что стряслось с Макухиной?
— Ничего особенного, — проговорил Валера скучным голосом. — Яйцерезке откусили ее железные яйца. Оказалось, что пиво «Ершов», из-за которого наш канал чуть не лишился лицензии, — это ее креатура… Правильно я употребил это слово, ты не в курсе? Ну, не важно… Короче, с «Ершова» она снимала пенку себе в карман — за риск. Ну, понятное дело, такое свинство начальству не понравилось… Во время министерской проверки все вскрылось, Макухину выставили вон, а «Побудку» закрыли… К тому же рейтинг был у нее нулевой…
— А что Ваня Проценко? Ну, наш косенький? Где он?
— С ним тоже история, — ухмыльнулся Валера. — Отправился вдогонку за Макухиной… Ведь его почему ведущим взяли? Потому что его кандидатуру из министерства спустили. А он не тянул…
— Да, косенький не тянул, — подтвердила Настя.
— А потом предупреждения сверху посыпались, угрозы… Попутно, пока с нарушениями утрясали, вдруг выяснилось, что никто не знает, откуда Проценко к нам прислали. В министерстве его не признают, говорят — он, мол, у вас конкурс выиграл, а то, что кассета была министерским курьером привезена, так мало ли кто кассеты нам шлет… Психов-то полно! Ну, они, мол, только отправили ее с оказией… После этого от косенького по-тихому избавились.
— Бедный Ваня, — лицемерно вздохнула Настя, чувствуя себя отмщенной за конкурсный провал. И ощутила приятную снисходительность к сопернику.
— За него не волнуйся, его на дециметр взяли. Ну, не ведущим, конечно… Как ведущий он. нулевка, честно сказать. Не то редактором, не то старшим, куда пошлют…
Итак, все сестры получили по серьгам, а воры по шапкам. Справедливость была восстановлена, законность восторжествовала.
Оставался еще один вопрос, который девушке нужно было выяснить, несмотря на внутренний голос, твердивший об осторожности.
— Слушай, а как у Главного дела? — начала Настя издалека.
— У кого? У Цыбалина, что ли? Он цветет и пахнет!
— А его сын? Я слышала, что… Как он?
— Чего это ты им интересуешься? — удивился Валера. — Тоже его поклонница, что ли?.. Ты это брось, Настюха, от «торчков» не дождешься настоящего кайфа в постели. Кстати, лично тебе я готов продемонстрировать высший класс, хочешь?
— Когда-нибудь потом, — смеясь, отмахнулась Настя. — Например, после дождичка в четверг или когда рак на горе свистнет.
— Ой, Настюха, теряешь шанс на блаженство, — получив привычный отлуп, но совершенно не огорчившись, предупредил Валера. — Когда будешь старая и страшная, кто тебя полюбит, кроме меня?
И правда, кто? Тем более, что Валера так и не ответил на ее осторожный вопрос. А расспрашивать дальше она побоялась.
Антон Протасов искренне обрадовался Насте. Они не виделись всего-то недели две, однако девушке показалось, что со времени их последней встречи пронесся добрый десяток тяжелых лет, принесших в своих пергаментных ладонях запоздалые сожаления. Она, кажется, ничуть не удивилась бы, если бы обнаружила, что пышнокудрую, отменного шатенового цвета шевелюру Антона, уже вступившего в опасный внеплановыми вывертами судьбы сорокалетний возраст, вдруг расцветили серебристые вервии седины.
— Ты куда запропастилась? — попенял ей Протасов, ласковым тоном оттеняя ворчливые слова. — Я тебе звонил, звонил, чуть телефон не оборвал… Жена даже решила, что я завел себе любовницу, устроила скандал… Где ты пропадала, ангел мой?
— Где, где… В Караганде! — фыркнула Настя. — Меня же уволили, если ты помнишь!
— Тебя не уволили, тебе сказали, что уволили, — а это две большие разницы, — заметил Антон с коротким смешком. — Ты всегда веришь тому, что тебе говорят?
— Теперь уже не очень, — рассмеялась девушка.
— Макухина просто пугала тебя, рассчитывая, что ты ей своего «джинсовика» сдашь. А ты просто сбежала! Нельзя же быть такой тонкокожей… Надо советоваться с опытными, знающими людьми.
— Я пыталась… И потом, Антон, никакой «джинсы» не было, — возразила девушка, темнея лицом.
— Ладно, ладно, хватит оправдываться! Не было так не было…
Он подошел к столу, чуть заметно прихрамывая из-за старого ранения. Настя задержала взгляд на украшавшей стол семейной фотографии в рамке. На ней Антон обнимал жену, а пухлый пятилетний мальчик с шкодливым, совершенно томсойеровским лицом вынужденно замер перед объективом, похожий на пулю за секунду до выстрела.
— Между прочим, пока ты отдыхала неизвестно где, у меня второй сын родился, — сообщил Антон, заметив взгляд девушки.
— Поздравляю! — сердечно улыбнулась та. — Будущий телевизионщик, да?
— Не дай бог! — Антон вздохнул, придвинув к себе компьютерные распечатки. — Теперь прости-прощай восьмичасовой сон и домашнее спокойствие…
Он долго рассказывал ей о жене, нервничавшей по поводу пищеварения у маленького, о его росте и весе… Антон и сам, видно, нервничал — его скуластое лицо подергивалось едва заметным тиком. Покончив с семейной лирикой, он произнес почти устало:
— Ну, давай, Настя, работать… Нам поручено сделать из тебя звезду всероссийского масштаба. Цыбалин, между прочим, лично распорядился… Ты-то сама хочешь этого?
Как будто он сомневался в ответе!
На самом деле звезд, предназначенных к зажжению и восхождению на теленебосклоне, оказалось трое — как ни неприятно это было Насте, как ни страдало ее самолюбие, заточенное до хирургической тонкости, однако не она одна должна была украсить телеэфир. Ведущими должны были стать Плотникова, Ларионова и еще третья, некто Ельцова.
— А, Настя… — Ларионова европейским условным поцелуем припала щекой к щеке коллеги. — Рада тебя видеть… У нас тут без тебя и солнце не встает!
Ирочка, томная блондинка, хрупкая, тонколицая, с почти прозрачным лицом, выглядела как настоящая ки-нодива — дорого и породисто.
— Будем работать понедельно — неделю ты в эфире, неделю — я, — объявила она, с такой нежностью взглянув на Гагузяна, что стало ясно: после отъезда пугливой Анастасии пылкий «побудочник» недолго мучился подбором ей адекватной замены.
Вслед за этим в комнату вплыла грудастая рыжеволосая красотка, еще на пороге проворковав меццо-сопрановым, много чего сулящим голосом:
— А вот и я! — Это была Милена Ельцова, третья ведущая.
Настя надменно кивнула вошедшей, а Ларионова неодобрительно оглядела силиконово колыхавшийся бюст прелестницы.
Вслед за Ельцовой в качестве ее безмолвной свиты в комнату просочились еще двое — девица спортивной внешности в карлсоновском (только пропеллера не хватает) комбинезоне и лощеный тип в очках с творческой безу-минкой в глазах.
— Юра Лосев — пиар-менеджер, — отрекомендовал Гагузян лощеного типа, а потом представил аудитории Карлсона: — Лена — ваш имиджмейкер, стилист, гример.
— Откуда эта рыжая? — ревниво наклонилась Настя к Ларионовой, пока новоприбывшие обменивались приветствиями.
— Кажется, чья-то пассия из министерства, — также тихо ответила Ира. — Или жена.
— Они бы еще Олега Попова пригласили! — фыркнула Настя на ухо подруге — а на фоне обострившейся конкуренции ей приходилось считать Ларионову своей подругой. — Откуда ее выкопали? Из цирка?
— Из порнотеатра! — Ирочка прыснула в кулак.
Рыжая, догадавшись, что шепчутся о ней, облила товарок отборным презрением.
— Как я понимаю, — произнес лощеный Юра, начиная производственное совещание, — у нас трое ведущих, и у всех должен быть разный стиль. Наша первоочередная задача — разработать этот стиль, выделить личную индивидуальность и довести ее до рафинированной очевидности.
— Ну, вы работайте, работайте… — Гагузян попятился из комнаты, ускользая от женского высокооктанового трения. Отношения ведущих изначально были далеки от идеальных.
Закипела работа.
Для блондинки Ларионовой имиджмейкер Лена предложила нежный стиль и сдержанную манеру поведения, которую оттенял бы холодный макияж голубых северных тонов. Выслушав ее, Ларионова равнодушно пожала плечами, заранее со всем соглашаясь.
Несколько взмахов кисточкой, подправленные волосы, — и Иру усадили за стол читать первый попавшийся (приказ о матобеспечении передачи) текст. Она механически отбарабанила слова.
— Прелестно! — резюмировал Юра, оценивающе оглядывая красотку. — Но надо больше теплоты в голосе… Ты замужем?
— Была, — ответила Ларионова.
— Чудненько!.. Значит, о тебе создаем следующую легенду: холодная девственница в ожидании прекрасного принца. Увлекается шейпингом, шведским языком, горными лыжами. Любимый писатель — Коэльо. Любимая музыка — классика, Григ, Бетховен… Коэльо прочитаешь, музыку послушаешь, диски я принесу… Легенду выучишь так, чтобы от зубов отскакивала. И никаких романов на стороне без санкции руководства! Ясно?
Это звучало как приказ.
— А он длинный, этот Коэльо? — насупилась Ларионова.
— На твое счастье — нет… Тебе понравится. Что-то вроде сказки для бедных. В духе нашей передачи.
Обернувшись к Насте, Юра оглядел девушку внимательным, не столько раздевающим, сколько разбирающим на составные, взором.
— Ну, с Плотниковой все более-менее ясно: интеллектуалка, два университета, три иностранных языка, Джонн Донн наизусть в оригинале, любимый писатель, естественно, Пелевин, любимая музыка — джаз.
— У нас же передача для бедных! — напомнила Настя, уловив некий диссонанс между пожеланиями начальства и предлагаемым ей образом.
— Кто тебе сказал такую чушь? — уверенно фыркнул Юра. — Бедные не приносят денег за рекламу.
— Зато они приносят рейтинги! — возразила девушка. Ее неожиданно поддержала Ларионова:
— Нам Гагузян так сказал. А он, между прочим, директор информационного вещания.
— Да? Ну ладно… — уступил Юра. — Хорошо, придумаем для тебя что-нибудь потупее… Лена, я иссяк, давай ты?
— Предлагаю: образ — сердечно-задушевный. — Лена отвела волосы со лба Насти. — Макияж — неброско-теплых тонов. Одежда — подчеркнуто женственная.
Юра восторженно щелкнул пальцами.
— Точно! Значит, легенда такая: сердечная девушка на выданье… Роман с небольшим олигархом или спортсменом, жениха тебе подберем… Не бойся, Настя, роман будет формальным, только для прессы: пара встреч на гламурных тусовках, один торжественный поцелуй, совместный отдых (ты — в Эмиратах, он — на Тенерифе). Ну, как обычно это делается… Твои увлечения — домашняя кулинария, бальные танцы. Любимый писатель — какой-нибудь наш, конечно, отечественный… Пушкин? Нет, банально… Достоевский? Сложновато… Толстой? Слишком мессиански… Лесков! Ага…
— Мое мнение учитывается? — оскорбленно осведомилась Настя.
— Ну, говори! — Юра устало откинулся в кресле.
Настя говорила долго. Она рассказывала, что, например, в Америке ведущий должен выглядеть скромно, почти незаметно, чтобы своей индивидуальностью не заслонять смысл подаваемых им новостей, что лучший имидж. — это не выдуманные подробности выдуманной личности, а достойная скромность, что личная жизнь мало кого интересует, когда ты на экране, что хорошо поданные новости исключают необходимость дополнительного интереса к тому, кто их подает, потому что отточенный профессионализм вкупе с…
— Все сказала? — спросил Юра, зевнув. А потом добавил с ноткой скороспелого сожаления в голосе: — Дело в том, что у нас не Америка. Дело только в этом…
Образ рыжей Ельцовой даже придумывать не пришлось: пассионарная сексапилочка, манера подачи — страстно-огневая. Но не постельно-страстная, а, скорее, партийно-страстная, в духе комсомольской юности потенциальной аудитории. Задача облегчалась тем, что у рыжей имелся какой-никакой муж, очевидно формальный и многорогий, поэтому жениха ей не нужно было подбирать, а вопросы о любимом писателе при взгляде на нее отпадали сами собой.
— Любимый танец — ламбада, конечно, — скучно, как о само собой разумеющемся сказал Юра. — Мечта — иметь троих разнополых детей. Вид спорта…
«Разводка мужиков на деньги», — тихо съехидничала Ларионова.
— …Что-нибудь экзотическое, например карате… Ничего, возьмешь пару уроков, больше и не нужно. Несколько фотографий в кимоно с черным поясом — и народ будет в отпаде… Любимый запах — скорее всего, «Опиум», у нас с ними контракт… Любимый дизайнер… Ну, потом посмотрим, кто согласится на «product placement».
Потом обсуждали колористическое решение студии и костюмы ведущих. Мнением Насти об этом никто не интересовался, хотя у нее было что сказать по этому поводу.
К вечеру она почувствовала себя выжатой как лимон.
И пожаловалась Протасову:
— Такое впечатление, что я кукла и мной вертят как хотят!
— Все гораздо хуже, — успокоил ее Антон. — Ты — говорящая голова, голова профессора Доуэля. Но… Ведь ты этого хотела?
— Я хотела не этого! — возмутилась девушка.
Чего же тогда? Она сама не могла ответить на свой вопрос. Ей хотелось стать самой лучшей ведущей, и чтобы ее мнение ценили и уважали профессионалы, и чтобы ей не подбирали жениха, а чтобы… Ну, с женихом вообще был вопрос темный и сложный… В сущности, ей хотелось, чтобы все в ее жизни было как раньше: чтобы она задавала тон музыке, а не музыка ей.
— Ничего, когда-нибудь так и будет! — успокоил ее Антон. — Позже, потом… И вообще, говорят, перемелется, мука будет…
Но пока была только мука.
Вскоре три восходящие звездочки записали свои первые интервью для глянцевых журналов, телесплетниц и таблоидов. В них было слишком мало правды и слишком много того, что придумал для своих подопечных Юра Лосев. Пиарщик сам находил корреспондентов, организовывал фото-сессии и даже отобрал снимки, которые соответствовали заданному образу. Кажется, он даже мог бы фотографироваться вместо девушек, умело напуская на свою пластическую физиономию то девичье достоинство Ларионовой, то показную сердечность Плотниковой, то рыжегривую задорность Ельцовой.
Потом в просторной студии, где с утра до ночи стучали молотки и истерично визжала дрель, проходили репетиции. Для каждой из ведущей персонально ставили свет и подбирали костюмы, гармонирующие по тону с синепесочным студийным интерьером.
Потом снимали материал на пробу, потом обсуждали его вместе со съемочной группой… Режиссером программы был вихрастый тип по имени Валентин Гриднев, несколько флегматичный на вид, но на деле — с безошибочной звериной реакцией.
— Валя будет вам «давать в ухо», — объяснил Протасов. Имелось в виду, что режиссер будет подавать команды в микроскопический ушной микрофон, информируя ведущую во время эфира, какой материал готов к показу, какой задерживается, на какую камеру ей «работать», есть ли внеплановые сюжеты и когда их нужно объявить. Настя фыркнула — ей-то, профессионалу, ничего не нужно было объяснять, а вот ее напарницам…
Ее расстроило, что главным оператором съемочной группы оказался тот самый Пустовалов, который в бытность Насти в «Побудке» столь нелестно отзывался о ее работе. Дмитрий Петрович и теперь остался верен своему противному характеру: во время просмотра черновых материалов он щедро сыпал словечками: «дерьмо», «дерьмовенько», «дерьмовски» (а однажды разразился окказионалистским шедевром, воскликнув «одермитель-но») особенно часто, как казалось Насте, когда в кадре появлялась она, и гораздо реже — по поводу двух ее соперниц.
Вскоре съемочная группа подготовила пробные выпуски, показала снятый материал начальству… Начальству не понравилось.
— Такое впечатление, что ваши ведущие дохнут от скуки, — заметил Гагузян, просмотрев кассету. — Особенно эта Плотникова… Она просто спит перед камерой!
— Я же говорил, что она не годится, — быстро открестился Шумский от своей протеже.
Когда Насте передали мнение ее официального заступника и покровителя, она в ярости едва не отхлестала его по щекам. Но, вовремя одумавшись, разрядилась от гнева в телефонном разговоре с мамой.
— Не волнуйся, — задумчиво произнесла Наталья Ильинична. — Я знаю Захара, он так не думает… Он просто не может так думать!
Зато так думала сама Настя — вот что было самое ужасное.
Плотниковой выделили служебную квартиру в одной из старых панельных многоэтажек, окружавших «Останкино». Квартира этого была с попыткой евроремонта, более обозначенного, чем действительно выполненного. Две комнаты, небольшая кухня, телефон… Зато до работы можно было дойти пешком. Между тем в квартире имелись некоторые достоинства и недостатки, о которых девушка до поры до времени не догадывалась…
Как и обещал Лосев, жениха ей подобрали отменного — известного хоккеиста, любимца нации, международную знаменитость на взлете. В Москве Настин кавалер появлялся не более двух раз в год, будучи проездом из Канады. По приезде «влюбленные» сразу отправились в ресторан, стараясь попасть под вспышки нелюбопытных папарацци (времени на public relations у спортсмена было в обрез — его день оказался расписан по минутам). Во время свидания говорить им было не о чем — хоккеист не блистал интеллектом, речь у него была куцая, междометная. Настя боялась, что Владислав будет претендовать на нечто большее, чем ужин под прицелами приглашенных репортеров, но кавалер, сославшись на спортивный режим, через пару часов уехал на своем «БМВ» свежей выпечки, даже не удосужившись проводить «суженую» домой.
Предэфирная подготовка продолжалась. Ведущие работали с Леной-имиджмейкером, подбирая макияж, прическу, репетировали манеру речи, поворот головы, улыбку… Юра проверял выученную «легенду», требуя от девушек плавности рассказа и его естественной органичности. Меняли строение кадра, свет, переделывали компоновку новостей, но неизменно Гагузян оставался недоволен полученным результатом.
— Что я покажу Цыбалину? — орал он раздосадован-но. — Блеяние Ларионовой во время прямого включения? Засыпающую от скуки Плотникову? Ельцову, которая не может связать двух слов, если только это не волшебная фраза «надень презерватив»?
— Может, Плотникову заменить? — трусливо предлагал Шумский. — Кажется, она не тянет…
Ночью Настя просыпалась в холодном поту: кто-то страшный, со стертым лицом, облеченный властью и всесилием ночного кошмара, с костоломным равнодушием швырял ей в лицо, морща губы: «Плотникова не тянет!»
Ей казалось, когда она входит в студию, члены съемочной группы глухо перешептываются, обмениваясь палаческими репликами: «Она не тянет!» Ей казалось, что подавальщицы в останкинском буфете бросают ей вслед: «Она не тянет», а уборщицы неодобрительно качают головой, завидев ее: «Нет, не тянет»…
Только Антон Протасов во время быстрого перекура шептал ей с сожалительной интонацией, как будто хотел, но не мог помочь:
— По-моему, ты лучше, чем… Ну, ты понимаешь, кого я имею в виду… Чем остальные две. Но мое мнение здесь совершенно не играет.
— Не надо меня утешать! — недоверчиво вспыхивала Настя.
— Да нет, я же не слепой, — продолжал врать Антон. — Знаешь, те две — общее место, особенно рыжая… А ты…
— Тогда почему именно Ельцову назначили вести первый выпуск? — смахивая навернувшиеся слезы, обижалась девушка.
— Потому что… потому что программу делают под нее!
— Почему «под нее»?
— Ну, под ее мужа… Он же обещал утрясти проблемы с министерством при условии, что из его жены сделают звезду…
Настя задохнулась от возмущения. Зачем тогда стараться, выбиваться из сил, рвать себе жилы, если заранее решено, кто из них лучший, кто из них самый талантливый?
— Знаешь, ты не переживай, — успокоительно твердил Антон. — Случайные люди приходят на ТВ и уходят, а профессионалы остаются… Ну, ты ведь сама знаешь!
Она знала.
«Все мы помним старинную басню о лягушке, которая, попав в кувшин с молоком, так часто сучила лапками, что, взбив масло, избежала гибели… — напишет Настя позже, сочиняя тест для передачи «Мысли и чувства». — Проще всего отказаться от борьбы, отдавшись течению. Но героиня нашего следующего сюжета поступила иначе — и в итоге добилась признания. Мы должны бороться — только тогда у нас появится шанс на победу!»
Вот она, например, боролась…
Глава 6
— Я тебе больше скажу… — лениво усмехнулась Ира Ларионова, когда девушки вошли в туалет — чуть ли не единственное место, свободное от суеты ежесекундности, от которой потряхивало бесконечные останкинские коридоры. — Отбирать будут не среди нас троих, а между мной и тобой… Ельцова, так сказать, вне конкурса. Кто из нас лучше себя проявит, с тем подпишут годовой контракт… Ну, конечно, надеюсь, что это буду именно я!
— По крайней мере, честно, — оценила Настя.
— На том стоим! — улыбнулась «холодная девственница». — Но даже если меня выкинут из новостей, я не больно-то расстроюсь. Пойду на дециметр, там у меня связи… А ты что будешь делать?
— Я… — Насте нечего было ответить. Никаких знакомств, кроме Шумского, у нее в телецентре не было. Но Шумский — это было знакомство со знаком минус. Девушка напустила на себя беззаботный вид: — О, я не пропаду! У меня куча идей…
— Каких, если не секрет?
— Секрет, но… Есть у меня идея детской передачи, идея ток-шоу… Любой канал ухватится двумя руками!
— Ток-шоу — это фигня, — заметила Ира. — Этих шоу навалом на любом канале.
— Такого еще нет, — возразила Настя. — Это будет шоу о людях, переживших экстрим в своей жизни.
— Экстремальный секс? — Ларионовой это было близко и понятно.
— Нет, не только… Я имею в виду спасение из безнадежных ситуаций… Например, космонавт, выйдя в открытый космос, обнаружил утечку кислорода, или машинист остановил поезд, когда у состава отказали тормоза… Или женщина голыми руками разоружила грабителя, ребенок задержал насильника… Плюс рекомендации психологов, комментарии специалистов, отзывы простых зрителей… Столько можно вокруг этой темы накрутить!
— Ерунда! — авторитетно заявила Ирочка. — Рейтинг будет низким, только для дневного эфира. А вот если экстремальный секс…
Вдруг Ларионова понизила голос до полной интимности.
— Слушай, подруга, давай с тобой договоримся, — предложила она. — Пусть между нами все будет по-честному, а?
— В смысле?
— Ты не работаешь против меня, я не работаю против тебя… А кто из нас двоих достоин остаться в эфире, пусть решают там… — Блондинка подняла глаза к потолочному светильнику, обливавшему туалет мутной световой сметаной.
Настя гордо усмехнулась.
— Лично я… я не собираюсь подличать’ Кроме того, на экране и так видно, кто из себя что-то представляет, а кто — пустое место. И вообще, знаешь, я не привыкла к разборкам в туалете!
— Так я не поняла: ты согласна или нет? — настаивала Ларионова. — Мы договорились?
— Ну, договорились…
— Ну и чудненько! — «Девственница» упорхнула, на прощание клюнув подругу в щеку. — Я так и думала, что ты согласишься!
Едва за Ларионовой закрылась дверь, в одной из кабинок послышался звук спускаемой воды, картонная дверь распахнулась, и рыжее облако выплыло на кафельный простор останкинской преисподней.
— По-моему, ты просто дура! — презрительно констатировала Ельцова, открывая кран на полную мощность. — За Ирку замолвит словечко Гагузян, а тебе в этой ситуации рассчитывать нечего, можешь уже укладывать вещи.
Самое ужасное, что она была совершенно права.
— Ну, мы еще посмотрим! — заносчиво возразила Настя, уязвленная тем, что их разговор стал достоянием чужих ушей. — А тебя не учили в детстве, что подслушивать некрасиво?
— Меня вообще в детстве ничему не учили, — улыбнулась Ельцова, откровенно качнув бюстом. — Поэтому я буду вести первый выпуск «Новостей», а не ты, милая!
Она опять была абсолютно права.
В эфир Настя вышла только на третьей неделе работы программы. И хотя, по общему мнению, он прошел очень даже неплохо, она ощущала себя хронической неудачницей.
Как и в первый раз, они столкнулись в буфете… В броуновской толчее она не столько увидела, сколько угадала его долговязую фигуру, неожиданно, как с того света, прыгнувшую ей в глаза — и миг узнавания отозвался в Насте неожиданно сильным сердцебиением, желанием по-детски броситься ему на шею и, одновременно, сбежать. Она выбрала последнее — из благоразумия, по рациональному головному выбору. «Жив!» — радостно щелкнуло в голове. Но она отвернулась, вдруг ощутив странное желание — прижаться, припасть, приникнуть, причалить и еще какие-то «при», означающие конечный отрезок временного действия, его совершенный, в смысле свершившийся, вид…
Она тасовала внутри себя обрывки куцых фраз: «Не заметил… хорошо… не увидел… прекрасно…» — и эти мысли противоречили той жалости о неслучившемся, которая на самом деле захлестывала ее всю, до самых кончиков пальцев, как вдруг круто, с разворотом на сто восемьдесят градусов, ее остановила много позволявшая себе (по какому такому праву?) рука, которую она не успела отбросить. Это был Вадим.
— Я тебя искал, — вместо отдающих фальшью приветствий произнес он, по важности происходящего сразу переходя к главному.
— А я тебя — нет! — объявила она, стараясь смотреть на него прямо и жестко — как на плохо дрессированного, слабой выучки пса. Но Вадим, увы, совершенно не поддавался дрессировке…
— Сегодня вечером, — приказал он, не веря в возможность отказа.
— Нет, — покачала она головой, находясь в перекрестье все подмечающих любопытных глаз.
Однако ее «нет» звучало как «да».
Перед очередным эфиром Настя, как обычно, просмотрела список сюжетов, пробежала глазами текст, несколько раз проговорила про себя иностранные фамилии и географические названия — чтобы не споткнуться об иноязычный нераспутываемый клубок, читая с монитора текучие строки. Речь шла о днях индийской культуры в Москве — репортаж скучный, но необходимый, потому что «джинса» «джинсой», политика политикой, а культуру тоже надо давать в эфир, дабы оправдать высокое звание общественно-политического канала.
Ломая язык, Настя несколько раз произнесла имя индийского застрельщика фестиваля Сампурнананда, о котором в репортаже упоминалось как о непревзойденном йоге, мастере экзистенциального танца и великом гуру, ведавшем о том, что материалисты-европейцы знать не могут, а догадываться им Бог запретил… Эфир обещал пройти гладко, по накатанной; в стране наступило летнее предотпускное затишье, даже террористы как будто поуспокоились.
Не обладая скорострельной репортерской реакцией, Настя недолюбливала материалы, в последний момент попадавшие в эфир, и опасалась прямых включений. Зная этот свой недостаток, она старалась максимально микшировать его, — тщательно готовилась к выпуску, многократно перечитывала текст, в экстремальных случаях пользовалась загодя подготовленными, стандартными фразами. Несмотря на это, ей редко удавалось скрашивать удачной импровизацией подлую в смысле внеплановости телеоперативность.
Минут за пять до эфира, когда звукорежиссер уже надел на ведущую петличный микрофон, к новостному подиуму подскочила одна из программных редакторш (имя им легион, инкубаторская, филологической этиологии сущность, плохой маникюр, дешевый макияж, очки, наконец). Положив листок перед ведущей, она быстро проговорила:
— Это вместо Индии… — и улепетнула вон.
Настя наискось пробежала текст: времени до начала выпуска осталось в обрез, и, когда режиссер начнет обратный отсчет в «ухе», ей придется читать текстовку с монитора, внутренне холодея от возможности лингвистического подвоха.
Текст был какой-то необычный, выбивавшийся из стилистики новостей: про малоизвестную кинозвезду, которой так удачно сделали косметическую операцию, что в свои шестьдесят с хвостиком лет она стала выглядеть максимум на девятнадцать — впрочем, не русских девятнадцать лет, а, скорее, китайских, потому что ей так утянули глаза к вискам, что в ее русопятом облике внезапно проклюнулось нечто монгольское. Впрочем, Настя узнала об этом гораздо позже, а в тот момент она спешно разбивала текст на внятные смысловые блоки, позволявшие ненавязчиво, точно в пересказе, подать новость. Внутритекстовая реклама клиники выдавала «джинсовую» природу репортажа, но Настю это не волновало — в конце концов, не ее это дело, что дали, то и читаю…
Перед последним новостным блоком режиссер напоминающе прошипел ей в ушной микрофон:
— Вместо Индии пойдет операция…
Настя, послушно сияя эфирной доброжелательностью, начала отчитывать текст — и вдруг споткнулась один раз, потом другой, третий… Текст на суфлере, стоящем прямо перед глазами, так чтобы у зрителя создавалась иллюзия, будто диктор наизусть шпарит заученные слова, не соответствовал тому тексту, который она получила десять минут назад. Здесь проделанная операция называлась уникальной, упоминалась фамилия врача, его научные звания и регалии. Сюжет выглядел откровенно рекламным.
Но времени на раздумье у нее не было… Если бы Настя обладала мгновенной реакцией, возможно, она опустила бы кое-какие фразы, сгладила бы рекламные обороты, чтобы «джинсовость» материала меньше бросалась в глаза. Но она лишь прилежно отчитала текст, не меняя ни слова, с привычной выразительностью модулируя голосом.
А потом разразился скандал…
Естественно, начальство углядело «джинсу» и возжелало выяснить, откуда растут ноги. Гагузян бушевал: столь прямолинейной, даже дубовой формы подачи материала в новостях не допускали, стараясь избежать упреков в ангажированности, недопустимых для уважаемого метрового канала. Кажется, кто-то в обход начальства самовольно подпустил конкретики в кадр — и, очевидно, получил за это хорошую мзду… А крайней, между прочим, оказалась Настя!
— Ты видела текст перед эфиром? — спросил ее Антон Протасов. — Кто тебе его дал?
— Какая-то девушка из редакции, имени ее не знаю, — честно созналась Настя, в суете действительно не рассмотрев провокаторшу, тем более она часто путала редакционных девушек.
Выяснилось, что текст, прочитанный с монитора, не соответствует тексту, который вышел из недр редакции.
— Но я-то здесь при чем! — возмутилась Настя.
— Подозревают-то тебя, — посочувствовал Антон.
Итак, ее обвиняли в том, что она самодеятельно внесла в текст фамилию врача и название клиники… Кстати, выяснилось, что подобные операции уже лет двадцать проводятся по всему земному шару, даже в советском институте красоты их делали трудящимся.
Ведущая слезно поклялась Гагузяну, что лишь прочитала текст с монитора, слово в слово. Кстати, режиссер передачи, лохматый Валентин, тоже присутствовавший при разборке, спокойно взирал на преступницу с видом человека, которого скандал совершенно не касается…
Через размытую слезную пелену Настя внезапно наткнулась на его спокойный, даже насмешливый взгляд. И поняла — это он… Именно режиссер отвечает за все, что происходит в эфире. Без его ведома провокатор не решился бы на проступок, из-за которого можно в одночасье загреметь с телевидения…
Однако трудно «пришить к делу» насмешливый взгляд длительностью в долю секунды и личную убежденность…
Днем позже на автостоянке возле телецентра Настя заметила породистый, с откормленным оленьим брюхом «мерседес», хозяин которого (внешностью под стать своей лошадке — такой же холеный, с влажной кудрявостью по крутовыпуклому лбу) дружески трепался с Валентином Гридневым. Даже поздние, штрихующие пейзаж сумерки не помешали Насте узнать в режиссерском собеседнике героя скандального репортажа…
Девушка тихо прошмыгнула мимо.
Ночь она провела, мучаясь обидой и головной болью.
А под утро в ее голове созрел спасительный план. Настя помнила сложносоставное, псевдоиностранное название клиники и семитскую фамилию врача — уж на что-что, а на память ей жаловаться не приходилось…
Телефонный номер клиники ей любезно сообщила платная справочная. С трудом прорвавшись через шквал звонков, спровоцированных вчерашней «джинсой», девушка произнесла в трубку стопроцентно уверенным голосом:
— Доктора Файнберга, пожалуйста… — И, предвидя отказ, заготовленный у исполнительной, как служебный пес, секретарши, добавила волшебную фразу, универсальную отмычку, отпиравшую даже наглухо замкнутые двери: — Это звонят с телевидения…
Разговор она предусмотрительно записывала на телефонный диктофон — необходимая предусмотрительность загнанного в угол зверька, который вынужден кусаться, когда на него нападают. А на нее, между прочим, нападали!
Через пару минут кладбищенский Бах в трубке сменился бархатным мужским баритоном, в котором отчетливо различалось смазанное «р», неизживаемое даже логопедическими усилиями, если таковые, конечно, имелись в анамнезе.
— Я с телевидения, — повторила девушка свой универсальный пароль. — Предлагаю разместить информацию о вашей клинике в программе «Здоровье», это дешевле, чем в «Новостях»…
— Вас прислал Гриднев? — догадался умница доктор — точно его попросили произнести именно эти слова и назвать именно эту фамилию.
— Да, конечно, — обрадовалась Настя. — Он сказал, вы хотите продолжить рекламную кампанию.
— Да, я бы рад, но… — раздумчиво произнес доктор. — Очень уж дорого выходит!
— Если не секрет, во сколько вам обошелся вчерашний показ?
— Официально — пятьдесят, да еще сверху десять лично режиссеру, — чистосердечно признался доктор. — Скажите, а у вас предусмотрены скидки за повторное обращение?
Так и не сойдясь в цене, они рассоединились.
Теперь ведущая, однажды уже обжегшаяся на «джинсовом скандале», могла представить в свою защиту запись, из которой явствовало: рыльце Гриднева по уши в долларовом пушку…
Однако скандал быстро сошел на нет, и девушке не хотелось вновь ворошить костер, уже подернувшийся за-живительным пеплом. На всякий случай она сберегла диктофонную запись. Мало ли…
Больше обвинений в ее адрес не было — зато осталось несмываемое пятно, невысказанное подозрение в нечистоплотности. И только один Протасов, кажется, верил в невиновность ведущей.
Однако кто его спрашивал?
И опять началось то, от чего ей с трудом удалось избавиться, словно от стыдной болезни. Опять понеслись ночные торопливые встречи — тайком, подпольно, наспех, между делом… Каждый раз она собиралась сказать Вадиму, что эта встреча последняя, но неизменно шла на попятную, малодушно говоря себе: ладно, сегодня в последний раз…
К полудню, к тому времени, когда добропорядочные граждане уже проживали половину своего рабочего дня, а недобропорядочные — телевизионщики, как Настя, или музыканты, как Бес, — только вплывали в раннее утро, он тихонько выкрадывался из ее квартиры, оставив Настю плавать в блаженном полусне.
Она все решала для себя участь их тайной связи, качаясь на незримых качелях от категоричного «нет» до неуверенного «да», и обратно, и снова, и снова, и никак не могла решить и решиться… «Нет» — потому что по контракту, заключенному со студией, ведущие не имели права на личную жизнь, на беременность, на замужество и на романы на стороне, кроме официально одобренных руководством.
— Мы и рожать будем в прямом эфире! — шутила Ларионова, но ее слова звучали невесело, находясь в опасном приближении к самой что ни на есть мрачной правде.
С Вадимом они не говорили ни о прошлом, ни о будущем. Для них существовало только — сегодня, сейчас, сию секунду. О недавнем своем попадании в клинику Бес не распространялся, небрежно отмахиваясь на расспросы Насти: «Я соскочил!» По его словам выходило, будто он спрыгнул с поезда, на всех парах несшегося к гибели, и этот смертельный эшелон уже нельзя было вернуть, догнать, остановить. Но, увы, после первого состава ожидался следующий, потом еще один, и еще, и места там хватило бы для двоих…
Позже она узнала, что его лечили в каком-то дорогом загородном пансионате, промывали мозги, ломали тело йогой, капали капельницы… И еще он сказал, что, если бы его жизнь не была такой, дерьмовой, он бы сроду не притронулся к этой дури…
«Если бы да кабы», — горько усмехнулась девушка.
Ей было с ним неизменно хорошо, а Бесу было хорошо за синтезатором, когда наушники и водянистый полусвет образовывали своеобразный кокон, отделенный скорлупой от внешнего мира, в котором рождались и гасли звуки и куда Насте не было ходу.
— Расскажи о своем отце, — попросила она его однажды, рассчитывая на откровенность и готовясь отплатить ему тем же.
— У меня нет отца, — отрезал Вадим. — Он умер.
А на все ее жалобы насчет своей работы, отношений на канале, соперничества ведущих он лишь презрительно отозвался: «Помойка!», недоумевая, зачем Настя играет в такие грязные игры, когда есть чистая, светлая, честная жизнь…
— Где это такая? — осведомилась девушка.
Он провел пальцем по сизой локтевой вене.
— Здесь… Хочешь попробовать?
Протасов отыскал Плотникову в гримерной, где ведущую готовили к эфиру.
— Нам надо поговорить… — хмуро сказал он.
— Потом, — отмахнулась девушка. Она всегда нервничала перед работой, тайно молясь, чтобы и на сей раз все сошло благополучно.
Договорились встретиться после выпуска.
Ночью, сев в Настин «ситроен» (она купила его в кредит с первых гонораров), Антон почему-то окинул подозрительным взглядом салон:
— Машина служебная?
— Нет, моя личная, — отозвалась Настя со сдержанной гордостью.
Протасов с явным облегчением кивнул.
— Отлично… Поезжай к парку, заглуши мотор и погаси фары, — попросил он, озираясь на вытекавшую из-под задних колес дорогу, — на ней по ночному времени почти не было транспорта.
— Зачем такая конспирация? — рассмеялась Настя, но, свернув на боковую аллею, послушно выключила зажигание.
Было темно, над верхушками деревьев неопределенно светилось розоватое городское небо, головокружительно пахло летней нагретой травой и остывающим асфальтом.
— Слушай, не хочу тебя пугать, но… Завтра тебя вызовет на ковер шеф службы безопасности канала, — сообщил Антон. — Готовься к неприятному разговору.
Настя с трудом вспомнила, что на канале действительно существует шеф какой-то там безопасности.
— Речь пойдет о твоем моральном облике, — продолжил Протасов. — Начальству стало известно, что ты нарушаешь контракт. Тебя могут уволить.
Девушка сразу поняла, о каком нарушении идет речь. И внутренне обмерла.
— Но, собственно говоря, кому какое дело до моей личной жизни?! — вспылила она.
— Им есть дело до всего… Лучше загодя придумай правдоподобное объяснение. И потом… Ты же понимаешь, это только предлог, чтобы избавиться от тебя говорят, ты не тянешь. Я так не считаю, но мое мнение в данной ситуации не учитывается. Так что готовься к обороне…
— Я готова, — неожиданно спокойно отозвалась Настя. — Спасибо за предупреждение, Антон…
Из ночной парковой тени машина тихо выкатилась под розовый свет городских фонарей.
Она только говорила, что готова к обороне, но на самом деле… На самом деле невозможно загодя подготовиться к концу жизни — даже если эта жизнь всего-навсего эфирная, телевизионная, воображаемая.
Высадив Протасова возле метро, Настя остановила машину у тротуара, облитого мокро-розовой световой карамелью.
Домой ехать бессмысленно — рядом с Вадимом она не способна думать, превращаясь в разнеженного зверька, уткнувшегося в теплое подбрюшье. Надо все решить до возвращения домой. Надо все решить, все…
Только что она могла решить? На что решиться?
Вперив невидящий взгляд в светящуюся разметку магистрали, Настя начала лихорадочно просчитывать: кто? Кто мог донести на нее? Ведь их с Вадимом никто вместе не видел, об их отношениях никто не знал. Ни одна живая душа!
Ситуация была не из простых: дело требовало взвешенной расчетливости, иезуитского хитроумия, абсолютно правдоподобного, до последнего извива вранья. Развертывалась партия, в которой выигрыш оставался за тем, кто пожертвует ценной фигурой во имя ничьей и возможности матча-реванша…
Итак, надо было решаться… Но на что?
Причину повышенного к себе интереса шефа безопасности Настя объяснила так: вероятно, они с Вадимом вели себя неосторожно, забыв о конспирации. Их видели, — не важно кто, не важно где и не важно, какое этим подглядывателям, студийным доброхотам, дело до них… А может, репортеры случайно засняли их для газетной сплетницы, и снимок, миновав предназначенное ему журнальное лоно, чьими-то стараниями оказался у студийного цербера — туповатого милиционера в отставке, нечувствительного ни к слезам, ни к угрозам и поддававшегося исключительно неженскому шарму долларовых купюр.
Итак, ее вызовут, предъявят обвинение в
нарушении контракта… Как ей реагировать?
Растерянно поднять брови, возмущаясь беспочвенными обвинениями? Объяснить их связь следующим образом: случайное знакомство в клубе плюс неудачное попадание в прицел вездесущего фотоохотника… Больше такое не повторится, обещаю!
Настя посмотрела в зеркало заднего вида, репетируя виноватую — проштрафилась, с кем не бывает! — улыбку. Однако получалось плохо — испуганно, воровато даже.
А если шефу безопасности известно куда больше, чем она думает? Что, если в ответ на ее неумелое вранье ей предъявят документальные доказательства ее вины? Что, если он готов к нападению лучше, чем она к обороне?
Девушка бессильно закрыла лицо руками… Что делать? Соблазнить отставного милиционера? Сказаться больной, отсрочив неприятное объяснение на неопределенный срок? Или сработать на опережение — заявиться к начальству с покаянием: мол, был такой грех, больше не повторится…
Что делать? Что?
— Что с вами? — Стук в боковое стекло вывел ее из глубокого ступора. Возле машины возвышался гаишник с полосатым жезлом, неподалеку моргала проблесковым маячком патрульная машина. — Ваши права?
Напоследок шмыгнув носом, Настя просунула документы через опущенное стекло.
— А! — узнающе расплылся сотрудник. — Это вы!
Конечно, как только он ее узнал, слова скомкались у него во рту, а язык запутался в зубах. Растерянный гаишник молча откозырял геледиве, возвращая тугой, в изящном кожаном переплете «ксивник».
— Счастливого пути! — пожелал, восхищенно всматриваясь в полутьму салона.
Но этот путь не был для нее счастливым.
Домой она не поехала, отправилась прямиком в клуб, для маскировки нацепив лишние для ночного времени очки.
Пока машина наматывала на колеса сухой, матово отсвечивающий асфальт, петляя по тихим ночным переулкам, Настя приняла взвешенное, мозговое (ни капли сердечного сумбура!) решение.
Теперь на одной чаше весов лежало ее будущее, ее сумасшедшая, на всю страну популярность, ее карьера, а на другой чаше по большому счету что было? Точнее, кто? Наркоман во временной завязке, асоциальный тип, сомнительный музыкантишка, ценимый лишь сумасшедшими фанатами! Без него ее жизненный путь прочерчивался ясной отчетливой линией, рассекая туман абсолютно предсказуемого и очень приятного будущего. С ним — этот путь терялся в темноте, в омуте чудовищных снов, расцвечиваемых алыми отблесками химической феерии. Кто она ему? Подруга, жена, сожительница, собутыльница (если бы речь шла всего-навсего о бутылке). А больше — никто. С ним никогда не будет узнающего восхищения в миллионах влюбленных в нее глаз. С ним ничего не будет, кроме смерти. Да.
Поэтому, отыскав его в сутолоке продымленного подвала, она молча увела его за собой, посадила в машину, отвезла домой.
— Я уезжаю, — сообщила, ничего не объясняя, потому что молчание было красноречивей слов.
Наутро в прихожей, в последний раз оглядывая его лицо — для целей запоминания, для тайных дневников мемории, сказала:
— Не звони мне больше…
Он на секунду задержался на пороге — и эта секунда была значимей целой тонны невесомой словесной шелухи.
— Когда вернешься? — спросил отчужденным, хриплым после короткого сна голосом.
— Никогда, — ответила она. — Я уезжаю насовсем.
Только после его ухода можно было, наконец, расплакаться, жалея себя, вытряхнуть на стол содержимое сумки, чтобы в хаосе ее скомканных внутренностей отыскать успокоительное, чтобы взбудоражен но. разворошить нагромождение милых феминистических пустячков — помад, тушей, теней, пудр, записных книжек, сломанных шариковых ручек, тампонов, противозачаточных таблеток, чьих-то визиток, чьих-то Любовей, чьих-то воспоминаний… А потом, уронив на пол целую гору недавно казавшегося совершенно необходимым хлама, — рыдать, рыдать, рыдать, размазывая по лицу невесть откуда взявшуюся влагу. Потом, взбесившись сознанием того, что расставание с ним дается ей слишком тяжело, чересчур трудно, не так, как до сих пор давалась ей вся ее жизнь, отшвырнуть от себя весь этот хлам, все приметы и признаки старой жизни — и помады, и тени, и таблетки, и чьи-то визитки, и чьи-то воспоминания, и чьи-то Любови…
А потом, забыв, что искала, зачем лезла в сумку, — реветь, рухнув головой на стол, с палаческой обреченностью сознавая: все, все, все. Теперь уж действительно все…
Глава 7
Угром Настя появилась в студии как ни в чем не бывало, с широченной улыбкой на лице — ни тени душевных переживаний, никакого внутреннего диссонанса!
— Как дела? — уколол ее чей-то вопрос, формальный по форме, но на самом деле прощупывающий-.
— Отлично! — расцвела Настя. У нее был вид прекрасно спавшего человека, у которого превосходное расположение духа служит залогом чудесного цвета лица.
Девушка искала Валеру — ей хотелось просмотреть последние выпуски новостей (и свои собственные, и своих напарниц), чтобы, наконец, оценить их профессиональные плюсы и минусы. Точнее, чтобы оценить свои минусы, их плюсы, оценить, почему она «не тянет», по мнению руководства, которое, кстати, противоречит мнению Протасова. А между прочим, Антон собаку съел в своей профессии и попусту болтать не станет, хотя по информредакции давно уже бродят упорные слухи, будто он, несмотря на жену и двоих детей, по уши влюблен в нее… Наверное, поэтому он предупредил ее вчера, поэтому сегодня встретил ее встревоженным взглядом, безмолвно телепатируя: «Ну, как ты?», на что она ответила ему так же телепатически: «Все в порядке, не беспокойся!»
Обогнув Лену-Карлсона с отглаженным костюмом на вешалке, Настя мимоходом оценила обновку («Фу, какой отвратительный поносный цвет!»), но задерживаться возле гримерши не стала. Она углядела искомого инженера в дальнем конце коридора. Напротив него возвышался оператор Пустовалов с бетакамовской кассетой в руках. Он что-то втолковывал Валере конспиративным шепотком, а тот размеренно кивал в ответ на манер китайского болванчика: «Ладно, понял, все будет нормалек… Ну, ты же меня знаешь, Петрович…»
Насте нужен был именно Валера, но, не решившись прервать беседу из опасения нарваться на фирменное пустоваловское «дерьмо», она завернула в комнату к девочкам-редакторам, будто бы для того, чтобы узнать, что нынче нового в мире. Сообщила с мелодичным смехом, мол, она сегодня дежурная по стране, и поэтому подберите ей, пожалуйста, самые хорошие новости! Девочки традиционно пошутили в ответ:
— Новости отборные, как всегда: одно землетрясение, два урагана, пара убийств, массовое ДТП и теракт… Выбирай, что больше нравится!
— А землетрясение сильное? — поинтересовалась Настя и, услышав, что всего-то пять баллов, пара сотен жертв, да еще и не у нас, а где-то на другом конце земного шарика, проговорила, смеясь: — Беру, заверните! А остальное оставьте себе, пожалуй…
Все было привычным — шуточки, булькающее кипение рабочего полудня, раскаленная не то чтобы плохи-' ми — как всегда! — новостями лента информагентства, улыбки, смешки, взаимная осторожная приязнь…
Одна из редакторш, кажется, ее звали Оксаной, потянулась к полке, уставленной тесно прижатыми друг к другу папками. Вдруг с резкостью внезапного узнавания Настя увидела на ней свой давнишний эфирный костюм. Откуда у бедной трудяжки подобная роскошь?
Да эту тусклую полоску она узнает с закрытыми глазами, такой из-за нее скандал разразился в свое время! Настя твердила Лене, будто косая полоска рябит на экране, а та ее успокаивала, уверяя, будто рябит только белая полоска, а не коричнево-серая, как в данном случае… В тот вечер ведущая так разнервничалась из-за спора, что испачкала лаком для ногтей подкладку пиджака. В испуге она принялась застирывать ее мылом, но стало только хуже. Дальше — больше: расстроилась, разрыдалась… В результате во время выпуска Настя имела похоронно-нищенский, по ее мнению, а не классически-строгий, по мнению Лены, вид. Таким образом, ведущая при той сердечно-душевной манере подачи материала, которая давно уже стала неотъемлемой частью ее экранного образа, производила впечатление вкрадчивой сотрудницы из агентства ритуальных услуг.
— Славный костюмчик! — пропела Настя, лучась мнимым восторгом.
Оксана кокетливо покрутилась вокруг своей оси.
— Да уж… Не какая-нибудь Турция! Донна Каран, между прочим.
Настя громогласно оценила все — и строгую линию плеча, и безупречно сидящий окат рукава, и даже возжелала оглядеть подкладку шедевра, рассчитывая увидеть на ней то самое, плохо замытое пятно, которое теперь, после стирального порошка, пятновыводителя и ацетона, даже серной кислотой не возьмешь… Увидела.
Да, это был тот самый пиджак.
Настя давно уже слышала, что Лена-Карлсон втихую сплавляет по знакомым отработавшие в эфире костюмы, и теперь получила зримое подтверждение тому. Но ведь контракт с бутиком оговаривает, что ведущая должна не меньше трех раз появиться в эфире в предоставленной одежде, а Настя только однажды надевала эту жуткую полоску. Потом костюм куда-то пропал, к вящей ее радости, — и к радости бедной редакторши, раздобывшей фирменную вещь, вся ценность которой состояла в громком имени ее создателя.
Между тем Оксана радостно щебетала:
— Всего-то сто долларов по знакомству… Только два таких в Москве, неслыханно повезло, даже не пришлось по фигуре подгонять…
— Отличная вещь, мне нравится, — проговорила Настя и вдруг предложила, неожиданно для себя самой: — Продай его мне, а?
— Ну… — Редакторша замялась, ища предлог для вежливого отказа.
— Пятьсот долларов! — Плотникова оборвала девичьи колебания несуразной для секонд-хенда суммой.
Оксана молча стянула с себя пиджак.
— Ты хоть померяй, — предложила, смущенно пересчитывая деньги.
— Я его в лицо знаю, — усмехнулась Настя. — Не надо.
Когда девушка вновь оказалась в коридоре с пиджаком наперевес, Валера исчез из пределов видимости, а силуэт Дмитрия Петровича смутно маячил возле студии, арендуемой под выпуски новостей.
В темном логове монтажной было темно. Девушка на цыпочках просочилась в ватный полумрак, разжиженный голубоватым светом монитора, и, вытянув шею, потрясенно замерла.
Ее приятель сидел перед экраном в наушниках — как обычно. Как обычно, во время работы он мало что видел вокруг себя и мало что слышал. Только картинка на экране была совсем не обычной, представляя собой ритмичные, поршневые движения блестящей свежим потом парочки, расположившейся на столе узкой, хрущевской этиологии кухоньки… Потом перемена позиции, отверстый рот крупным планом, трясущаяся, недобравшая силикона грудь, потом крупный план кое-чего другого, тоже отверстого, и опять поршнеобразный ритм, от которого на заднем плане дрожал закоптелый чайник и шевелилась ниспадавшая художественными волнами ситцевая занавеска в жирных пятнах.
— Валера, — позвала Настя. — Эй!
Картинка исчезла, экран мгновенно облился ровной синевой, а «инженегр» затравленно оглянулся, походя на убийцу, застигнутого на месте преступления. Разглядев посетительницу, он с облегчением выдохнул: «А, это ты…»
— Я! — сияюще улыбнулась Настя. И задорно добавила, стараясь попасть в приятельский тон: — Пришла к тебе, потому что соскучилась. Мне надо просмотреть записи последних выпусков, поможешь?
Но Валера почему-то забыл отозваться на ее слова скабрезным предложением, смущенно заныв:
— У меня полно работы, давай завтра, а?
Но Насте хотелось увидеть материал до решающего разговора с начальством — пришлось прибегнуть к мелкому шантажу.
— Я вижу, какая у тебя работа… — усмехнулась она.
— Это халтура… — оправдался Валера, тревожно заерзав.
На канале все знали, что технический персонал студии испокон веку подрабатывает на стороне: операторы снимают, а монтажеры монтируют — за профессиональную съемку свадеб, юбилеев, корпоративных сборищ и собраний мелкопоместных партий всегда недурно платили. Это была давняя практика, оставшаяся еще с безденежных перестроечных времен, когда специалистам приходилось пробавляться подножным кормом. Но начальство, до поры до времени сквозь пальцы смотревшее на неслужебное использование студийной аппаратуры, внесло в трудовой контракт особый пункт, запрещавший халтуру под угрозой увольнения, — чтобы у сотрудников голова была забита работой, а не сторонними заработками. Персонал же продолжал подрабатывать — но стыдливо и тайно, подпольно и пододеяльно.
Произведя в уме нехитрые логические заключения, девушка поняла: Пустовалов снимал кустарную порнуху, которую Валера должен был смонтировать в нечто более-менее связное и смотрибельное. И в данный момент Валера просматривал исходный материал, только что переданный оператором.
Усевшись на стул, Настя громко объявила:
— Раз ты не хочешь мне помочь, давай поглядим, что у тебя за халтура.
Но Валера недовольно нахмурился, почему-то запамятовав о принятой на себя миссии бойкого ухажера.
— Что тебе нужно? Давай, только быстро… — нетерпеливо проговорил он.
Пока он отбирал нужные записи, девушка приметила, куда он положил кассету.
Стали прокручивать ее выпуски. Настя, конечно, видела их и раньше, но тогда она смотрела на них иным, не критическим взором. Теперь ей приходилось выискивать каждую ошибочку, каждую блошку — от случайной оговорки до затянутой на долю секунды паузы, от слишком широкой улыбки до слишком траурного вида, от неуместного прищура до кукольного хлопанья ресницами. И не то чтобы «картинка» ей не нравилась, но какая-то она была неровная — то казалась почти идеальной, то отвратительной до тошноты.
— Покажи мне выпуски Ларионовой, — попросила девушка.
И опять до боли всматривалась в экран, сравнивала, анализировала, сопоставляла…
Потом попросила поставить эфиры Ельцовой. Сравнение было явно не в ее пользу… Но почему? Ведь она делала все, как нужно, как ее учили, как она умела!
Объяснение было единственным — камера ее «не любила». На телевидении так — или «любит» тебя камера, или не «любит», и ее всевидящее око не подкупить ни деньгами, ни лестью. Бывает, что человек очень красивый в жизни на экране выглядит омерзительно, но бывает и наоборот: у средней внешности человека вдруг обнаруживается завораживающий шарм — это и называется странным словом «телегеничность».
Но ведь раньше, раньше… До Москвы, до «Побудки», до «Новостей»… Ведь любила же ее камера? По крайней мере, терпела… И с телегеничностью у нее все было нормально…
— Ну, ты еще долго? — недовольно шипел Валера, однако Настя укротила его одной удачной фразой:
— Что, не терпится похалтурить?
По ее просьбе видеоинженер вывел на параллельные экраны Ларионову и Ельцову.
— Что ты ищешь? Может, я подскажу? — осведомился он.
— Да так… — неохотно отозвалась девушка, переводя взгляд с себя на Ларионову и с неотвратимой очевидностью признавая, что ее соперница выглядит отлично, а она — нет, и дело тут вовсе не во внешних данных. А еще, выражаясь точнее, не столько сама Ларионова выглядит отлично, сколько ее «картинка», тогда как Настина «картинка» почему-то царапает взгляд. Но почему это происходит? Отчего? И — кто виноват? И — что делать?
— Фу, как они тебя… — поморщился Валера.
— Ты тоже видишь? — вздрогнула Настя, догадавшись: — Воздуху над головой мало, да?
— Ага! — кивнул инженер.
«Воздуху», то есть пространства между макушкой и границей кадра, действительно не хватало. Голову ведущей безжалостно «срезал» край кадра, отчего складывалось впечатление, будто Настя, чрезмерно раздутая, массивная, давящая, напирает на зрителя многотонной массой, тогда как Ларионова, у которой «с воздухом» было все в порядке, выглядела на «картинке» легкой, приятной, ласкающей глаз. Неудачная «картинка» подсознательно вызывала отвращение к ведущей. Но ведь Пустовалов опытный оператор, собаку съевший в своем ремесле, как он мог не заметить…
В том-то и фокус, догадалась Настя. Собаку съел и ее таким же макаром съест!
— А вот здесь тебя затемнили, — покачал головой Валера. — Видишь?
— Вижу, — мрачно отозвалась Настя.
Перед каждым эфиром специально под ведущую, сообразуясь с индивидуальными особенностями ее лица, выставляли свет. Опасно было и зачернить лицо, тем самым сделав его на десять лет старше, но опасно было и «выбелить» его до мертвой неестественной белизны.
«Значит, осветитель тоже против меня», — мысленно резюмировала девушка.
— Слушай, а почему у тебя плечи подняты к ушам? — удивился Валера. — Тебя что, не учили локти ниже стола держать?
— Учили, конечно, — вздохнула Настя. Она и сама видела: поднятые плечи зрительно делают ее шею толще и короче, вдавливая голову в туловище. К тому же из-за неправильной осанки пиджак некрасиво топорщился на груди, пройма морщила, ватные плечи вставали дыбом, напоминая накрахмаленные крылья. Это было ужасно!
Локти она держала над столом потому, что ей далеко поставили компьютер. А ведь сколько раз Настя просила ставить ноутбук поближе, однако ее просьб хватало на один-два эфира, а потом все возвращалось на круги своя. Что касается пиджака, который дыбился и морщил в пройме, — это была заслуга Лены-Карлсона, которая отборные вещи отдавала Ельцовой и Ларионовой, а Насте сплавляла разные отбросы, явный неликвид.
Но почему?
А потому, что на нее «не ставили»! Она «не тянула» — и никто не старался для нее. То, что Плотникова — отыгранный вариант, знал весь персонал канала, и, кажется, даже воздух в студии был полон этим ощущением.
Но не потому ли она «не тянула», что на нее никто «не работал»? Это был риторический вопрос.
Девушка ткнула пальцем на экран.
— Кто здесь был оператором? — спросила у Валеры.
— Пустовалов. А на кране, кажется, Храпко…
Настя упала духом. Против нее работал не один человек, против нее трудилась вся съемочная группа. И шансы преодолеть наплевательское отношение к себе у нее были нулевыми.
— Пошли перекусим? — нарочито беззаботно предложила девушка. — Самое время заглотить хавчик…
И пока Валера искал пиджак, надеясь хотя бы после обеда избавиться от настырной визитерши, незаметно отправила в свою сумочку кассету, беспризорно валявшуюся на столе…
Она была словно лягушка из басни, угодившая в кувшин с молоком. Можно было утонуть, а можно было, барахтаясь, взбить лапками масло. И Настя старалась из последних сил.
После обеда, быстренько отделавшись от Валеры, некстати вспомнившего о своем имидже патентованного Казановы, девушка отправилась на поиски Пустовалова.
— Мне нужно с вами поговорить, — заявила она оператору.
Оператор нехотя вышел за ней в коридор, сохраняя на лице угрюмо-брюзгливое выражение.
— Ну? — надменно спросил, прислонившись к стене. Настя вынула из сумочки похищенную кассету.
— Ваша, кажется?
Дмитрий Петрович, встревоженно заблестев глазными яблоками, как-то недобро, по-песьи подобрался. И быстро протянул руку.
Но сумочка защелкнулась у него перед носом.
— Вот дерьмо! — восхищенно проговорил Пустовалов, убирая руку.
— Дивная порноклюква! — насмешливо заметила Настя. — Я восхищена вашим операторским искусством!
По коридору прошмыгнула чья-то любопытная тень, ушными локаторами сканируя напряженно застывшую, точно перед схваткой, пару.
— Что тебе нужно? — нахмурился оператор, когда тень благополучно растаяла за поворотом коридора.
— Мне нужна «картинка» … Хорошая «картинка», лучше всех!
— А при чем тут…
— Вы знаете при чем! — оборвала Настя. — Мне нужен «воздух» над головой, правильно выставленный свет, хороший звук…
— Я-то что? Я только выполняю указания… — возразил оператор. — Это все режиссер…
— Вот как? — удивилась Настя. — Ну, тогда я отдам кассету режиссеру… По-моему, он обрадуется. А как обрадуется Гагузян!..
Оператор помолчал, оценивая плюсы и минусы противостояния с разгневанной дикторшей. Минусов выходило куда больше, чем плюсов.
— Ладно, согласен… Сделаю… — Он протянул неприятно дрогнувшую руку. — Ну, давай кассету!
— Кассета пока останется у меня, — отрезала Плотникова.
Оператор рванулся было вперед, но Насте удалось отскочить от него. По коридору загремели чьи-то спасительные шаги.
— Без глупостей! — предупредила она. — Будете себя хорошо вести — верну кассету.
И она устремилась вслед за спасительными шагами.
— Вот дерьмо! — выругался оператор, адресуясь к ее удаляющейся спине.
Настя услышала восхищение в его словах. Показалось?
Следующей жертвой, нуждавшейся в небольшой, но чувствительной встряске, был режиссер Валентин Гриднев. По большому счету именно он отвечал за то, что происходило в студии! Но если Гриднев выполняет свою работу из рук вон плохо, то не значит ли это, что ему приказано так делать? Или это его собственная инициатива?
Перед выпуском программы, когда Валентин торопился по своим небожительским, практически зевесовым делам, Настя решительно преградила ему путь:
— Нам нужно поговорить!
— Мне некогда! — отмахнулся режиссер.
— Мне тоже! — огрызнулась девушка.
Ей удалось затащить его в глухой аппендикс коридора, к сохлой китайской розе в гнилой кадушке, бытовавшей здесь по недосмотру завхоза или при его халатном попустительстве.
— Вам привет от доктора Файнберга!
Валентин дернул адамовым яблоком, точно силясь проглотить слишком крупный для цыплячьего горлышка кусок.
— Между прочим, привет этот у меня записан на пленку, вам прокрутить ее? — небрежно поинтересовалась девушка, как будто речь шла о легкомысленных пустяках, а не о вопросах выживания в телетеррариуме. — Файнберг называет сумму, которую он вам заплатил…
Валентин тупо молчал, хаотично шаря взглядом по вытертому линолеуму.
— Если не хотите, я передам запись Гагузяну, — раздосадованная молчанием, пригрозила Настя. — Или, может, отправимся к нему вместе?
Валентин дернул плечом — вроде бы протестующе, но взгляд его вдруг отлип от земли, постепенно проясняясь.
— Не стоит, — наконец обронил он с ухмылкой. — Увы, я жутко спешу… Что тебе нужно, милая, расскажи в двух словах, плиз…
— Ничего такого, — ответила Настя. — Ничего особенного… Так, пустяки… Мне нужна толковая «картинка» на экране, толковый свет, толковый звук, толковая режиссерская работа. И никакой подставной «джинсы» при этом! Ясно?
— Предельно! — кивнул Валентин.
— А если повторится история вроде той, с косметической клиникой, я в прямом эфире выложу все, что думаю о вас, и мне плевать, что потом со мной станется… И с вами тоже!
— Ладно, ладно, не пугай, пуганый уже… — проворчал режиссер. — Хорошо, сегодня все проверю перед эфиром…
— Сегодня? — делано удивилась Настя, напирая голосом. — Только сегодня?
— Сегодня — как и всегда впредь, — понятливо согласился тот, нимало не смущаясь.
Величественно кивнув, девушка собралась уходить.
— Эй, а пленка? — протестующе крикнул вдогонку режиссер.
Шантажистка даже не оглянулась.
Вечером Гриднев действительно суетился в студии больше обычного: то и дело раздавал указания персоналу, лично проверял аппаратуру. Он выглядел вполне спокойным, как будто не было никакого нажима на него, никакого шантажа. Впрочем, он лишь делал свою работу — и на сей раз делал ее добросовестно.
Итак, Насте удалось отыграть очередной ход. Но это был случайный, временный выигрыш на фоне грядущего, неотвратимого, неизбежного по сути своей поражения.
Лена-Карлсон самозабвенно колдовала возле вешалки, битком набитой костюмами, блузками и платьями самых известных марок мира. Московские представительства этих фирм либо бесплатно, либо за смешные деньги предоставляли ведущим свою одежду ради того, чтобы в конце программы на экране секундно промелькнул логотип дизайнера.
— А, это ты… — обернулась гримерша, не замечая бойцовского румянца на скулах девушки. Она сняла с вешалки тот самый зеленовато-поносный пиджак, который Настя видела еще утром. — Я как раз подобрала для тебя чудненький блейзер… Очень подходит к твоему лицу!
Ловким жестом Лена развернула пиджак.
— Ты считаешь, он мне действительно подходит? — спросила Настя.
— Конечно, это же Армани! — воскликнула девушка как о само собой разумеющемся.
— Значит, ты считаешь, что мое лицо гармонирует с этой стылой поносностью? — уточнила Плотникова, не отрывая пристального взгляда от человека, который по своим должностным обязанностям призван был улучшать, а не ухудшать ее внешний вид.
— Да, конечно, но…
— Так вот, я его не надену! — спокойно парировала ведущая. — Он мне не нравится… Отвратительный цвет! Лучше я выйду в эфир в той одежде, которая мне идет. В своей одежде, купленной на свои деньги!
— Не имеешь права, — делано вздохнула Лена. — Ты давно перечитывала контракт? Одежду ведущей подбирает стилист, и никак иначе…
— А ты свой контракт давно читала? — парировала Настя шутливо, однако со стальным лезвием в голосе.
Ощутив неладное, Лена внимательно взглянула на свою подопечную — однако не разглядела в ее глазах ничего, кроме заботливой сердечности.
— Послушай… — протянула она примирительно, но Настя перебила ее:
— Неужели там написано, что стилисты должны торговать одеждой с рук? И нарушать при этом условия сотрудничества с поставщиками?
Лена, напряженно сглотнув слюну, проговорила после секундного размышления:
— Ладно, Настеныш, чего ты завелась? Если тебе не нравится этот костюм, давай подберем другой…
— Ты не ответила на мой вопрос! — свистящим от гнева шепотом спросила Настя.
— Ничего такого не было…
— Было! Об этом знает вся студия! Не вынуждай меня кляузничать начальству, Ленок…
— Ты ничего не докажешь!
Настя развернула пиджак, который она выкупила утром у редакторши.
— Вот оно, доказательство… Узнаешь? Я-то помню его, как говорится, в лицо, у него есть особые приметы… Три свидетеля в любой момент подтвердят, что я сторговала его у Оксаны… Сначала я предъявлю пиджак руководству, а потом позвоню в бутик и сообщу менеджеру, что ты нарушаешь условия сотрудничества. Вряд ли после такого приличные фирмы захотят работать — и с каналом, и с тобой лично.
Лена поняла: мушка увязила лапки в липком меде, и ей не выбраться оттуда без посторонней помощи.
— Но, Настеныш, тебе не обязательно надевать этот пиджак, — примирительно проговорила она. — Давай подберем тебе другой, а?
— Вот как? — очаровательно улыбнулась Настя. — Ты такая добрая только сегодня или…
— Ну… — Лена задумалась. — Всегда! Теперь — всегда!
— И ты гарантируешь, что моя одежда по тону будет гармонировать с цветом студии?
— Ну конечно, Настя, обязательно… Даю тебе слово! Не понимаю, чего ты взъелась…
— И что пиджаки не будут морщить, заламываться и вообще выглядеть на мне как на корове седло?
— Гарантирую, что нет…
— И что это будет элегантный Ямамото, а не экстремальный Готье?
— Ладно, проехали, я не буду больше заключать контракт с Готье… Во всяком случае, не для тебя.
Неспешно пройдясь вдоль вешалки, Настя коснулась вороха шуршащих костюмов и блузок.
— Пожалуй… — Она задержала руку на нежно-голубой двойке. — Вот что я надену! Как раз подходит к моим глазам…
Лена тревожно встрепенулась:
— К сожалению… Настеныш… Не обижайся, но… Этот костюм отобрала для себя Ельцова.
Сцепив челюсти, Настя молча ткнула пальцем в соседнюю блузку — наобум, для проверки.
— Это блузка Ларионовой… Она в ней вчера выходила в эфир…
— Ленок, но мне совершенно нечего выбрать, — нарочито сожалеюще произнесла Настя. — Придется все-таки «эфирить» в своем костюме… По бедности средств!
Мушка, едва высвободив одну лапку из лакомой медовой трясины, тут же увязила в ней остальные.
Лена просительно прижала ладони к груди:
— Настеныш, прошу тебя…
Плотникова круто обернулась к ней:
— Что, милый Ленок?
— Завтра придет новая коллекция… Ты отберешь для себя лучшие вещи! Ты будешь первой!
— Завтра? И это будет только завтра? — разочарованно вздохнула Настя, намекая на правильный ответ. — Или?..
— Нет, не только завтра… Как скажешь… Всегда, да, всегда!
Укрощенная, взнузданная, стреноженная Лена-Карлсон всем своим существом клялась ей в верности…
Настя, улыбнувшись, чмокнула девушку в щеку.
— Ты прелесть, Ленок! Я знала, что мы с тобой договоримся…
И, цокая каблуками, неторопливо направилась к выходу.
— А как же пиджак? — пролепетала вдогонку укрощенная «прелесть». — Продай его мне… За любую цену!
— Пусть пока повисит в моем шкафу! — улыбнулась Настя. — Он мне так нравится!
Выйдя из гардеробной, девушка прислонилась к стене, унимая сердцебиение. Все это хорошо, но только… Не слишком ли поздно? Успеет ли она воспользоваться плодами сегодняшних усилий? Как бы не пришлось ей уже завтра обивать пороги телеканалов в поисках работы.
Внезапно в конце коридора она приметила массивную фигуру с ежиком вздыбленных волос на макушке — и угадала в ней строевую выправку начальника службы безопасности.
Кажется, ее ищет… Что ж, ей не убежать от расправы. И, вымученно светясь лучезарной улыбкой, она смело двинулась навстречу своей судьбе, упреждая разительный по своей беспощадности удар.
— Вы не меня ищете? — спросила почти кокетливо, ожидая услышать все, кроме прозвучавшего ответа:
— Нет, пока не вас…
Да, она не ослышалась. Пока — нет.
Перед вечерним выпуском Плотникова волновалась, точно впервые оказалась перед камерой. Когда в микроскопическом ушном микрофоне зазвучал обратный отсчет и на суфлере поплыла заставка программы, Настя на миг опустила внезапно отяжелевшие веки, собираясь с духом. А потом, чуть заметно просияв глазами, сыграв лицом, — так, как она умела обозначить радость от встречи со зрителем, который сейчас всматривался в нее по ту сторону экрана, произнесла привычное:
— Добрый вечер! В эфире «Новости», и с вами я, Анастасия Плотникова… Сегодня в выпуске…
Чернел бдительный глаз камеры, ослепительно сияли софиты, создавая привычно удушливую атмосферу, а режиссер незаметно сипел в ухо: «Ирак придержи, пока еще не готов… Сначала про пенсии…»
Она на автопилоте следовала его указаниям, считывая текст с расположенного напротив монитора.
Против ожидания новости были вполне мирные, почти хорошие — она знала, это Антон постарался, смягчив ради нее текст. Зная о ее трудностях, он своей редакторской властью выбросил явно чернушный материал, пожертвовав скандальностью новости во имя… Во имя чего?
Вот имя их дружбы, выходит… Он делает это только ради нее, она знает это. И от этого ей становится немного теплее…
После эфира, как только звуковик отцепил микрофон, ведущая захотела посмотреть сегодняшнюю «картинку» — и осталась ею вполне довольна. И «воздуху» над головой вполне хватало, и пиджак не морщил, и свет был в самый раз, и вообще сама Настя на сей раз держалась с каким-то напряженным восторгом, что, верно, ощущалось зрителями как необъяснимый драйв, распространявшийся вокруг нее концентрическими, высоковольтными кругами.
Пока она любовалась собою, в сумке резко запел телефон.
— Плотникова, ты еще в студии? — проговорил знакомый кавказский голос. — Руководство хочет тебя видеть…
«Руководство» — это означало, что ее хочет видеть Главный.
— Через минуту поднимусь, — отозвалась она, стараясь держаться спокойно, что стоило ей немалых усилий.
— Не нужно, — возразил Гагузян. — Спускайся вниз, к машине.
— Хорошо, — коротко отозвалась девушка, на ватных ногах направляясь к выходу. Она шла, стараясь сохранить на лице остатки эфирного благожелательного спокойствия. Но внутренне она готовилась к худшему.
«Бывают такие минуты, когда нам кажется, что вся наша жизнь поставлена на карту… — задумчиво произнесет она во время съемок очередной программы «Мысли и чувства». — И главное в этот миг — не опускать руки. Героиня нашей следующей истории тоже сражалась до последнего… Верьте, друзья мои, в свою звезду — и вы обязательно победите!»
Она, например, всегда верила в нее…
Глава 8
Ресторан выглядел пустынно — в полночь волна посетителей, достигнув своего максимума, пошла на убыль, чтобы через пару часов за шахматно разбросанными столиками осталось лишь несколько человек, затерянных во времени и в пространстве.
— Заказывайте, прошу вас! — Цыбалин вручил девушке оплетенное в кожу меню.
Он, кажется, давно поджидал ее — перед ним на столе красовались останки порядком разоренного блюда, на которое официант не смел покуситься. Семафорное табу означала вилка с опущенными вниз зубчиками, что на сервировочном языке предупреждало обслугу: клиент еще не успел насладиться едой, тарелку убирать рано.
Настя наобум ткнула в офранцуженный текст, тревожась тем, что значила эта поздняя встреча. Но лицо шефа не отражало ничего, кроме привычной скуки, более относимой к ресторану, чем к его визави, и легкой озабоченности, которая, кстати, скорее относилась к визави, чем к ресторану.
Пока ждали заказанного блюда, Цыбалин спросил, как прошел эфир («Сегодня — сносно», — ответила Настя с нажимом на «сегодня»), посетовал, что погода ни к черту, совсем не летняя, а скорее раннеосенняя, грозящая простудой и гайморитом, потом перевел разговор на достоинства французской кухни… Официант, подлив в бокал вина, заученно испарился, — здесь, в этом ресторане со вздутыми ценами, персонал привык к знаменитостям как к неизбежному злу.
Разговор постепенно скатился к работе.
Цыбалин поинтересовался, какие отношения сложились у девушки с творческим коллективом.
— Прекрасные! — просияла Настя и защебетала что-то о недюжинных талантах, надежных плечах и дружеских руках…
— Лентяи и подонки! — брюзгливо фыркнул шеф. — Отъявленные «джинсовики»! Каждый заботится лишь о своем кармане, а на качество продукта всем наплевать… Тележурналистика, как ни крути, это творчество. Но о каком творчестве может идти речь, если все думают только о деньгах? Все, кроме меня… Просвещение людей, проповедь идеалов человечности — никого это не колышет, люди заботятся только о своих гонорарах.
— А вы? — спросила Настя.
— Я — нет, — мрачно ответил он. — Слава богу, я достаточно обеспечен, чтобы беспокоиться не о сиюминутном, а о вечном… Кстати, как вам нравится режиссер и вообще съемочная группа?
Но у Насти по адресу съемочной группы нашлись только комплименты в превосходной степени. Шеф прошелся по всем — от Гагузяна до Лены-Карлсона, — и обо всех Плотникова могла сказать лишь самое хорошее.
— А какие отношения у вас с Протасовым? — неожиданно спросил Главный — и Насте вдруг почудилось, что безобидный вопрос обнаружил опасную изнанку.
— Рабочие, — холодно ответила она. — Протасов — крепкий профессионал.
— А вот вы — не крепкий, — вдруг заявил Цыбалин, пристально вглядываясь в собеседницу.
Девушка вспыхнула. Так вот для чего ее пригласили сюда… Какая странная форма увольнения!
— Вы не тянете, — с сожалением произнес Цыбалин. — Такое мнение о вас сложилось у руководства.
Настя старательно ковыряла вилкой королевскую креветку, похожую на гигантский знак вопроса.
— Гагузян настаивает на вашем отстранении от эфира, — добавил он, не отводя проницательного взгляда, как будто ожидая признания.
— Я уважаю мнение директора информвещания, — обронила девушка, избегая волчьего, серого в крапинку взора, открыто целившегося в нее. — Наверное, он знает, о чем говорит…
— Так вот, его мнение — вас нужно уволить. И кажется, он прав… Трое ведущих для канала — это слишком разорительно. Трое плохих ведущих…
— Двое плохих, — возразила Настя, переходя к нападению.
— Двое? И кто же это?
Она вызывающе улыбнулась одними глазами. Ответ Цыбалин должен отыскать сам, без подсказки…
Официант подлил вина в опустевшие бокалы.
Шеф вздохнул:
— Между прочим, я с Гагузяном не согласен. Вы — сырой полуфабрикат, но в вас чувствуется некий потенциал.
— Мне больше нравится сравнение с неограненным алмазом, а не с полуфабрикатом, — дерзко заявила Настя.
— Порой хорошая огранка составляет значительную часть цены алмаза, — парировал Игорь Ильич.
— Однако далеко не всю!
После ужина Цыбалин предложил довезти девушку до дому.
— Кстати, должен же я посмотреть, как живут мои лучшие кадры, — шутливо произнес он, входя вслед за Настей в подъезд. — К тому же три часа ночи — самое подходящее время для инспекций!
Поднявшись в квартиру, он оглядел сваленные на столе музыкальные диски, обсиженные мухами репродукции на стенах, оставшиеся от прежних хозяев, ржавые потеки на раковине, стершуюся эмаль ванны — оглядел бегло, но внимательно, будто стараясь найти какую-то важную улику и не находя ее.
— Ну и дыра! — заявил он, брезгливо отряхивая руки. — Здесь невозможно жить! Немедленно распоряжусь подобрать для вас что-нибудь более приличное… Алмаз, даже необработанный, требует особых условий хранения.
И он откланялся со светской, старинного разлива церемонностью.
Едва за шефом захлопнулась дверь, телефон, доселе настороженно молчавший на столе, взорвался настырной трелью. Только один-единственный человек мог беспокоить Настю в три часа ночи… Как будто она не сказала ему, что уезжает навсегда!
Выдернув шнур из розетки, девушка стала собирать вещи.
Больше в этой берлоге она не появлялась. Больше Вадим ей не звонил.
Весть о триумфе Плотниковой разнеслась по студии еще до того, как Настя наутро появилась в телецентре. Внешне на канале все оставалось по-прежнему — все та же суета и мельтешня, однако по обрывистым, ускользающим взглядам, по уважительному, когда девушка начинала говорить, молчанию, по шепотку, который сопровождал ее перемещение по коридору, по пиетету, с которым к ней стали относиться рядовые сотрудники, нетрудно было догадаться о ее изменившемся статусе.
Всему причиной был ночной ужин, о котором уже знали буквально все.
Ларионова первой раскрыла карты.
— Нарушаешь договор, подруга! — прошипела она, столкнувшись с Плотниковой в коридоре — наверное, специально примчалась в «Останкино», чтобы высказать свое фе.
— Какой договор? Мы с тобой договоров не подписывали, — вяло улыбнулась девушка, внутренне холодея от справедливости предъявленного обвинения.
— Решила под старичка лечь, раз под сыночка забраться не удалось? — Ларионова зло выплюнула слова.
— Не тебе же одной подстилкой работать! — с усмешкой парировала Настя.
Ирочка выбежала, зло шваркнув дверью.
Настя усилием воли выправила расползшееся в обиженную гримасу лицо. Главный останкинский закон гласил: умри, но никому не покажи, что ты умер!
Антон Протасов тоже знал об ужине… Смущенно отведя взгляд от разбежавшейся к нему Насти, он холодно произнес, точно выставляя перед собой щит из оскорбительных слов:
— Поздравляю, конечно… Что ж, карьера, Анастасия, вам теперь обеспечена.
Настя вздрогнула.
— Антон, но почему?.. Мы ведь только ужинали, и все… Ничего не было, деловой ужин — и только!
Девушка предательски зашмыгала носом. Теплая ладонь осторожно легла ей на плечо.
— Ладно, хватит хныкать, давай работать… — с де-ланой бравадой прозвучал ломкий от внутренней боли голос. — Сверху поступило указание: сделать из Плотниковой звезду первой величины… Значит, идея такая: специальный отбор новостей под твой сентиментальный имидж, чтобы зритель всегда слышал от тебя только самое мягкое, обнадеживающее, оптимистичное… Текст в соответствующей тональности я напишу… Не пройдет и полгода, как в тебя влюбится вся страна! — проговорил он с ненатуральной жизнерадостностью.
Настя вновь жалобно шмыгнула носом.
Все еще не глядя на девушку, Антон добавил со странной, необъяснимой грустью:
— Тебя полюбят, ангел мой… — Он застыл над бездной многозначительной недоговорки. Ведь он-то любил ее больше всех.
Последовавшие за этим два месяца стали самыми спокойными в жизни Насти. Теперь девушка ежедневно от-сматривала свои записи и, если ей что-либо не нравилось, сразу устраивала «разбор полетов». Мягкие кошачьи лапки обнаружили в своей подкладке хваткие стальные коготки — без них ей пришлось бы худо. Вмешательство новой звезды терпели, равно как терпели ее капризы и откровенные придирки, — ведь теперь на Настю «ставили».
Теперь, когда ее статус на канале повысился, она с полным правом могла сделать выговор осветителю, попенять режиссеру, что тот неправильно «дает» ей в «ухо», покапризничать с редакторами. Теперь, по общему мнению, она «тянула», умело скрывая от всевидящего телевизионного глаза свои недостатки (плохую реакцию в нештатной ситуации) и беззастенчиво выпячивая достоинства — умение задать тон репортажу, сердечностью скрасить трагическое известие, радостным голосом подчеркнуть приятную новость — но не явно, по-пионерски, как грешили этим остальные ведущие, а умело, на полутонах расставляя нужные акценты.
И только Протасова ей не нужно было контролировать — он сам, без понуканий работал на нее, прилежно и трудолюбиво, как покорный телевизионный ослик, везущий доверху нагруженную телегу новостей. У него что-то не ладилось в семье. В редакции болтали, что второй сын родился болезненным и у Антона на этой почве начались ссоры с женой, которая была недовольна тем, что муж допоздна задерживается на работе (как и раньше, впрочем). Хотя Настя и Протасов никогда не разговаривали о личной жизни, им с полувзгляда удавалось угадывать настроение друг друга.
Именно Антон первым увидел Настину тревогу, пробивавшуюся из-под напускной маски всегдашнего оптимизма.
— Ангел мой, — вздохнул он, с тревогой оглядывая ее лицо, — ты какая-то бледная… Мало гуляешь? Устала?
Наоборот, Настя гуляла много, но не так, как то подразумевал семейный Антон, — не по паркам и лесам, по природе и пейзажам, а по ресторанам, светским пати, тусовкам, гламурным мероприятиям — хоть и не так часто случались они в мертвом сезоне, в подкатившей к осени Москве. Плотникова давно уже стала излюбленным персонажем светской хроники, а это ко многому обязывало…
Изредка она посещала вечеринки вместе с Цыбали-ным — тот всегда был галантен и по-светски обходителен с ней. Против ожидания, они быстро нашли общий язык, и Насте порой казалось, что шеф за ней ненавязчиво ухаживает — если понимать под ухаживаниями лохматые
букеты ало-алых, как песьи пасти, роз, два десятка живых бабочек в коробке на день рождения, на грянувшее не к месту и не ко времени тридцатипятилетие, приглашение на гольф-турнир в Нахабино, проведенные там совместные выходные, потом еще и еще раз, а потом снова и снова…
Как ни странно, вместе им было просто и легко. Настя как будто находилась под защитой мудрого, много понимающего, но мало говорящего отца, который — попроси она его об этом! — безоговорочно подставит ей плечо, руку, спасет, прикроет, защитит. Она давно уже не чувствовала себя так спокойно — разве что в детстве, под охранительной властью начальствующего Андрея Дмитриевича. А теперь, когда отец уже не мог помочь ей, она бессознательно искала мужского покровительства — особенно теперь, когда надо было защититься от той напасти, что против ее воли и желания, незаметно, подспудно, неотвратимо зрела в ней самой… И от этой досадной мелочи, размером не больше бобовинки, нельзя было убежать или спрятаться — как нельзя выпрыгнуть из набравшего высоту самолета, как невозможно выбраться из собственного, вдруг сподлившего тела, как нельзя скрыться от едких упреков своей совести…
На студии уже вовсю трещали о романе между медиа-магнатом и ведущей, приуготовляя развитие оного еще в то промежуточное время, когда между ними не было никаких личных отношений. Но слух, удобрив почву всеобщего злословия, вдруг проклюнулся первым зеленым листочком — и вскоре грозил вырасти в могучее древо, их общий культивированный плод… И он вырос.
На подламывающихся ногах Настя выбрела из старинного здания поликлиники, где за здоровьем студийных работников следили по страховому договору, оберегая от простудных чихов особо ценные кадры (а Плотникова теперь считалась особо ценной). Денек был серо-низкий, влажный, какой-то придушенный, грозя закончиться жидкими сумерками, серой моросью, зевотой…
Девушка опустилась на мокрую скамейку, нервной рукой сжимая телефон, — кажется, она собиралась звонить… Но кому? Маме? Папе? Пли Ему?
В мозгу путались обрывистые мысли, сумбурные фразы. Их хаотичные обрывки никак не могли улечься в стройный осмысленный ряд, из коего воспоследовало бы единственно верное решение.
«Это было в ту ночь… — думала Настя, глядя в землю остановившимся взглядом. — Но ведь я всего один раз забыла принять таблетку… Один раз… Так не бывает… Это ошибка!»
Но периодически накатывавшее головокружение, внезапные приступы слабости, постоянное поташнивание — признак будущей утренней рвоты — все свидетельствовало о том, что никакой ошибки не было. Анализ не врал, врач была права. И это было ужасно!
Как не вовремя это случилось… Именно тогда, когда только что стало воздвигаться здание прекрасного, безупречно построенного будущего, храм грядущей славы и алтарь всеобщего признания. И все это грозила обрушить та самая крошечная бобовинка внутри ее — безжалостная, неуговариваемая, безапелляционная… Она, эта досадная мелочь, не отвечала на увещевания и не поддавалась уговорам, она росла себе и росла, ей не было дела до таких эфемерных вещей, как карьера или происки конкурентов, ее не волновало, какой ценой достался Насте ее нынешний успех. Ей вообще не было дела до прошлого, ведь сама по себе она — будущее…
Но, несмотря на сумбур мыслей и хаос чувств, где-то глубоко внутри Насти звенела пронзительная, как луч света, радость, которую жалко, но необходимо было терять, которую жалко, но необходимо было уничтожить.
Потому что именно этого требовал заключенный ею контракт.
Представьте, одинокая ведущая рожает ребенка неизвестно от кого… Не слишком удачная реклама для только начавшей набирать обороты программы! Пожалуй, поначалу новость приведет к всплеску всеобщего интереса. толпы репортеров станут гоняться за будущей матерью, бесстыдно выспрашивая, кто отец еще не рожденного приплода, — не тот ли знаменитый хоккеист, которому, кстати, тоже не нужна слава папаши, отвергнувшего свое дитя-байстрюка. А потом, когда интерес спадет и она уже не сможет с прежним пылом отдаваться работе, от нее по-тихому избавятся…
Нет, это выше ее сил — собственноручно отказаться от завоеванного успеха! Поэтому она уже сказала доктору, что сохранять беременность не планирует. Слава богу, теперь существуют безболезненные методы: пара таблеток, три дня дома, небольшой бюллетень с простудным диагнозом — и все будет кончено.
Никто ничего не узнает. И Он ничего не узнает.
Настя вспомнила Вадима — с сухой, вытравленной из сердца расчетливостью. Как бы он отреагировал, если бы… Обрадовался бы? Вряд ли… Подлинная радость для него существует только под кайфом. Расстроился бы? С философским стоицизмом принял бы известие, чтобы потом под его впечатлением разродиться очередной ду-шемотательной мелодией?
Нет, он ничего не узнает. Ему не нужно ничего знать. Никому не нужно знать.
А вдруг… Вдруг Вадим, услышав удивительную новость, решил бы: больше никогда, не сдаваясь на уговоры дружков, против обыкновения среды и тусовки, — соскочить. Ради нее, ради их будущего сына, ради их совместного будущего…
Наверное, они поженились бы… И зажили бы счастливо, как обычные люди. Сидели бы без денег в съемной хате на окраине города, а когда бы их сын — или дочь — подрос, ему показали бы старые новостные записи. «Вот какой была наша мама, сынок (или дочка)!» И ребенок удивленно разглядел бы в оплывшей, сорока с лишком лет тетке — нежноокую красавицу, ежевечерне сиявшую людям.
Тогда как долго удержится она в новостях? Месяца три? Или даже пять, или полгода — до тех пор, пока живот не станет заметен, пока ее не выкинут вон за нарушение контракта, который в сложившихся условиях однозначно требовал: никаких детей!
«А мама, верно, обрадовалась бы… — улыбнулась Настя, подымаясь со скамейки — начинал накрапывать мелкий кусачий дождик. — И папа тоже… Все-таки мне уже сильно за тридцать… Или сейчас, или, скорее всего, никогда… Может, еще будет время? Вряд ли… Значит, никогда…»
Она приняла окончательное решение: нет.
Никто ничего не узнает. Никогда.
Но тайное внезапно стало явным. Нет, Бес ничего не узнал, ему-то не было дела до того, куда он бросил семя, где оно взошло, чем проросло. Его больше заботили другие семена, менее материальные, хоть и имевшие волновую, изначально вещественную природу, — звуки, аккорды, мелодии, в конце концов оборачивающиеся белым порошком, розовым улыбчивым кайфом, мороком и дурью.
Позже, придирчиво анализируя случившееся, вспоминая день за днем, слово за словом, выискивая мелочи, на которые она по стремительности происходящего не обращала внимания, Настя станет мучиться вопросом: откуда он узнал, от кого?
Потому что он проведал про Настино состояние чуть ли не раньше ее самой, едва ли не с самой первой минуты ему стало известно то, что она так тщательно и тщетно скрывала от всех. А ведь она даже маме — ни-ни, а гримерше, которая застала ее над раковиной в тот момент, когда Настя рывками освобождалась от съеденного завтрака, удачно соврала, будто в ресторане ей подсунули несвежих лобстеров, и Антону наврала про пониженное давление, которое, кстати, действительно оказалось пониженным, и еще много чего врала, вполне правдоподобно, впрочем, и умело…
Кто же донес ему о случившемся? Служба безопасности? Гинекологиня, по должности обязанная отчитываться о здоровье своих телевизионных подопечных? Ведь сама Настя ни словом, никому, никогда, ни-ни… Скорей бы она рот себе зашила нитками или проглотила язык, чем проговорилась…
Вечером того самого дня после посещения клиники он произнес, ласково накрыв ее нервную кисть своей теплой ладонью:
— Мне так хорошо с вами, Анастасия…
В этот миг они сбивали росу с ровно выбритого поля, не столько играя в гольф, сколько разменивая долгоидущие часы на минуты и секунды, она — потому, что считала такое времяпровождение своей должностной обязанностью, он — потому, что, очевидно, находил некую прелесть в этой нудной игре.
Мало увлеченная процессом Настя постоянно размышляла: может быть, бабахнуть ему сейчас, рубануть со всей дури, броситься в ноги, он же дед, получается, этого ребенка, он должен понять, должен простить, должен сказать: «Работай до декрета, в эфире живота не будет видно, а потом вернешься… Ведь мы тебя раскрутили, а раскрученными лицами не бросаются, они миллионы стоят…» А ее спутник, кажется, вообще ничего не думал, просто наслаждался, наверное, красивым пейзажем, пригожим, слабо облачным вечером, отдыхая, наконец, от телевизионной горячки, толкотни, мельтешни — не столько мужчина, сколько телебосс, не столько отец, сколько руководитель канала, не столько дед, сколько пастырь телевизионных, грозящих разбродом и шатанием овец. И что он мог сказать своей отборной овечке, которая, взбрыкнув, грозила застопорить размеренное движение отары в выбранном пастырем направлении — вперед, вперед и только вперед? Разве что по возникшей обоюдной симпатии отделался бы тремя днями запланированного, мнимо простудного отдыха и обещанием скрыть истинную подоплеку происходящего.
Итак, он сказал, что ему хорошо с ней…
В ответ Настя что-то невнятно промычала, из-за внутренней раздерганности не осознав истинного смысла его слов, которые припахивали некстати сделанным предложением — деловым предложением, ничего личного, один голый мозговой расчет, одна только по нотам рассчитанная пиар-кампания. Наверное, именно эту кампанию он и планировал, потому что ровно через секунду добавил рассудительно, без особого чувства, точно речь шла о сделке, о вещи, о контракте, о договоре:
— По-моему, мы с вами подходим друг другу.
Настя опять глухо буркнула в ответ, не понимая, о чем речь, — о том ли, чего она давно боялась и что предчувствовала своей обостренной интуицией, альтер эго благоразумия…
— Между тем с точки зрения общества подобный брак будет выглядеть вполне естественно, несмотря на разницу в возрасте… Подумайте сами: звезда эфира и его бессменный рукотворен, младость и мудрость, красота и сила… Кстати, я обеими руками за то, чтобы вы родили этого ребенка!
Он сказал «этого», но тогда она не придала «этому» значения, настолько все было неожиданно, не к месту, как обухом по голове.
— Так что… слово за вами… Решайтесь!
Он напрасно ждал ответа. Ответа не было.
— Молчание — знак согласия? Значит, да?
Настю вдруг затошнило, и, боясь издать даже звук, чтобы поздно съеденный обед не выплеснулся ему под ноги, она слабо кивнула.
Она так и не поняла, о каком ребенке шла речь во время того разговора в Нахабине. И вообще, шла ли речь о ребенке. О каком ребенке — о том ли, который сейчас неудержимо рос внутри ее, или о ребенке будущем, перспективном, гипотетическом?
Во время отпуска в Греции, в средиземноморской разнеженной атмосфере, она, запинаясь, сообщила Игорю Ильичу о своем положении. Делая это признание, она очень смущалась, — боялась ненужных расспросов, ведь непонятно, как расценил бы он правду об отце ребенка, — может быть, как нарушение неких подразумеваемых, еще не скрепленных брачным контрактом договоренностей.
Да, смущенно проговорила девушка, она в положении, но это не проблема… Вернувшись в Москву, она немедленно сделает все, что должна сделать, никто ничего не узнает.
— Не нужно ничего делать! — возразил он сердито.
Сидя в тени пальмового зонта, творящего на песке кружевную суматоху теней, Главный (а он все еще оставался для нее начальником, Главным) просматривал местные газеты.
— Ребенок обязательно должен родиться, — складывая хрусткий лист, произнес он. — И его отец — это я. Для всех наша связь началась ровно два месяца назад. Кажется, по срокам все совпадает?
— Да, — пролепетала Настя.
— Чудесно! Так что сплетен не будет… Что касается материальной стороны дела, то волноваться нечего, я обеспечу и тебя, и ребенка. Как известно, семьи у меня нет, так что… — Он улыбнулся из-под черных, с минителевидением на зеркальных линзах, очков. — Все складывается чудесно… Наша свадьба и твоя беременность только подстегнут интерес к каналу и его звезде — то есть к тебе.
Настя улыбнулась, сползая углом рта в плаксивую ухмылку:
— Надеюсь, вы не заставите меня рожать в прямом эфире?
— Что ты! — Он махнул рукой. — Ведь это может повредить ребенку… Сейчас главное — это ребенок!
«А я?» — чуть было не спросила Настя. Но не спросила, потому что из этого вопроса, как из прохудившегося мешка, полезли бы другие вопросы: а как же любовь, как же семейная жизнь, предполагающая хотя бы понимание между супругами, если не взаимные чувства?
Он ласково провел пальцем по ее загорелой щеке.
— Не волнуйся, милая. Все будет хорошо…
Так и осталось между ними молчаливым, не подлежащим обсуждению фактом: главное — это ребенок. «Мой ребенок», — хотела было уточнить Настя, но не решилась заявить об этом вслух. Побоялась.
Однако она не побоялась усомниться в безупречности предложенной им версии отцовства.
— А если не поверят? — Она смущенно осеклась. — Ведь о вас ходят такие слухи…
Игорь Ильич мгновенно понял ее недоговорку.
— О том, что я лидер голубой мафии? — Он заливисто расхохотался. — Милая, если бы ты знала, каких денег стоило мне запустить о себе эту дезу… Что только не сделаешь, чтобы подстегнуть интерес к своему детищу — телеканалу.
Настя верила ему и одновременно не верила. Но что ей оставалось делать? Только смириться с неизбежным.
Они обвенчались в местной православной церкви. На свадьбу — будто бы тайную, будто бы негласную — были приглашены оператор из местного корпункта и многочисленные фоторепортеры. Церковный венец несли художественная старуха лет ста с лишком (кажется, отобранная для церемонии на специальном кастинге) и древний старик, еще крепкий, но подозрительно живописный, как будто его тоже долго искали по картотеке «Мосфильма», чтобы специально вставить в кадр.
Возвращаясь в самолете домой, Настя развернула московские газеты. «Свадьба медиамагната и телезвезды!» — кричали аршинные заголовки таблоидов. «Скромное венчание на греческом острове! Эксклюзивные снимки нашего корреспондента, тайно проникшего в храм!» Далее текст гласил о внезапно возникшем у влюбленных желании соединить свои сердца, о тысячелетней церквушке с обсыпавшимися фресками, о монахе с Афона, обвенчавшем новобрачных, о свидетелях из ближайшей таверны, о том, что новобрачные поначалу хотели оставить свои отношения в тайне, чтобы не повредить карьере теледивы, но так и не сумели сохранить секрета… Что прежний жених звезды, знаменитый хоккеист, сначала хандрил и рвался в Москву, чтобы выяснить отношения с прелестной изменницей, но, связанный по рукам и ногам драконовским контрактом с HXЛ, остался в Канаде, и даже быстро утешился, подыскав замену своей неверной возлюбленной — певицу местного кабаре, которую вскоре сменила очаровательно доступная поклонница… Истина терялась под напластованиями отборного вранья — вряд ли хоккеист помнил даже имя своей формальной невесты, а тем более горевал о ней.
Пиар-менеджер Юра, поблескивая стеклами дизайнер-ски узких очков, при встрече спросил у новобрачной, которая против ожидания выглядела усталой, а не счастливой:
— Каково, а? Видела себя в газетах? Пришлось изрядно побегать!
Между тем брак, считавшийся для всей общественности однозначно свершенным, для государства, трактующего факт заключения брачных уз через регистрацию в ЗАГСе, все еще оставался гражданским. Но отношения супругов были основаны на устном согласии, и формальности, кажется, были лишними…
Однажды Настя, войдя в директорский кабинет, застала Игоря Ильича почтительно слушающим тихое журчание телефонной трубки. При этом он стоял навытяжку, по-армейски, с невидящим восторгом глядя прямо перед собой.
Секунду спустя, благоговейно опустив трубку на рычаг, он произнес:
— Звонил замглавы Администрации Президента… — Внушительная пауза. Телеграфный, подчеркивающий особую важность сказанного текст: — Поздравлял с законным браком. Восхищен моим выбором.
Настя пожала плечами. Подумаешь…
— Он… он сам просил Гайдукова поздравить. Кажется, речь шла о президенте.
Настя фыркнула — но не вслух, а про себя. Какой-то президент… Подумаешь! Хотя мама, услышав такое, была бы счастлива. Папа, верно, тоже гордился бы дочерью. А ей, кажется, все равно. Подумаешь…
После возвращения из Греции Протасов стал относиться к девушке по-другому — бережно, как к будущей матери, и трепетно, как к потерянной возлюбленной. Его собственный брак тем временем громко трещал по швам, и Антон, по слухам, уже переселился в какую-то съемную халупу подальше от семейных скандалов. Впрочем, он никому не жаловался на жену, которая заставила его в сорок лет сниматься с насиженного места, когда уже нет ни желания, ни моральных сил строить новое гнездо с новой партнершей. Да и партнерши тоже нет, а оскомина неудачного семейного строительства придает любой связи уксусный, отвращающий вкус, хотя кажется — вон их сколько, незамужних, только руку протяни, только кивни — и будет тебе новая любовь, с чистого листа, с красной строки. Но… Почему-то не нужно. Не хочется…
Будущую мать определили под наблюдение лучших медицинских специалистов. Врачи в голос восхищались пациенткой, прилежно соблюдавшей все их рекомендации (кроме одной — рано ложиться спать) и ее правильно развивавшейся беременностью, восторгались импозантным, очень беспокоящимся за ребенка отцом, неизменно сопровождавшим супругу и терпеливо поджидавшим окончания процедур, как бы ни было дорого (судя, например, по эксклюзивному, но внешне аскетичному «Патек Филиппу» на запястье) его драгоценное время. К пациентке прикрепили врача, который должен был сопровождать ее от первого родового вздоха до последнего.
Между тем Насте отчаянно хотелось узнать о судьбе Вадима, но она не решалась спросить о нем у мужа, хотя невысказанный вопрос давно жег ей язык. Но Игорь Ильич никогда не упоминал о своем сыне, как будто тот давным-давно умер или же его никогда не существовало.
Наталья Ильинична восторженно зарыдала, узнав о беременности дочери, а Андрей Дмитриевич взволнованно охрип голосом во время разговора с Настей. Родители никогда не видели своего зятя, хотя и читали о всемогущем телебоссе в телевизионных журналах.
Правды, конечно, они не знали. Правду в этой истории знала только она. Да и то, как потом выяснилось, не всю.
Глава 9
За эти шесть месяцев Анастасию Плотникову полюбила вся страна — за глубокий, нежный взгляд, грудной голос, слегка опавшее личико, трогательный вид, мягкие манеры, за сдержанный оптимизм и безудержную женственность. За особый свет в глазах. За скандальную славу. За неравный брак. За то, что на нее можно смотреть, ее можно обсуждать, ее можно осуждать.
И на нее смотрели, ее обсуждали, ее осуждали (за брак по расчету, за разницу в возрасте, за красоту и успешность).
Этот брак казался блестящим с точки зрения массме-диа семейным союзом — мудрость и красота рука об руку, зрелость и юность, слившиеся в общественно-резонансном альянсе. К тому же телезвезда оставила ради своего супруга знаменитого хоккеиста, а влюбленный муж бросил ей под ноги свои капиталы, да что там — он целый метровый телеканал ей под ноги бросил, словно матерчатый плащ.
С первого дня между ней и Игорем Ильичом сложились необременительные, дружеские отношения. Почти такие же, как в настоящей, без дураков, семье. Почти.
Настя приняла на себя образ слабой стороны — женской, оставив своему супругу право быть сильным, доминирующим, указывающим, зорко выбирающим курс семейной, только что пущенной в плавание лодки. В ее положении хотелось быть защищенной и слабой, хотелось заползти в укрытие от свистящего ветра и чтобы кто-нибудь — все равно кто — жалел бы ее, и любил, и гладил ей лобик, и мерил температурку, заботился бы о ее горлышке и тревожился, как она почивала. В детстве о ней беспокоились мама и папа, но теперь родители не могли обеспечить надежности ее укрытия, так что Игорь Ильич пришелся как нельзя кстати, страшно даже подумать, что было бы, если бы он вовремя не подвернулся ей, — тогда никакого затишья, холод вечности, мороз бесприютности, пустота. Страх. Да что там страх — ужас!
А еще — аборт.
В его загородном доме, по уму сделанном, уютном, приятном (таком приятном, как ямка, продавленная в пуховой подушке), таком удобно пришедшемся по ней доме Настя подолгу замирала в кресле, прислушиваясь к себе и к той бобовинке, которая произрастала в ней, отбирая телесные соки, мечты, желания, надежды и чаяния, кроме одного — неподвижно смотреть внутрь себя расфокусированным взглядом, что-то смутно чувствовать, прозревать, бояться и надеяться одновременно на то, что через месяц свершится неумолимо и в срок, по внутренне согласованному плану. Свершится, хоть трава не расти. Будет — и точка.
С мужем они обычно разговаривали о работе или о пустяках или просто молчали — так было легче преодолеть разъединительную разницу в возрасте и в воспитании, которую никто из них, кстати, не считал нужным скрывать. Игорь Ильич посвящал ее в некие перипетии, сложившиеся вокруг канала, рассказывал о своих планах — но как-то странно, словно не было Насте места в них, точно не для нее все это делалось.
Поджав ноги, она тихо сидела в кресле. Муж курил сигару, неназойливым дымом выдававшую свою элитарность, кто-то еще маячил поодаль, бубнил разговором, в который Настя не вслушивалась, — не до того было ей, сонной, занятой ращением в себе ребенка, увлеченной их складывающимися на клеточном уровне отношениями. Гость что-то толковал о политике, расставлял акценты, переворачивал все с ног на голову — то есть занимался словесным демпингом, скучным и вязким, как февральские сумерки, которые уже обкладывали синей ватой тихий дом, затерянный в лесу.
— …Технически не слишком силен, к тому же с ним трудно договориться, — бубнил гость, вяло шевеля синеватыми, мясного цвета губами. Настя его знала — это был Прошкин, лидер некой окраинной думской фракции, человек не слишком известный публике, но тайно влиятельный за счет своих обширных связей, непременный участник всех подковерных правительственных игр.
— А что, уже пробовали? — Сигарное колечко нарисовалось в воздухе, как тихая фраза, — и так же незаметно растворилось.
— Ну… Я знаю тех, кто пробовал… Кстати, эти люди дорого дали бы, чтобы заменить его кем-нибудь более вменяемым… Раньше как было — два процента за решение, проверенные каналы, ясный механизм, теперь еще поищи, кто возьмется! И ведь никто не берется! А дела-то стоят…
— Может быть, он рассчитывает на большее? На три, например, или пять процентов?
— Если бы… Поворчали бы, да дали… Но, понимаешь, невозможно заниматься делом, когда расценок нет, решения непредсказуемы и никто не знает, куда его завтра нечистая сила завернет… В Думе — и то ничего не знают… Там, кстати, тоже не берутся…
— В Администрации Президента?
— Нет… Там больше никого нет. Не Администрация — а так, одно название… Все боятся принять решение, все!
Помолчали. Настя то любовалась игрой огненных бликов в камине, то переводила взор на мятущийся за окном испуганный снег, который настойчиво стучался в стекло, словно просился в тепло к людям — чтобы у их ног умереть, разродившись сыростью, влагой, мятной мокротой…
Молчание висело тяжелое, как топор.
— Кампания против премьера дорого обойдется, — сумрачно обронил Цыбалин.
— Деньги — это не проблема, — торопливо, с некоторым даже воодушевлением — разговор наконец сдвинулся с мертвой точки — проговорил Прошкин. — Главное — сделать все умно и тонко, без нашего расейского дуболомства… Мой помощник Сергей Николаевич уже наладил кой-какие связи с заинтересованными людьми. Кстати, он вроде земляк твоей жены…
— Без поддержки Администрации я не возьмусь, — категорично заявил хозяин. — Мне нужно прикрытие, потому что, сам понимаешь, с кондачка такие дела не делаются… Кто с мечом придет, тот, как говорится, от него и погибнет.
— Сам знаешь, Гайдуков напрямую тебе ничего не скажет, однако поспособствовать может… Потому что, я знаю, ему тоже надоело играть с этим типом в кошки-мышки. Дорого выходит! Ну, конечно, парочкой предупреждений от министерства разживешься, не без этого…
— Министерских предупреждений я не боюсь, — нахмурился хозяин. — Только, понимаешь, свалить премьера — это еще полдела, а кто вместо него сядет? Мне смысла нет на пустоту работать, нужна хорошая кандидатура. Твердая, железобетонная кандидатура, которая устроит всех. Ну, большинство…
— Сядет тот, кого посадят! — несмотря на тяжесть разговора, легко рассмеялся гость. — А кандидатуру, конечно, подберем… На такое место охотники найдутся!
— Кандидата надо знать заранее, перед принятием решения…
Жалко улыбнувшись, Прошкин заюлил глазами, а потом ртутно свалился взглядом в заоконный мутный хаос.
— Ну, кандидатуру, конечно, будем обсуждать… — пробормотал он, уходя от конкретики.
— И еще, нужна отмашка из Администрации, — настаивал Игорь Ильич. — А иначе я — пас. Знаешь ли, голову терять неохота…
Гость погрузился в молчание.
— Значит, достойной кандидатуры у вас нет… — резюмировал Цыбалин.
Как будто в умственном просверке Настя вдруг разглядела телекартинку: Земцев в кадре — контактный, веселый, абсолютно телегеничный, остроумный, смекалистый — в противовес нынешнему премьеру, бюрократическому, советской прокисшей закваски тяжеловесу. И ей почудилось, что Земцев выглядит как нельзя более кстати на этой умозрительной картинке… Вдруг неожиданно для себя она проговорила — ей казалось, что мысленно и тайно, но на самом деле вслух и громко:
— Земцев…
— Что? — Мужчины удивленно обернулись на нее.
Но она не посчитала нужным ни объяснить свое вмешательство, ни, тем более, извиниться за него. Ей было лень.
Все это словесная шелуха, пыль… Единственное, что еще хоть сколько-нибудь волновало ее, кроме того, что сейчас росло, вызревало глубоко внутри ее, — это ее телевизионная карьера. И она добавила, казалось невпопад:
— Интервью с Земцевым было запланировано еще полгода назад…
— Помню, милая, — отозвался супруг с приятной мужской снисходительностью, как будто отвечая ребенку или слабоумной.
А гость, перемолов на мысленной мясорубке вполне конкретные «про» и «контра», «за» и «против», вдруг проговорил, перекатывая на губах фамилию, массируя ее языком, пробуя ее на вкус и, очевидно, сочтя этот вкус вполне удовлетворительным:
— Земцев!
И хозяин дома отозвался дурным эхом, тоже, очевидно, распробовав и ощутив это слово, тоже проверив его на вкус и сочтя этот вкус подходящим:
— Да, Земцев… Кажется, он подойдет…
Земцев появился в студии, как всегда, ароматный, блистающий обаянием, живой и деятельный. За прошедшие годы он не то чтобы постарел — скорее повзрослел, остепенился, омужчинился…
— Настенька! — склонился к ручке по старой памяти, впрочем ни на что не намекая, просто уважая то, что было между ними, особенно — чего не было, а особенно — чего никогда не могло быть. — Как ты? Как поживает твоя матушка?
— Хорошо! — улыбнулась Настя, сияя подурневшим от беременности лицом, на котором прелестные запятые, венчавшие уголки изогнутых улыбкой губ, постепенно выродились в две вертикальные морщины весьма трогательного вида и свойства.
— Поздравляю с замужеством — и со всем, всем, всем! — Земцев, как всегда, был щедр на комплименты. — Обворожительно выглядишь… Ничего, что я на «ты»? Мне, старому другу, позволительно… Так как мама?
Хорошо! — рассмеялась Настя. — А как ваша жена?
— Прекрасно!.. Кстати, — Земцев при мысли о предстоящем интервью взволнованно затуманился лицом. — Послушай, может быть, заменим вопросы о семье чем-нибудь другим?.. Понимаешь, Настенька, нам, политикам, иногда лучше оставаться бесполыми, — проговорил он почти жалобно.
— Боюсь, что у вас, Миша, это не получится! — с давно забытым кокетством рассмеялась Настя. — У вас имидж вечного жениха!
— Именно поэтому лучше не надо о семье, именно поэтому…
Во время интервью Земцев умело критиковал нынешнего премьера, сочувствовал президенту в его нелегком деле, выгораживал сторонников, критиковал противников — но делал это так тонко и красиво, что Настя вдруг перестала чувствовать перед собой недреманное око студийной телекамеры, позабыв про вечную оглядку на нее, как будто они, сидя в ночном кафе, под нудный перепляс местных музыкантов весело трепались о пустяках.
Раскрепостившись и оживившись, Настя вдруг отважилась на бесшабашную импровизацию. Спросила:
— Вы так прекрасно обо всем рассказываете… И все-то вы знаете… А сами-то, Михаил Борисович?.. Сами-то что бы вы сделали на посту премьер-министра?
И каким конкретно образом?
Земцев охотно поддался на провокацию. Подобравшись, как будто для прыжка, он начал: во-первых, во-вторых, в-третьих… Ошибка нынешнего правительства не в том, а в том… И не в этом, а в другом… Он долго рассказывал — убежденно, красиво, с доказательствами. Он как будто объяснял это не невидимым зрителям, а лично Насте, говорил выпукло и емко, при этом сам верил в свои слова и в то, что сможет… И Настя ему верила в тот момент. И остальные тоже, очевидно, верили ему по эфирному закону — когда верят в недоказуемое, в ирреальное, в то, во что хочется верить, а не в то, что есть на самом деле.
— А есть ли у вас команда единомышленников? — спросила интервьюерша в заключение. — Ведь один, как известно, в поле не воин…
— Очень даже воин, Анастасия, — возразил Земцев и пошел распинаться про рыбу, которая гниет с головы, и про здоровый организм государства, и про то, что единомышленники конечно же имеются, даже и в нынешнем правительстве многие за него ратуют — но не официально, а по духу, по образу мыслей, по призванию. И что, конечно, он бы смог, несмотря на противодействие инертной думской массы, — преодолел бы, перескочил, пробился бы, прорвал глухую оборону… Ведь надо же что-то делать, ведь страна который год вянет на корню, возрождать ее надо, поднимать из пепла, из руин, из мусорных куч, во имя великого будущего, во имя народа и на благо ему же…
По общему мнению, интервью прошло блестяще!
Настя, отсмотрев материал, осталась вполне довольна собою. Земцев на экране служил приятным, умело оттеняющим ее достоинства фоном, будучи пламенным на фоне ее спокойствия, пассионарным на фоне ее раздумчивости, взрывчатым на фоне ее женственной текучести — и интервью на контрасте выглядело великолепно!
Сначала студию завалили восторженными откликами телезрители, потом газеты одновременно, единоглоточно подхватили клич — что-то насчет того, что вон какие кадры пропадают, вот бы нам вместо бюрократов-партократов эдакого Икара в правительство заполучить.
Затем самого «Икара» зазвали на другие метровые каналы, где он так же ярчил и светил, — но это была уже отыгранная карта, второй сорт, неумелые последыши Настиного триумфа, запоздалое эхо, отголоски, круги на воде.
— Отличная работа, — похвалил жену Игорь Ильич. — Ты, кажется, становишься профессионалом…
Но ее оскорбило это снисходительное одобрение — что-то в нем было от нечаянного выигрыша, от ипподромного халявного успеха: как будто лошадка, на которую он ставил, нежданно принесла ему целый рубль на вложенную смешную копейку. Муж не радовался вместе с ней и за нее, скорее он радовался своей дальновидности, принесшей ему внеплановый дивиденд.
А Насте это было неприятно.
Между тем дядюшка Захар, как настоящий дядюшка, сочтя себя виновником и Настиного брака, и ее успеха вообще, получил право на вход в семью и даже как бы приобрел некую индульгенцию за свои прошлые и будущие грехи.
Настя, конечно, выказывала снисходительное благоволение своему мнимому родственнику, но совсем не радовалась его частым появлениям в доме. А тот разливался соловьем:
— Крестить младенца! Непременно после рождения крестить! — И сам явно метил в крестные отцы, предвидя от этого звания новые блага для себя — свою грядущую неувольняемость, свою незаменимость и бессменность, которая, кстати, до сей поры находилась под вопросом, висящим дамокловым мечом над его полированной лысиной.
Отношение остальных сотрудников к Насте стало испуганно-почтительным, и только Валера, изредка сталкиваясь с ней в сумятице кипящих коридоров, сожалитель-но вздыхал, как в старые добрые времена:
— Так мы и не переспали с тобой… Жалко!
Настя задорно смеялась, вступая в привычную для обоих словесную игру:
— Ладно, Валера, какие еще наши годы… Успеем!
— Ага, — фыркал ее верный, но только на словах, поклонник. — Ты, если что, сразу обращайся!
Для них это было забавной игрой из тех давних (не таких уж давних, меньше года) времен, когда она была штатной корреспонденткой, а он — обычным «инженегром» и они помогали друг другу выжить в телевизионном серпентарии.
Теперь Насте не надо было контролировать сотрудников, от добросовестности которых зависело качество телевизионного продукта, ведь теперь она была женой шефа. А что такое «жена шефа»? Это рефлекторный изгиб позвоночника, это бессловный приказ, это больше чем просто работа, чем должностные обязанности, чем производственная рутина — это рыцарское служение! Это способ выжить, причем способ единственный…
Антон Протасов придерживался другого мнения.
— Ты, — вздохнул он, слишком много показывая этим вздохом, — наша доморощенная звезда… Только, ангел мой, учти, тот, кто тебя породил, тот может тебя убить.
— За что? — удивилась Настя.
— Ни за что, — туманно ответил Протасов. — Если звезды гаснут, значит, это кому-нибудь нужно…
— Ты престарелый трусишка! — небрежно фыркнула она в ответ.
— Я бы заменил слово «престарелый» словом «многоопытный», а слово «трусишка» — словом «пессимист». Я — многоопытный пессимист, — печально констатировал он. — На нашей телевизионной помойке лучше не испытывать иллюзий, Настя. И лучше не думать о завтра и не строить наполеоновских планов. Потому что завтрашнего дня может не быть.
Она и не думала… Для нее существовал только сегодняшний день, нескончаемо длинный, длиною в год. Однако предупреждение Антона имело явный привкус тревоги…
Он знал что-то, о чем не знала она? Но что именно?
Вряд ли он объяснит ей, в чем дело, он всегда так осторожен и дипломатичен… Не захочет расстраивать ее, отделается шуткой. Но у Насти совершенно не осталось сил разгадывать чужие головоломки.
— Если вдруг ветер переменится, ты дашь мне знать? — спросила она, тихо опуская руку ему на плечо.
Антон, нежно оглядев ее осунувшееся, почти некрасивое лицо, пообещал:
— Конечно, ангел мой…
Она чувствовала — он не обманет. Кто угодно, только не он.
Про Вадима Настя ничего не знала. Может быть, просто боялась услышать правду? Газетным сплетням она не верила, общих знакомых у них не было, поэтому она не могла узнать о нем, кроме как исподволь проявив инициативу, которая в нынешнем положении могла бы повредить ей. Игорь Ильич, кажется, тоже не стремился выяснить, кто отец будущего ребенка, по крайней мере, разговоров об этом не заводил, в душу не лез, не ревновал и был, видимо, совершенно доволен сложившимися между ними отношениями. И Настя тоже вроде бы была ими довольна.
Однажды она сделала слабую попытку расспросить мужа о его прошлой жизни, на что тот снисходительно заметил:
— У мужчин не бывает прошлого, милая! — В его голосе звучали поучительные нотки. — Мужчина — символическое воплощение будущего, его поэтическая метафора, тогда как женщина вся в прошлом — следовательно, она метафора прошлого, его темный символ…
Настя попыталась уловить в его словах намек, но так и не поняла мужниной иносказательности.
— То есть у меня нет будущего? — по-пионерски прямолинейно расшифровала она. — Так?
— Нет, это у меня нет прошлого, — отговорился супруг. — Я только недавно родился — вместе с нашим браком, и намерен начать свою жизнь с чистого листа.
Удовлетворившись мнимой комплиментарностью ответа, Настя успокоилась. Ей так и не удалось разведать, где сейчас Вадим, что с ним. Домработница была неразговорчива, охрана незримо и умело выполняла свои обязанности, а иных источников информации у Насти не было. Разве что Шумский…
Дядюшка Захар обрадовался приглашению — к дочке ли, к племяннице, к протеже — и прибыл по первому зову, едва Настя заикнулась, что ей нужно его видеть. Время посещения было выбрано умело — в ту самую двухчасовую утреннюю вилку, когда муж уезжал на работу и Настя на короткое время оставалась одна.
Явившись, Шумский взахлеб затрещал о важности детских передач, вслух надеясь, что, когда на свет появится маленькая Алина (имя ребенка было выбрано заранее на основании результатов УЗИ), его законная епархия, дирекция детского вещания, станет на канале приоритетной. Уж конечно, хозяин расстарается для своей дочурки…
— У него ведь, кажется, уже есть сын, да? — спросила Настя, прерывая излияния мнимого родственника. — Тогда Игорь Ильич должен радоваться дочке. Но кажется, не так уж он рад…
Захар вынужденно промурлыкал в ответ:
— Нет, что ты… И потом, знаешь ли, с мальчиками так сложно… Девочки — они легче… Нет, он рад, конечно…
— А что с его сыном? — спросила Настя, не давая загнанному в угол противнику ускользнуть от разговора. — Где он?
— Так, болтается где-то, — туманно отозвался Шумский. — Они не поддерживают отношений.
— Почему?
— Дело в том, что Вадим музыкант… Когда пару лет назад Игорь стал раскручивать сына, тот непонятно почему вообразил, будто его загоняют в попсовый капкан… Ему, непризнанному рок-гуру, это было как нож вострый. А потом, знаешь ли, наркотики, тусовка…
— А что же его мать?
— Даже не знаю, где она, — признался Шумский. — Не слышал о ней уже сто лет. Они разошлись лет двадцать назад, Регина потом вышла второй раз замуж, уехала вроде бы в Прибалтику, кажется, умерла.
— От чего?
— Не то неудачные роды, не то… Ой! — запоздало ойкнул Шумский, сообразив, что говорит что-то не то и кому-то не тому.
Настя потемнела лицом. А если и с ней это случится — неудачные роды, смерть…
Нет, не может быть! У нее всегда все было образцово-показательным! И в детском саду, и в школе, и здесь, в Москве… У нее будет образцово-показательный брак, образцово-показательный ребенок, образцово-показательная карьера. Она сумеет прорваться сквозь все невзгоды и трудности, недаром нянюшка в детстве говорила, будто ангел при рождении поцеловал ее в макушку. Благоволение небес, кажется, так это называется…
Настя унеслась мыслью в туманное будущее…
Хватит читать с монитора чужие тексты! Все-таки она журналист, а не дикторша, ей есть что сказать зрителям. Своя авторская программа — вот что ей нужно. Программа, в которой она станет единоличной хозяйкой… Тогда ее карьере будет куда двигаться.
Может быть, ей суждено стать влиятельной фигурой в общественной жизни страны. Она станет говорить властям предержащим о чаяниях народа, а народу напомнит о вечных человеческих ценностях. Многие ведь забыли элементарные вещи — что такое честность, порядочность, что такое не убий, не укради, не возжелай и так далее… Она поведает людям о вечном. С экрана она скажет им, что нужно делать, чтобы остаться людьми, она станет незаметно, исподволь направлять общественную мораль в русло терпимости и всепрощения.
Может быть, со временем она превратится в совесть нации, в ее бессребренического судию… Ведь она никогда не поступала против совести своей, никогда… Кстати, а ведь у нее неплохое политическое чутье! Недавно с ее подачи, например, Земцева выдвинули премьером, неожиданно гладко, с первой попытки проведя через Думу… И это только начало, только отправная точка, многообещающий зачин!
Скорей бы уж родить, что ли…
Две сменные няни с медицинским образованием были отобраны и проверены — они должны были посменно дежурить возле новорожденной, принимая на себя круглосуточную заботу о ребенке и оставляя за матерью лишь общее руководство воспитанием.
Слишком долгим теперь казалось путешествие в тихий и мирный загород, конечно, более здоровый для младенца, но слишком далекий по бесконечности забитых транспортом пригородных шоссе, поэтому семья перебралась на городскую квартиру, рассчитав так, чтобы время Настиных перерывов в работе совпадало с временем кормления новорожденной крошки.
Все было продумано до мелочей, распланировано, расчерчено. Армия докторов, готовясь, притопывала ножкой в предвкушении работы. В студии тоже ждали часа икс. Вместо Насти «эфирили» Ларионова с Ельцовой, но после родов, когда Плотникова вновь приступит к работе, Ларионову собирались уволить вслед за ее покровителем Гагузяном, который недавно перебрался на первый канал. Трое ведущих — это слишком много для их канала. Трое плохих ведущих…
Ларионова, кажется, приняла новость о своем увольнении спокойно. Она уже обивала пороги «метров» и «дециметров», надеясь загодя приискать себе уютное местечко, аналогичное по условиям работы и заработка.
Ах, если б она догадалась заранее забеременеть от начальника, или выйти замуж за многолюбивого Гагузяна, уведя его от жены, или… Увы!
Впрочем, Ирочка беззлобно восприняла свой проигрыш. При встрече они с Настей все так же нежно прикладывались щечками, имитируя поцелуй, интересовались здоровьем, мелко сплетничали, советовались насчет врачей и родов — при этом Ларионова опиралась на опыт подруг, а не на собственный опыт, которого у нее, кстати, не было. Блестя круглыми доверчивыми глазами, она спрашивала у Насти совета насчет работы, жаловалась на Гагузяна, который обещал кое-кому замолвить за нее словечко на первом, но, видно, хочет надуть. Ну и ладно, она как-нибудь сама пробьется, голова на плечах имеется, на телевидении свет клином не сошелся, и если не удастся зацепиться за «Стаканкино», так ведь всегда остается вариант с замужеством, кандидатуры в очередь выстроены, и можно выйти отнюдь не за Гагузяна, хотя за него тоже неплохо, только долго с женой разводить, и муторно, и непонятно, стоит ли стараться…
Незадолго до родов Настя, в поисках чего-то хозяйственного попав в дальнюю запроходную комнату, по своей уединенности и заброшенности предназначенную стать «тещиной», вдруг наткнулась на семейный архив, небрежно складированный в старинном купеческом буфете, трухлявый от небрежения последнего архивариуса,
кажется совсем не интересовавшегося вверенным ему сокровищем. В старых фотоальбомах, на рассыпавшихся картонных страницах — эти люди были одной семьей, одним целым…
Они смеялись, обнявшись на диване, сидели у лесных костров в предвкушении шашлыка, мяли ступнями песок крымских пляжей, выходили из пены морской, обнимались, выглядывали из серой фотографической мути, отдававшей домашней любительщиной, но и семейным уютом тоже отдававшей… И он тоже был на этих снимках — мальчик возле матери, дитя кудрявое с удивленным взглядом, потом — ртутный пятилетний мальчуган в обвислых на заднюшке шортах, потом испуганный, вооруженный пиками сентябрьских гладиолусов школьник, потом вихрастый подросток, потом юноша, полный надежд и вожделений в размытом взоре, потом тот же юноша — но уже со взглядом потухшим, внутрьзрачковым, потом молодой мужчина — тусклый, плохо выбритый, серый, потом — пустота, ничего, белые страницы, пустые пленки, смотанные в неряшливые клубки, фотографический брак. Все.
Часть третья
КРЕМЛЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ
Глава 1
— Да, — расстроенно произнес пожилой мужчина, в котором памятливый читатель может узнать осторожного прожектера, замеченного нами во время совещания с Цыбалиным в загородном доме. — Все это не может не огорчать приличного человека… Элементарной порядочности не дождешься от людей. А ведь Земцев перед своим назначением мне клятвенно обещал…
— Он многим что-то обещал перед своим назначением! — поддержал начальственную ламентацию Сергей Николаевич Баранов, принимая от шефа подписанные документы и бережно укладывая их в папку. — Все дело в том, что Селищев посулил ему три процента отката, а не два, как вы ранее уславливались. Дело только в этом!
— Но три процента — это форменный грабеж! — возмущенно мяукнул Прошкин. — Когда это откат за решения составлял три процента? Если только в грабительские девяностые годы… Ну разве это стабильность? Разве это процветание государства и равноудаленность сторон? А как же честное имя человека? Как же данное им слово?
Баранов осторожно молчал, почтительно склонив голову. На его лице читалась скорбь о грядущем всего человечества.
— Но что меня особенно бесит, — продолжал Прошкин, — так это то, что Цыбалин действует грязными методами. Ну чем его канал был еще полгода назад? И чем он стал с моей подачи? Этот перебежчик набрал за наш счет рейтингов и денег, а когда я прошу его оказать мне услугу, задирает нос, твердя, что не собирается за три копейки разменивать свою лояльность нынешнему премьеру!
— Да, я слышал, что Цыбалин недавно резко повысил рекламные расценки, — неодобрительно покачал головой Баранов. — Бессовестный человек!
— В три раза повысил!.. Страна разваливается на части, а ему хоть бы хны! Ему бы лишь деньги драть… Я предоставляю этому типу сногсшибательный компромат о злоупотреблениях в правительстве Земцева, а он нос воротит! Говорит: мол, сначала согласуйте «вброс» с Администрацией, тогда я дам материал в эфир… А делов-то — подсунуть жене своей страничку во время выпуска, пусть бы прочитала… Рейтинг бы только повысился!
— Насчет его жены… — многозначительно усмехнулся Баранов. — Я бы на вашем месте на нее не рассчитывал… У нее в этом деле свой интерес.
— Какой?
— Ну… Дело в том, что Плотникова уже много лет является официальной наложницей Земцева. Их отношения завязались еще в бытность его губернатором в провинции. Собственно говоря, именно Земцев ее вытащил в столицу, приискал ей женишка… Ну и так далее…
— Благороден, черт возьми! — зашелся счастливым смехом Прошкин. — Пристраивает своих бывших любовниц в хорошие руки!
— А кто говорит, что Плотникова — бывшая? Я, конечно, свечку над ними не держал, но…
На короткое время в просторном кабинете, выходившем окнами в глухой внутренний двор, воцарилась тягучая тишина.
Первым молчание нарушил Баранов. Осторожно кашлянув, он заметил:
— Кстати, мы могли бы с пользой использовать этот факт…
— Как? — отвлекся от раздумий Прошкин.
Баранов поднял затуманенный взгляд к потолку.
— Одним махом ударить и по Цыбалину и по Земцеву! Хотя я не сторонник подобных мер, но… Когда нам не оставляют шансов, приходится рыться в грязном белье…
— Давай-ка подробней, не темни, — потребовал Прошкин, знавший манеру своего помощника подступать к делу издалека, подходить к сути окольными путями, с совершенно неожиданной стороны. Именно за это он ценил Сергея Баранова, платил ему за услуги звонкой монетой, повсюду таскал его за собой — сначала из регионального управления в Москву, из министерства на Старую площадь, потом в логово популярной правительственной партии, откуда соратники планировали прямой наводкой попасть в Кремль, однако их продвижение застопорилось на подходе к Кутафьей башне, так что, не преодолев крутого кремлевского наката, партийцы застыли, готовясь к решительному штурму.
— Если грамотно организовать «утечку», можно ударить одним концом по Цыбалину, другим — по его покровителю Земцеву. Когда нечего искать, ищите «шер-ше ля фамм», как говорится… — Бледный, как земляной червь, Бараненок тускло усмехнулся. — Цыбалин взбесится, если информация о том, что его жена — любовница Земцева, обойдет все массмедиа. Да и Земцеву несладко придется — его имидж крепкого семьянина пошатнется. В Кремле нынче не больно-то привечают ветреников!
— Любовная связь с Плотниковой — это, конечно, любопытно, однако вовсе не криминально, — сожалеюще вздохнул Прошкин. — Мелковато для премьера, я бы сказал.
— Будем копать глубже! — пообещал Бараненок.
— Если есть куда копать, — подмигнув своему верному оруженосцу, улыбнулся Прошкин. Он вздохнул с облегчением, когда преданный Сергей Николаевич заверил его, сияя куцей, обрезанной с одного бока улыбкой:
— Куда копать есть! — А через секунду он добавил: — Ельцова помните из министерства? Ну, муж этой самой, рыженькой… У него целое досье на Плотникову собрано. Думаю, он любезно согласится обнародовать имеющиеся у него материалы на Земцева — ведь это с вашей подачи его супругу взяли на четвертую «кнопку»…
— У нее такая грудь… — вспомнил шеф, затуманившись приятными воспоминаниями.
Сергей Баранов тоже задумался, вспоминая, сколько Ельцов заплатил ему за информацию о связи премьера с конкуренткой своей жены. Он жалел, что сильно продешевил тогда. Ничего, теперь он будет умнее.
В процессе верстки программы неожиданно разгорелся спор. Дело в том, что Настя своей властью вздумала выбросить из эфира сюжет о драке главы думской фракции «За народное просвещение» с лидером конкурирующей фракции «За народное процветание».
— Но ведь все вечерние информационные выпуски покажут этот сюжет! — взмолился Антон Протасов.
— Ну и что! — пожала плечами Настя. — Я считаю эту новость недостойной своей программы. Это не наши методы! Если снять драку ларечников у метро — получится тот же уровень желтизны.
— Отнюдь! Ведь драка-то случилась в Государственной думе! Настя, сама посуди, вечер, скучно, плохие новости — и вдруг такая бомба! Это стопроцентно удачный материал! Народ будет пищать от восторга!
— Я не хочу поощрять дурные наклонности этого, как ты выражаешься, народа, — вспылила ведущая. — А если депутаты устроят грязную публичную оргию, мы тоже обязаны ее показывать?
— Придется! — мелко хихикнул кто-то за спиной.
— Вот это был бы материал! — восхищенно поддержала реплику Гурзова. — Особенно если бы нам достался эксклюзив!..
Понимая, что давить бесполезно, Протасов начал дипломатические переговоры:
— Послушай, в девятичасовой линейке наши новости конкурируют с новостями первой программы… Ларионова обязательно пустит этот сюжет, а мы тем самым потеряем зрителя.
Он знал, что Настю бесила одна только мысль о том, что Ирочка Ларионова, белобрысая крыска, неудачливая интриганка, которую выставили с их передачи, собственно говоря, за профнепригодность, теперь в полном порядке — цветет и пахнет, и не где-нибудь, а на федеральном канале (мечта всей Настиной жизни!), в прайм-таймовых новостях, параллельно с Плотниковой в девятичасовой линейке появляясь в эфире!
О, несправедливость Небес! Почему, скажите на милость, одним людям дается все, а другим — ничего? Почему бездарности процветают на федеральных каналах, тогда как некоторые достойные личности со всеми своими талантами вот уже второй год прозябают на метровике, вещающем лишь на центральный регион, и только безнадежно облизываются, зная, что им не светит ни об-щефедеральность, ни тотальная, на всю страну, до самых глухих медвежьих углов популярность.
А все почему? Потому что власть Настиного супруга ограничена столичными куцыми пределами и не распространяется на всю страну, на ближнее зарубежье, на дальнее русскоязычное иноземье, где по спутнику тоже принимают первый — вовсе не потому, что он лучший, а просто потому, что он — первый…
Настя возмущенно обернулась на Протасова, стараясь придать взгляду гневную выразительность, — она тоже знала, как повлиять на безнадежно влюбленного в нее вот уже второй год шеф-редактора, чтобы тот три дня подряд не спал, мучаясь воспоминаниями.
— Давайте вместо драки поставим сюжет о думской этике, — примирительно предложила Гурзова. — Он у нас уже полгода висит… Это будет прекрасный отыгрыш. Все показывают драку — а мы ее еще и комментируем… А?
Настя сморщилась, как от зубной боли, понимая, что уступить все же придется, ведь Антон прав, безошибочно, интуитивно прав — но это с точки зрения новостей, тогда как с общечеловеческой точки зрения права именно Настя. Увы, две эти диаметрально противоположные точки зрения почти никогда не совпадали…
— Ну, раз вы так уперлись, пожалуйста! — проговорила Плотникова, нежно взмахнув на Протасова ресницами — тот сразу отмягчел под ее ласкающим взглядом. — Но только не первым номером!
— Но на первом драку поставят сразу после анонса! У меня знакомый в их редакции, я с ним созванивался…
— Именно поэтому, Антон!
Протасов и Гурзова одновременно переглянулись.
Черт побери, а ведь Плотникова права! Обыватель, конечно, по привычке включит первый канал, наткнется на самую лакомую новость — драку, после чего быстро соскучится унылой новостной текучкой. Тогда он крикнет жене что-то вроде: «Леля, ты видела этих идиотов в Думе?» — а когда гипотетическая Леля подбежит, чтобы своими глазами полюбоваться побоищем, сюжет уже закончится. Надеясь отыскать драку на других каналах, муж примется беспорядочно щелкать пультом телевизора — и попадет, как мышка в мышеловку, в их новости, чтобы уже до конца выпуска не переключаться, ибо переключаться будет уже не на что.
— Настя, как всегда, права! — искренне восхитилась Гурзова.
— Да, ведь она у нас профессионал.
— Конечно, ведь у нее чутье!
— Она у нас лучшая!
— Гениальнейшая!
Настя досадливо поморщилась от неумеренного восторга коллег.
— Значит, ставим на девять три, — резюмировала она.
— Лучше на девять семь, — тактично возразил Протасов.
— А сюжет о думской этике?
— Сократим до полутора минут, пустим сразу после драки… Должны же мы чем-то отличаться от других каналов!
— Но только чем-нибудь хорошим.
— Мы уже отличаемся, Настенька, кое-чем хорошим…
— Чем же, Антон?
— Гобою, ангел ты наш… И этого вполне достаточно, кстати!
Настя удовлетворенно откинулась на стуле.
Игорь Ильич быстрым шагом вошел в спальню жены. Его лицо выглядело воодушевленным, даже слегка светящимся, словно ему не терпелось обнародовать приятную новость.
Настя сидела перед зеркалом, снимая грим. Ее ночной туалет занимал не менее часа, и никто не — смел ее тревожить во время косметических манипуляций, за исключением Алины, — ведь дочка для нее куда важнее, чем «гусиные лапки» на висках. Кажется, важнее…
— Чья была идея поставить драку на середину выпуска? — спросил Игорь Ильич.
— Моя, а что? — не оборачиваясь, отозвалась Настя, изучая в увеличительное зеркало пожелтевшую кожу на лбу.
— Умница! — неожиданно ласково произнес муж. — Только что звонили из Администрации Президента, сам Гайдуков обеспокоился…
Настя живо обернулась, услышав фамилию президентского помощника.
— Кремль недоволен шумихой, раздутой в прессе вокруг Думы. Считает, что показ драки — это ненужная реклама недостойных личностей и что Дума должна быть эталоном поведения для народа, а если этот эталон сбоит, то массме-диа обязаны должным образом комментировать ситуацию. Комментарий, кстати, прозвучал у нас одних… И он президенту понравился!
— Да, комментарий — это тоже была моя идея! — Настя опять вернулась к зеркалу, отвлекшись на морщинку.
Она знала, что окажется права! Так было всегда, так будет и впредь…
Игорь Ильич осторожно поцеловал супругу в блестящую от крема щеку.
— Спокойной ночи, — проговорил сдержанно, на что Настя равнодушно отозвалась: «Спокойной ночи…», поглядывая на его отражение в зеркале.
Муж секундно помедлил на пороге:
— Как Алина? Лучше?
— Все хорошо… Как только прорезался новый зуб, температура сразу упала, — утомленно произнесла Настя, закрывая банку с кремом.
— Ну и чудесно! — сдерживая зевок, одобрил супруг. — Все-таки я вызову завтра врача, пусть осмотрит девочку.
— Пусть, — согласилась жена.
Аккуратно притворив за собой дверь, Игорь Ильич, шаркая тапочками, отправился в свою спальню. У супругов были отдельные комнаты, и на территории друг друга они появлялись, только когда случалось нечто архиважное. Как, например, сегодня: звонок из Администрации Президента, сногсшибательные международные новости, болезнь дочери или…
Но никаких других «или» до сих пор не было.
Утром, появившись на работе, Настя сразу догадалась: что-то случилось… Ее коллеги ходят как будто мешком пришибленные; выпускающий, редакторы и рядовой персонал приглушенно скользят по комнатам, притушенно-тихо шепчутся или смущенно отводят глаза, избегая встречаться глазами со звездой.
Едва ведущая возникла на пороге редакции — оживленный шепоток мгновенно стих. Кажется, что-то действительно случилось…
Протасов, держа вынужденную улыбку на лице, спросил с показным спокойствием:
— Как дела, Настя? Ну так, вообще…
— Прекрасно, а в чем, собственно, дело?
Осторожно приобняв ее за талию, Антон проговорил:
— Давай прогуляемся в эфирную зону… У нас проблемы с версткой, тебе надо взглянуть…
Но, едва они выбрались из-под обстрела многих, очень многих пытливых глаз, он упреждаюше прошептал:
— Ты только не расстраивайся, ладно?
— Почему я должна… — Настя замолчала, мимоходом ответив на чье-то приветствие.
— Понимаешь, многие тебе завидуют, к тому же политические игры — вещь сложная, запутанная…
— Антон, к чему ты клонишь? — удивилась Настя. — Что стряслось? В стране очередной переворот? Президента свергли, а Земцева кастрировали в назидание потомкам?
Антон насмешливо перекосился одной стороной рта, оценив шутку.
— Если бы… Только все гораздо хуже! — Он оглянулся — они были совершенно одни. — Обешай мне, что не станешь расстраиваться!
— Да говори же, не томи! — воскликнула Настя.
— Ладно… Сегодня ночью «четверка» вывалила компромат на Земцева… — Протасов клещами вытаскивал из себя каждое слово.
Настя вскинула озерной глубины глаза. А при чем тут…
— Там и про тебя кое-что есть… — торопливо добавил Антон, упреждая ее вопрос. — Сказали, например, что Алина — это дочка премьера…
— Какая чушь! — Настя серебристо рассмеялась в ответ. — Они не могли придумать чего-нибудь более оригинального?
— Оригинального… — Протасов смущенно смолк. — Там есть много оригинального, да еще с таким комментарием… Ты только не расстраивайся, люди же не дураки, понимают, что такое политический заказ…
Но это был не просто политический заказ. Это был заказ на политическое убийство Земцева. И она тоже попала в зону уничтожения.
«Вброс» компромата был осуществлен в ночное время, а не в прайм-тайм — это свидетельствовало о том, что тайный недоброжелатель, решивший нанести удар ново-назначенному премьеру, пока только прощупывал почву. Пробный шар — вот как это называлось.
Когда Антон вставил в магнитофон кассету, Настя напряженно застыла у экрана, внутренне сжавшись от дурных предчувствий.
Передача называлась «Для тех, кому не спится», но между собой стаканкинские обыватели называли ее «Для тех, кому неймется». Костяк программы составляли сюжеты с раздумчивым политическим комментарием, околоправительственные слухи и сплетни. Вела программу небезызвестная Милена Ельцова — в свое время Настя опрометчиво настояла на увольнении конкурентки, не столько опасаясь открытого соперничества с рыжей красоткой, сколько считая, что на канале должна быть только одна звезда, то есть она, Настя. К тому же Ельцова явно затмевала Плотникову своим министерским мужем, а ее бьющая в лицо сексуальность, кстати, явно диссонировала с просветительской направленностью канала.
После замужества Плотниковой Милена узнала, что такое, когда тебя постепенно выдавливают с работы, — ее все реже ставили в вечерние новости, на летучках склоняли по всем падежам, а потом вообще перевели на дневной эфир. Красавице это пришлось не по нутру, ее муж надавил на кого нужно, — и роскошное предложение от четвертой «кнопки» не замедлило воспоследовать… Настя лишь завистливо вздыхала, наблюдая за успехами своей давней соперницы, — «четверка» считалась рангом выше их канала, она была обшефедеральной, тогда как Плотниковой приходилось довольствоваться куцыми региональными возможностями Игоря Ильича.
В ночном эфире рыжегривая Ельцова оказалась совершенно на своем месте. Выпячивая накачанные силиконом губы, она ровным, тусклым голосом выдавала ошеломительный по скабрезности компромат — и это производило колдовское впечатление. Хищная красотка словно гипнотизировала зрителя — и своим глубоким вырезом на груди, и своим крупновыпуклым взором, и припухшим, словно накусанным ртом, Сексапилочке прощали всё — явную глупость, циничный намек, непристойный сюжет. У ночной «сплетницы» были прекрасные рейтинги!
Теперь и Настя попала на язычок давней сопернице…
После заставки программы пошел сюжет о визите западного деятеля в Москву, причем утверждалось, что этот деятель, доселе известный своим образцово-трезвым поведением, во время торжественного приема так наклюкался, что чуть было не задохнулся в салате, где спал после встречи с местными бизнесменами, — Антон быстро прокрутил пленку, нажав «стоп», когда вместо потасканной физиономии салатного деятеля вновь возникла хищная улыбка Ельцовой.
«…Недавно назначенный премьер Земцев… — закруглила ведущая гладкую вступительную фразу. — Кажется, у молодого обаятельного чиновника не должно быть проблем ни с карьерой, ни с личной жизнью — у него имеется прелестная жена, двое детей и твердый капитал, рассредоточенный по западным банкам, но…»
В этом месте Милена сожалеюще улыбнулась.
Картинка студии сменилась документальной хроникой: многоголовый митинг бушует у подножия бетонного, промышленного на вид здания, внизу экрана надпись — «1988 год». Мрачно одетые молодые люди с жесткими лицами что-то требовательно кричат в камеру, яростно выбрасывая в воздух сжатые кулаки.
— В то время Земцев, будучи руководителем комсомольской организации института, возглавил борьбу против строительства АЭС… После Чернобыля идея отказа от атомной энергетики была весьма популярна…
Кадр сменился: кудрявый Земцев что-то проповедует толпе, а многоголовое людское море смятенно бушует v его ног.
— Воспользовавшись объявленной Горбачевым гласностью, группа энтузиастов, возглавляемых Земцевым, потребовала рассекретить информацию о строящейся в городе АЭС… И эти сведения были им предоставлены!
Новая картинка: молодой Земцев, окруженный соратниками, склонился над невнятным синим чертежом, тыча карандашом в мутно-фиолетовые разводы.
— Таким образом данные о строительстве АЭС оказались в руках нечистоплотного политика!
Следующая картинка: Земцев разглядывает карту страны, утыканную красными флажками в районах атомных станций.
— В 1994 году Михаил Борисович, будучи губернатором, своей властью останавливает строительство энергоблока. Именно в это время он знакомится с диктором городской студии Анастасией Плотниковой.
Кадр давней съемки: молоденькая Настя поправляет микрофон в губернаторской петличке, а Земцев, молодой и веселый, ласково смеясь, что-то шепчет ей на ушко…
— С тех пор волжская красавица становится морганатической женой Земцева, несмотря на его официально успешный брак с Эллой Песковой.
Кадры с первомайского субботника: Земцев неумело окапывает молодое деревце, а Настя старательно белит его тонкий ствол.
— Вскоре прокуратура возбуждает дело о нецелевом расходовании бюджетных средств… Земцев понимает, что дни его во власти сочтены, и начинает искать путь для исхода на Запад.
Кадры иностранной хроники: Земцев на фоне лондонского Тауэра пожимает руки английским товарищам в темных очках, по виду — явным шпионам.
— Под предлогом телевизионной стажировки он отправляет свою подругу в США. Основной задачей Плотниковой оказывается поиск связей с ЦРУ.
Американские кадры: Настя на фоне сбитого машиной оленя, гладкая английская речь без перевода, искрящиеся глаза, иноязычные титры…
— В Штатах Плотникова намеренно сближается с Виктором Щугаревым, сыном отставного генерала КГБ, рассчитывая, что тот, воспользовавшись международными связями своего отца, сведет ее с американской контрразведкой, которой Анастасия планировала передать сведения государственной важности.
Фотографии Щугарева из личного дела… Снимки, сделанные во время получения Настей продуктовой посылки: неизвестный тип в темных очках вручает девушке подозрительный сверток.
— Таким образом данные о российских АЭС оказываются в руках геополитических врагов России… Щугарев просит убежища в Штатах, Плотникову едва не арестовывают, однако девушке удается скрыть от следствия имя своего тайного покровителя…
Снимки, сделанные во время допросов Насти, сменяются хроникальными кадрами, на которых Земцев энергично пожимает руку седовласому президенту.
— От разразившегося скандала Земцева спасает не кто-нибудь, а сам глава государства, сделавший молодого демократа своим помощником. Громкий международный скандал был замят…
Новые кадры: Земцев играет в теннис с президентом, Земцев намыливает президенту спину в бане, Земцев разливает по стаканам водочку, потно блестя вожделеющим лицом.
— Позже, надежно устроившись во власти, любвеобильный Михаил Борисович вспоминает о своей преданной соратнице. Воспользовавшись своими связями, он пристраивает Плотникову на столичный канал, а когда девушка внепланово беременеет от него, выдает свою старинную протеже замуж за руководителя этого канала, обещая ее супругу свое неувядаемое покровительство.
Кадры' первых московских эфиров Плотниковой… Отрывок из ее интервью с Земцевым, снятым перед свержением старого премьера, — в кадре виден ее выпуклый живот.
— Таким образом Земцев получает выход в СМИ и политический контроль над телевидением. Рожденная Плотниковой девочка Алина — это восьмой внебрачный ребенок нового премьера, славного в политических кругах своей неиссякаемой плодовитостью…
Снимки Насти с дочерью, сделанные для одного из таблоидов: счастливая мать обнимает крошечное дитя. Увеличенное до расплывчатости черт лицо девочки, на котором досужий зритель может различить черты ее предполагаемого отца.
— Прислуга в доме также подтверждает контакты своей хозяйки с новоназначенным премьером — Михаил Борисович частенько гостит в хлебосольном доме Плотниковой и ее формального мужа.
Крупный план Шумского. «Да у Насти с Земцевым прекрасные отношения, — произносит ее формальный дядюшка, многозначительно подхихикивая, — еще с давних, давних пор»…
— Отцовство Земцева подтверждает и тот факт, что господин Цыбалин, супруг Плотниковой, широко известен в узких кругах своей нетрадиционной ориентацией… Некоторые источники утверждают, что его машину часто видят у памятника героям Плевны. Итак, в данном случае речь идет о банальном фиктивном браке…
Намекающие кадры: Цыбалин на новогодней корпоративной пирушке, пляски известного трансвестита, приглашенного для развлечения скучающей публики, ни одного по-женски яркого пятна — вокруг только строгие темные костюмы, лысины, цветные галстуки…
— Кстати, сын Игоря Цыбалина от первого брака, известный рок-певец Вадим Бесов, недавно задержан правоохранительными органами за распространение наркотиков…
Любительская съемка: Вадим с гитарой наперевес стоит на сцене, у его ног бесууется толпа разгоряченных фанатов. Перекошенное песенным воплем лицо, растрепанные волосы…
Опять на экране появляется крупный план бесстрастной Ельцовой. Милена произносит, глядя прямо в глаза зрителю своим гипнотическим взглядом:
— Возникает закономерный вопрос: что станет со страной, доверенной в управление американскому наймиту, беспринципному типу, за тридцать сребреников, за влияние в СМИ продавшему любящую его женщину в руки медиамагната, широко известного в узких кругах… Что будет со всеми нами?
Многозначительная пауза. Рыжая грива гаснет одновременно с финальными титрами…
Экран заволакивает ровная синева.
— Ты должна была это увидеть, — убитым голосом произносит Антон. — Ты должна знать, что о тебе говорят…
— Я знаю, кто это сделал, — произносит Настя, ненавистно сжав губы в узкую полоску. — Я его убью!
— Кого ты имеешь в виду? — удивляется Протасов.
— Это Бараненок! — заявляет Плотникова, поднимаясь. — Это он!
Она сама не понимает причин своей стопроцентной уверенности, но внутренний голос твердит ей, что в скандале замешан ее друг детства. А иначе откуда авторы фильма проведали о той давнишней американской истории, о конкурсе, обо всем…
— Кто это такой? — не понимает Протасов.
В сумочке настырно звенит телефон.
— Поднимись ко мне, — хмуро приказывает голос Игоря Ильича.
Кажется, он тоже все знает… Настя на чужих ногах идет к двери.
— Ангел мой, ты совершенно ни в чем не виновата, — вдогонку лепечет Антон.
Нет, она виновата во всем.
«В наше циничное время очень трудно сберечь доброе имя человека, — скажет она потом в своей авторской программе. — Наверное, потому оно приобретает сейчас исключительную ценность. Героиня нашей следующей истории считала, что ее прошлое осталось далеко позади, однако расплата настигла ее… Никогда не делайте того, за что впоследствии может быть стыдно, — ведь в один далеко не прекрасный миг прошлое сможет безжалостно разрушить вашу жизнь!»
Вот и Настину жизнь прошлое тоже едва не разрушило.
Глава 2
Игорь Ильич сидит у стола, перед ним — полная пепельница окурков. Сколько раз она говорила, чтобы он не смел курить в ее присутствии, но все без толку…
— Садись, — произносит Цыбалин таким тоном, как будто он не муж звезды, а ее пристрастный начальник.
Настя робко опускается на краешек стула.
— Я видела фильм! — заявляет она. — Если ты хочешь говорить об этом… Только Алина — не ребенок Земцева, я тебе клянусь!
— Я знаю, — отвечает он небрежно. — Я все знаю!
— Нет, — в запале возмущения перебивает его Настя. — Ты ничего не знаешь. Алина вовсе не чужая тебе, она не твоя дочь, а…
Набрав полную грудь воздуха, она отваживается на признание.
— Да, мне известно, — тускло отзывается ее муж и начальник, — что она моя внучка. Но речь сейчас не об этом…
Насте кажется, что она ослышалась. Может быть, разум подвел ее, вместо ясной картинки подставив морок полночного сна, воплощение температурного бреда?
— Я хотел поговорить о другом… Мне звонили из Администрации. Через месяц назначена встреча президента со зрителями в прямом эфире. И вести ее предложено тебе…
Настя ошеломленно молчит, не веря собственным ушам.
— Да… Это здорово, я не ожидала… Спасибо, конечно, — лепечет она заплетающимся от волнения языком. — Это такая честь для меня…
— Благодари не меня, а Земцева… — мрачно отворачивается муж, раскуривая новую сигарету.
А потом, сделав долгую затяжку, бросает окурок в пепельницу.
— Уйди, — просит, — мне нужно работать…
Она притворяет за собой дверь, еще не до конца поверив в случившееся. Компромат, обвинения в любовной связи с премьером, сногсшибательное предложение от Администрации, но главное — он все знает… Все!
Весь день Настя мучается догадками и сомнениями. Откуда Игорю Ильичу известен отец ребенка? Кто ему рассказал? Неужели же Вадим?
Кстати, сведения о Бесове, распространяемые рок-изданиями, обрывочны и противоречивы: одна газета утверждает, что он сейчас в Гоа, осваивает премудрости реинкарнации, другая же уверяет, что музыкант после смерти превратился в городской миф, ирреальное существо, бесследно сгинувшее на дне большого города.
Да и кто мог открыть ему правду, когда никто, кроме нее, всей правды не знает? И почему же за целых два года совместной жизни Игорь Ильич (Настя уважительно именовала своего мужа по имени-отчеству) и словом не обмолвился о том, что ему известен настоящий отец Алины. Кстати, он всегда утверждал, что это их совместный ребенок…
И всегда-то он над девочкой квохчет хуже курицы, и утром первым, быстрее няни, подходит к ее кроватке, кормит завтраком, — даже несмотря на то, что шофер безмолвно скрипит зубами, часами дожидаясь шефа, и на студии рвут и мечут в ожидании начальника. Наплевав на срочные дела, он ведет дочку гулять, меняет ей памперсы, лично беседует с врачом о здоровье девочки — лучшего отца еще поискать, никто никогда не догадался бы, что Игорь Ильич вовсе не родной отец ребенка…
Дед — да, но отнюдь не отец.
Кстати, Алина похожа на него — это все признают. Тот же островатый нос, низко зависший над верхней губой, выпуклые скулы, миндалевидная форма глаз, бровки, широко расплывшиеся к вискам. На семейных снимках их семья выглядит совершенно счастливой, почти такой же счастливой, как та, другая семья на старых фото, которые она отыскала в буфете.
Поглядеть только, как Игорь Ильич подкидывает девочку в воздух, а та счастливо смеется от захватывающего ощущения полета, восторженно лепечет свои бессвязные «мыу-а», заливается смехом. Названый отец счастлив: «Милая моя клюковка, — бормочет нежно, — доченька, солнышко…» Противно даже смотреть, когда мужчина так сюсюкает, совсем по-женски, даже хочется вырвать у него ребенка, чтобы немедленно отправить его гулять с няней, потому что свежий воздух куда полезней этих полетов под потолок, чреватых перевозбуждением и истерикой, чреватых падением и чрезмерной разбалован-ностью.
Поэтому Настя забирает Алину из рук Игоря Ильича, сурово заметив:
— Не нужно. Достаточно. Хватит.
Алина куксит лицо — ей хочется еще, Игорь Ильич на глазах пасмурнеет. Настя поучительно произносит, адресуясь к мужу:
— Я прошу разговаривать с девочкой нормальным человеческим языком, не коверкая слова. Ребенок сейчас начинает говорить, он должен слышать абсолютно правильную речь.
После отповеди лицо няни, которая доселе умильно любовалась невинной отцовской забавой, принимает испуганное выражение.
— Лена, примите девочку, — приказывает Настя. — Ребенку, кажется, пора спать…
Под дикий рев няня с Алиной наперевес выходит из комнаты. Разбалованная девочка сучит ногами, огорченная прекращением игры. Игорь Ильич просит дочку на прощание помахать папе ручкой.
«Какой еще папа!» Настя хочет возмутиться, но благоразумие вяжет ей язык. Она должна молчать — во благо Алины она вечно должна молчать… Это нестерпимо!
— Нельзя баловать ребенка, — заносчивым, ищущим скандала голосом произносит она. — Меня, например, никогда не баловали дома… Я не допущу, чтобы моя дочь выросла в тепличной атмосфере!
Игорь Ильич устало опускается в кресло.
— Не забывай, что она и моя дочь, — произносит он ровным, безынтонационным голосом. — Ровно настолько же она моя, насколько и твоя. И даже чуть больше.
— Чушь! — смеется Настя, нарываясь на неприятности, напрашиваясь на выяснение отношений. — И ты это прекрасно знаешь!
В злости она забывает, что должна сдерживаться, — так ее раздражает близость между Алиной и мужем, противоестественная, искусственная близость, которая чем дальше, тем сильнее возмущает ее. Ведь по идее он ничего не должен чувствовать к этому ребенку, ведь это же чужое для него дитя, ведь если бы он знал, что это дочка его сына, то есть его внучка, подобное проявление чувств было бы вполне естественным и даже желанным, но ведь он же ничего не знает… Не может знать!
Наверное, именно его незнание так угнетает Настю.
— По крайней мере, в том, что Алина родилась на свет, есть и моя заслуга, — внезапно объявляет Игорь Ильич.
Настя смеется нарочито звонким смехом:
— Почему ты так думаешь? — Ее искусственный смех подчеркивает мужнину неправоту.
— Если бы не я — девочка не родилась бы.
«Знает!» — кратковременно екает сердце Насти. Он знает, кто настоящий отец ее дочери… Он все знает…
— Ты бы сделала аборт.
То, что муж абсолютно прав, особенно сильно возмущает Настю, просто бесит!
— Ничего подобного! — заявляет она надменно. — Даже в мыслях не было!
— А запись в медицинской карте?
Настя запоздало вспоминает, что во время бесконечных предродовых хождений по врачам он читал ее медицинские документы. Так вот что дало ему повод заявлять об аборте… Но ведь на самом деле она не хотела избавляться от ребенка! Просто обстоятельства были таковы, что…
— На самом деле я не хотела избавиться от ребенка, — гневно бледнеет Настя. — И как бы то ни было, это моя дочь, только моя, и ничья больше! Я ее выносила, я ее родила, я ее ращу! И ничья больше, слышишь! Ничья!
На это Игорь Ильич произносит, садистски растягивая слова:
— С таким же успехом инкубатор на птицефабрике можно назвать матерью вылупившегося цыпленка… И с таким же правом!
И тогда она с размаха бьет его по щеке. Даже не успев понять, что делает.
Он умело перехватывает занесенную в воздухе руку — как будто ждал удара, готовился к нему. Настя подруб-ленно валится в кресло.
— Не делай того, о чем потом пожалеешь… — сурово произносит Игорь Ильич, отпуская руку жены.
Настя молча глотает выступившие слезы. Сдерживается через силу. Примирительно произносит:
— Я только хотела, чтобы ты перестал сюсюкать с Алиной… Все-таки это вредно, — произносит она, обреченно сознавая, что полностью зависит от этого среброволосого человека с холодным лицом, он ее начальник, между прочим, дед ее ребенка и, кроме всего прочего, ее официальный муж.
— Свою дочь я буду воспитывать по собственному разумению, — заявляет Игорь Ильич, а Настя благоразумно молчит, покорно поникнув головой.
Она полностью в его власти. Он сможет сделать с ней все, что угодно, — ведь он могущественный человек, ее начальник, ее муж. Но может быть, когда она встанет на ноги, окрепнет, ей удастся освободиться от его тотальной стреноживающей власти? Когда-нибудь… Хоть когда-нибудь!
Улыбнувшись сквозь слезы, Настя склоненно касается губами его седого виска.
— Прости меня, — шепчет, — я сама не знаю, что делаю. Я так нервничаю в последнее время…
— Ничего, — с достоинством отвечает Игорь Ильич, отворачиваясь.
А Настя, глядя на редко окропленный волосами затылок, обещает себе: «Когда-нибудь, уже скоро… Когда Алина немного подрастет…»
И в то же время беспомощно чувствует — никогда.
Утреннее молчание между супругами — тяжелое, как булыжник. Угнетающее, пудовое молчание. Нарушив его, Игорь Ильич произносит, глядя мимо жены в распахнутое окно:
— В среду тебя вызывают на Старую площадь. Это по поводу президентского эфира.
Но Настя не ощущает при этом никакого особенного счастья. А ведь вызов в Администрацию Президента — это очередная вершина ее карьеры. И то, что в Кремль не приглашают смазливых дурочек с федеральных каналов, а зовут именно ее, — этот факт сам по себе значит очень, очень много!
Но это значит ничтожно мало, если внутри тебя вместо живописного рельефа души простирается мрачная, выжженная ненавистью пустыня. Холод. Тоска. Боль.
Откуда он узнал?
Кремль — это и тот краснокирпичный замок, который показывают восторженным экскурсантам, и множество служб, разбросанных по Москве, и Старая площадь, где Настя появилась за полчаса до назначенного времени, взволнованно покусывая губы. Кремль — это вышколенная предупредительность охраны, бюро пропусков, затхлый советский запах, пропитавший евроремонтные стены, мягкие ковры приемной, неудобные кресла для посетителей, снисходительность президентского помощника, обходительность его же…
Гайдуков заученно объясняет Насте, отделываясь обобщенным неличностным «мы»:
— Мы бы хотели… Нам желательно… Мы надеемся, что…
Подразумевая под местоимением «мы» не столько весь государственный аппарат, сколько конкретного человека с определенными чертами лица и определенными повадками.
Гайдуков говорит, что недаром из массы кандидаток выбрали именно Плотникову — на нее возлагают особые надежды. Что обстановка в стране сейчас такова, что народ надо успокоить. Что лучшей кандидатуры не нашлось, потому что всем известны экранная доброжелательность Насти и ее сердечность — эти качества должны выгодно оттенять мужественность главы государства и его отческую власть. Что проработанные вопросы ей передадут для ознакомления, но президент любит импровизировать, чему надо по возможности способствовать и что надо по необходимости оттенять. Что люди, которые будут задавать вопросы, уже отобраны и проинструктированы должным образом, но все же они не профессионалы, поэтому Настя должна предвидеть возможные сбои и мягко микшировать их доброй шуткой, умелым комментарием.
Настя согласно кивает, а в конце визита интересуется невзначай:
— Скажите, а почему вы выбрали именно меня?
Гайдуков осторожно скалит свои ровно-белые, только что от лучшего протезиста зубы:
— А разве вам муж ничего не говорил?
— Нет. — Девушка хмурится при упоминании об Игоре Ильиче.
— Тогда вам лучше спросить у него, — намекающе улыбается президентский помощник.
После недавнего скандала, когда дело чуть было не дошло до драки, Настя вообще боится разговаривать с мужем. Она явно избегает его, предпочитая худой мир доброй ссоре.
Вы думаете, недавний семейный скандал сколько-нибудь повлиял на него и он перестал хотя бы идиотически сюсюкать с ребенком? Ничуть не бывало! Как будто бы она не просила изменить его дурацкую манеру общения с дочерью, как будто не объясняла ему всю пагубность подобного поведения! Как будто она вообще ничего не говорила ему! Как будто она не имела права что-либо требовать от него!
Игорь Ильич поступает назло ей. Посмотреть только, как он вытягивает девочку из кроватки, когда она еще не совсем проснулась, как перед завтраком сует ей в рот конфету, как, не стесняясь жены, принимается за свои глупые игры и ребяческие смешки! Он балует ребенка совершенно невыносимо, так что, когда Настя хочет взять дочь на руки, девочка обиженно морщит лицо и вырывается от нее к отцу. Тянет к нему ладошки.
Попав в его объятия, она заливисто смеется, отворачивая от матери улыбчивое личико. Но, едва Настя возвращает себе ребенка, чтобы покормить завтраком, Алина оскорбленно сучит ногами, неожиданно сильно извиваясь в руках. Только когда Игорь Ильич уходит, она вынужденно смиряется с материной властью. Но когда отца нет поблизости, дочка из капризного маленького чудовища мигом превращается в идеальное дитя. Послушно ложится в кроватку, засыпает сразу, без укачивания, без многочасовых песенок осипшим голосом…
Алина вообще чудесный ребенок, когда его нет. Вот если бы его не было совсем!
Вопрос, почему для эфира с президентом выбрали именно ее, зудит, царапая Насте внутренности. Тогда она решается узнать ответ на него у Шумского. Он знает все и про всех. Только захочет ли сказать правду…
В кабинете ее названого дядюшки, как всегда, царит легкий кавардак, — бронированный сейф открыт нараспашку (зачем дирекции детского вещания нужен бронированный сейф, непонятно), кассеты без наклеек свалены на дне глубокого ящика. Настя посматривает в утробу сейфа, с трудом удерживаясь от вопроса. А Шумский, торопливо прикрыв дверцу, вдруг начинает извиняться — по поводу своей фразы, прозвучавшей в программе Ельцовой.
— Я не имел в виду ничего такого, — уверяет он. — Меня спросили, что я думаю насчет твоего интервью с Земцевым — того, самого первого, еще до его премьерства, а я сказал, что интервью получилось прекрасным, потому что у тебя с ним прекрасные отношения. Но клянусь, ничего такого я не имел в виду! Они просто вырезали конец фразы и состыковали ее так, что мои слова приобрели совершенно иной смысл. Прости, милая, но я ни в чем не виноват…
Настя делает вид, что верит ему. На самом деле ее интересует совсем другое.
— Дядя Захар, — произносит она с родственной лаской, — как ты думаешь, почему вести президентский эфир пригласили именно меня? Обычно в таких случаях Администрация приглашает кадры с федеральных каналов.
Шумский тревожно бегает глазами в поисках ответа.
— Потому что ты лучшая! — с унтер-офицерской честностью заявляет он, простодушно просияв лицом.
Однако Насте нужны не льстивые комплименты, а информация, достоверная информация. Старому сплетнику, поднаторевшему в подковерных играх, в тайных ходах и явной дружбе, наверняка все известно!
— Скорее всего, муж, — с легкомысленным смешком произносит Настя, — хотел сделать мне приятный сюрприз ко второй годовщине свадьбы… Ведь так?
— Что-то вроде того, — соглашается дядя Захар. — Тем более еще до назначения Земцева было решено, что Администрация в качестве платы за свержение премьера окажет Цыбалину определенные услуги. Вот и рассчитались, чем смогли…
— Понятно, — раздумчиво тянет Настя.
Значит, ее пригласили вести эфир вовсе не потому, что она лучшая. Значит, за ее успех было заплачено звонкой
монетой — но монетой не реальной, а телевизионной. По сути — той же самой «джинсой».
Ничего, она сумеет воспользоваться выпавшим шансом!
…Все же интересно, зачем Шумскому сейф с кассетами? Что там — детские передачи сугубой важности, ценные записи, которые как зеницу ока берегут от злобных конкурентов?
Странно, эти кассеты в сейфе… А ведь Настя однажды наблюдала, как ее муж передавал Шумскому одну такую кассету, на что тот бессловно подмигнул в ответ, пряча черный прямоугольник в портфель… С чего бы им скрытничать?
Странно, очень странно…
Несколько дней Настя проводит в тягостном раздумье, не зная, на что решиться. Все это невыносимо. Да, невыносимо! В прессе Плотникову уже в открытую называют любовницей премьера — а ее мужу хоть бы хны! Он ни словом не обмолвился в ее защиту. Ни словом!
Нет, обмолвился…
Вечером, когда она готовилась ко сну, муж тактично постучал в дверь ее спальни.
— Ты не спишь? — спросил, приоткрыв створку.
— Еще нет, — проговорила она, торопливо запахнув на груди халат.
Он положил перед ней распечатки рейтингов по столице и среднесуточной доли аудитории. Неожиданно их канал вышел на третье место.
— Видишь? — спросил Игорь Ильич, зримо ликуя.
— Очень рада, — холодно ответствовала Настя.
— Сама того не ведая, Ельцова оказала нам гигантскую услугу… — заметил он, мелко посмеиваясь. — Если бы этого скандала не было, его стоило бы выдумать.
Настя резко обернулась, ожидая прочитать на лице мужа оскорбленное супружеское чувство, озабоченность, тревогу или что-то в этом роде… Но ничего подобного не было.
Через пару недель рейтинги неумолимо поползли вниз — народный интерес, вызванный связью телезвезды и премьера, постепенно сошел на нет.
— Я так и думала, — пожала плечами Настя, когда муж пригласил ее в свой кабинет для делового разговора. — Поболтают и забудут. Эти моськи могут сколько угодно тявкать на слона!
— Мы не слоны, — возразил Игорь Ильич. — Ты должна понимать, если рейтинг упадет — нам придется снизить расценки на рекламу.
Но Настю не волновало грядущее снижение расценок, на ее личном благосостоянии доходы канала почти не отражались: ее долларовая зарплата, твердо зафиксированная в контракте, ежемесячно капала на банковский счет, почти не расходуясь, — разве что на подарки Алине да на скупые супружеские подношения к дням рождения, сделанные более из приличия, чем из желания порадовать драгоценную половину.
— Конечно, — раздраженно заметил Игорь Ильич. — Ты отчитала текст — и пошла себе домой, у тебя голова ни о чем не болит. Но если бы ты знала, во сколько мне обходится ведущая Плотникова…
— Во сколько же вам обходится плохая ведущая Плотникова? — прищурилась Настя, вспомнив давнюю ресторанную беседу.
Муж промолчал.
— Нам надо удержать рейтинг, — произнес он, закруглив паузу.
— Каким образом? — пожала плечами Настя. — Кардинально изменить манеру подачи материала? Но зритель уже привык к имиджу программы, так что, погнавшись за журавлем, можно упустить банальную синицу. Что еще… Развивать корреспондентскую сеть? Дорого, дешевле покупать материалы у других каналов…
— Есть более простые способы… — деловито заметил Игорь Ильич.
— Какие?
— Пиар, — ответил он.
— Что ты под этим подразумеваешь? — поморщилась Настя. — Грязное белье? Статьи в газетах о том, что Плотникова на вечеринке подралась со своей соперницей Ларионовой? Или подложила Ельцовой шпильку в туфлю? Выплеснула стакан сока в лицо? Смешно и глупо!
— Нет, зачем же… — рассудительно произнес Цыба-лин. — Все это, конечно, ерунда… Но вот если ты вдруг появишься с Земцевым на официальном приеме, то это подстегнет интерес к вашим отношениям и, соответственно, к нашим «Новостям»…
Настя побледнела как мел.
— У меня с Земцевым никогда ничего не было! — отчеканила она, задыхаясь. — Слышишь! Никогда! Ничего! Не было!
— Какая разница… Было, не было… Главное, сколько этот слух принесет денег каналу.
Настя сжала, челюсти так, что скрипнули зубы.
— Может быть, мне вообще с ним переспать для повышения рейтинга? — взяв себя в руки, проговорила она спокойно и даже насмешливо. — В прямом эфире, в реал-тайме?
Муж молчал. Кажется, ради рейтинга он был готов продать свою жену, мать своего ребенка. Хотя Алина, конечно, не его ребенок, а она ему не жена — потому. что…
— Что ж, — заметила Настя спокойно. — Возможно, в вашем предложении, Игорь Ильич, есть некое рациональное зерно. Только, я думаю, нам лучше какое-то время пожить отдельно. Не могу же я грешить с Земцевым на глазах у собственного мужа!
— Да, конечно, иначе в этой ситуации я буду выглядеть дураком, — согласился он. — Только у меня одно условие — Алина останется со мной. — В его голосе звучала жесткая, даже жестокая сила, с которой невозможно было спорить. — Я не допущу, чтобы моя дочь оказалась замешанной в скандале!
Ночью Настя измыслила виртуозный ход, призванный показать всему миру, что она совершенно ни от кого не зависит. Дабы, наконец, прекратились дурацкие слухи о ее связи с премьером, она выступит в «Новостях» с осуждением пенсионной политики Земцева. Тогда недоброжелатели заткнутся, поняв, что сплетни о них высосаны из пальца. Конечно, жалко ни за что ни про что пинать бедного Михаила Борисовича, однако, если при встрече Настя объяснит Земцеву, что позиция честного журналиста для нее дороже, чем старая дружба, премьер, старый поборник демократии, конечно, поймет ее и простит.
Как раз в эфир должен был выйти материал об очередной непопулярной реформе — повышении пенсионного возраста. Протасов уже набросал приличествующую случаю подводку к сюжету — мол, количество пенсионеров в стране растет угрожающими темпами, мера эта печальная, но вынужденная, так что, граждане, готовьтесь…
— Не годится! — заметила Настя, пробежав глазами текст. — Надо так: наше новое правительство заражено тем же вирусом, что и правительство старое, — искренней нелюбовью к своим гражданам. На Земцева люди возлагали надежды на улучшение жизни, а вместо этого премьер собирается отнять у них честно заработанные пенсии…
— Ты что, Настя! — в ужасе всплеснула руками Гурзова.
— Ангел мой, — бледнея, произнес Протасов, — нам всем головы оторвут, и тебе — первой! Что с тобой стряслось, а?
— Ничего особенного, — безмятежно улыбнулась ведущая. — Просто мне кажется, что вредно все время премьера По шерстке гладить…
— А Игорь Ильич знает о твоей инициативе? — с сомнением проговорил Протасов. — О том, что ты собираешься гладить премьера против шерстки?
Настя рассмеялась:
— Нет, Игорь Ильич ничего не знает… Ты не переживай, Антон, всю ответственность я беру на себя. До начала выпуска мы оставим твою подводку, так что, когда Игорь Ильич станет визировать верстку, он ничего не заметит. А потом… потом валите все на меня! — Она задорно махнула рукой.
— Настя, ты… — прочувствованно всхлипнула Гурзова.
Протасов неодобрительно покачал головой:
— Ты слишком много на себя берешь, это опасно.
— Должен же на себя кто-то брать! — улыбнулась девушка. — Если все время поддакивать правительству, в нашей стране скоро не останется пенсионеров. У меня родители, кстати, подпадают под реформу, так что у меня в этом деле имеется личный интерес… Я рискну.
В ее благие намерения поверили. Она сама в них верила.
Вечером Настя, сияя озерным светом пронзительных глаз, произнесла свой обличительный текст перед камерой. Верстку она исправила в последний момент, минут за десять до начала выпуска.
После эфира разгневанный Цыбалин объявил летучку.
— Что ты себе позволяешь, Плотникова! — возмутился он, в присутствии подчиненных впервые повысив голос на жену.
— У меня, Игорь Ильич, есть собственная позиция по вопросу о пенсионной реформе! — дерзко заявила Настя.
— Засунь свою позицию знаешь куда! — взбеленился шеф. — Мне уже звонил Земцев, спрашивал, как понимать этот выпад… Что я должен был ему сказать? Что я ни о чем не знал?.. Протасов, кто исправил текст в верстке? Вы?
— Нет, это сделала сама Анастасия Андреевна, — смущенно признался Антон.
— Протасов, я уверен, что вы знали об этом! Почему не доложили?
— Но Анастасия Андреевна сказала, что… — На Антона было жалко смотреть. — Что текст согласован с вами и…
— Да, я соврала! — с вызовом произнесла Настя. — Новости у нас авторские, и автор, между прочим, — это я. И, как автор, я имею право на собственную точку зрения!
— Ты автор? — возмущенно развернулся к ней Цыба-лин. — Прости, но ты лишь смазливая кукла, читающая с монитора! Даже тот текст, что ты исправила, и тот изобилует чудовищными речевыми ошибками. Если бы на тебя, милая, не вкалывали двести человек, никакой телезвезды Плотниковой не было бы! И своей отсебятиной ты подвела не только меня — ты подвела весь коллектив!
Настя медленно поднялась со стула.
— Если бы не было телезвезды Плотниковой и скандалов, связанных с ней, вы бы, Игорь Ильич, не объявляли тройные расценки на рекламу! И эти двести человек не получали бы свою немалую зарплату!
— Ага, тарифы повысили, а зарплату? — тихо возмутился кто-то из рядового персонала.
Настя стремительно вышла из комнаты, хлопнув дверью.
Глава 3
Вечером они столкнулись на кухне. «Холодная война» разгоралась.
— Нам надо разойтись, — заявила Настя, мрачно глядя на мужа.
— Иди, — ответил он устало. — Я тебя не держу! Но Алина останется со мной.
— Алина — моя дочь! Ты не имеешь на нее прав!
— Посмотрим, — спокойно заметил он, — кто кого… В принципе это я подарил девочке жизнь, если что, мне и отнять ее будет нетрудно. Она — мой последний шанс на земное, телесное воплощение. А ты еще молодая, ты еще можешь нарожать себе кучу детей…
Настя ненавистно сцепила губы. Конечно, она не собиралась вот так, с бухты-барахты срываться посреди ночи. Сначала надо подготовить надежную почву, запасной аэродром.
Поэтому она потянулась по-кошачьи, как будто не было никакого разговора между ними.
— Я пойду спать, — проговорила сонным голосом.
И сладко, по-детски зевнула во весь рот.
Ничего, без работы она не останется, ведь у нее столько телевизионных идей, что любой канал обеими руками вцепится в нее, — это и детские новости, и экстрим-шоу, а потом, еще одна программа, «Мысли и чувства»… Идея этой передачи пришла ей в голову совсем недавно — в ней речь пойдет о простых человеческих судьбах, разум будет противопоставлен чувствам, коллизии судьбы — сухой повседневной рациональности. Каждая передача будет строиться вокруг одного жизненного сюжета и сопровождаться авторским, глубоко психологическим комментарием — вот, например, некая женщина убила своего мужа, которого пылко любила всю жизнь… А почему? Потому что тот испытывал тайное влечение к ее дочери от первого брака, и жена случайно дозналась об этом… Греческая трагедия на местной почве, шекспировские страсти, возвышенные герои, поучительный финал… Главное — это будет программа, в которой она будет полновластной хозяйкой. Она станет самолично отбирать сюжеты и по своему вкусу писать текст. В ее программе прозвучит проповедь добра и справедливости…
По дороге в «Пушкинский», где должно было состояться вручение ежегодной телепремии, Настя бегло просматривала газеты, выискивая в них свое имя. Она хотела найти заметку, развенчивавшую ее связь с Земцевым: что-то в таком духе, мол, слухи о романе премьера и телезвезды оказались ложными, что видно из непримиримой позиции, которую занимает Плотникова по вопросам пенсионной реформы, как принципиальный журналист и честный человек…
В итоге ей удалось отыскать одно-единственное упоминание о себе: «Реформа правительства выглядит настолько глупой и непродуманной, что даже старинная любовница Земцева открыто критикует своего покровителя». И все, точка!
— Идиоты, — сердито выругалась Настя, отшвырнув газету. — Этим писакам надо делать лоботомию по медицинским показаниям…
Машина медленно тащилась к кинотеатру, паралитич-но дергаясь в пробке. Церемония, слизанная с заокеанского «Оскара», предусматривала проход звезд по ковровой дорожке, овации толпы, вспышки фоторепортеров и прочие прелести всенародного обожания.
Едва Настя появилась из наемного лимузина (вышколенный шофер предупредительно распахнул дверцу), как к ней подлетели какие-то сумасшедшие девицы с автографами.
— Плотникова! — завизжали они. — Анастасия!
— Это она! — пронеслось по толпе. — Плотникова! Она идет! Красивая какая… Как ангел!
Отделавшись от поклонниц, Настя проскользнула к дверям, рассылая в воздух ослепительные улыбки.
Фойе бурлило телевизионным и около того народом, взрывалось приветственными возгласами, прошивалось навылет свирепыми взглядами соперников. В сущности, Настя ничего особенного не ждала от сегодняшней церемонии, она знала, что звание лучшей ведущей достанется молоденькой Пурбель, которую старательно раскручивает второй канал, но посетить тусовку ей было полезно: где еще можно встретить столько телевизионного народа, поговорить, обменяться телефонами — глядишь, и предложение о работе воспоследует, хорошо бы на федеральную вторую кнопку вместо этой глупышки Пурбель, пластмассовой куклы с оловянным взглядом.
Она скользила в толпе, оглядываясь в поисках нужных людей, — и внезапно нос к носу столкнулась с Земцевым! После вчерашнего эфира Настя предпочла бы не встречаться с ним…
— А, Анастасия Андреевна! — улыбчиво расплылся премьер, протягивая руку (вокруг бурно защелкали фотоаппараты). — Здорово ты вчера по мне проехалась… Я уже решил, что ваш канал меня разлюбил!
— Скорее это я вас разлюбила, Михаил Борисович, — вынужденно улыбнулась Настя, щурясь от ярких вспышек.
— С чего это вдруг, ангел мой? За что такая немилость?
— Из-за бедных пенсионеров, которых вы лишаете куска хлеба! — заявила Настя, нарочно стараясь говорить громко и отчетливо.
— Это не я лично, — рассмеялся Земцев, оправдываясь, — это государство в моем лице…
— Ну, тогда это не я вас ругала в эфире, в моем лице вас бранила независимая пресса, — ответно рассмеялась девушка, увертываясь от целящих в нее объективов.
Встреча с Земцевым спутала ей все карты. Теперь светские хроникеры не преминут заявить, что милые бранятся — только тешатся, а критика премьера, звучавшая вчера в программе Плотниковой, — это лишь небольшая любовная размолвка, вынесенная на авансцену теленовостей!
Итак, планы были разрушены, и Насте оставалось лишь извлечь выгоду из своего неприятного положения. Поэтому, когда Земцев, все так же радостно улыбаясь, спросил: «Как поживаешь?» — она, понизив голос, ответила с серьезной честностью:
— Плохо, Миша…
Я хочу уйти от мужа, а он грозится забрать у меня дочь… Если я уйду, то останусь без всего — без работы и без Алины. Голая и босая!
Она чуть не расплакалась. Земцев ласково тронул ее руку.
— Ладно, не грусти, Настя, все образуется… Скоро встретимся в президентском эфире. Может, я что-нибудь придумаю к тому времени…
Но, судя по своему холеному виду, вальяжный Земцев отнюдь не собирался ради своей приятельницы бросаться на амбразуру…
Они разбежались в разные стороны, сияя заученными улыбками.
Настина улыбка была еще и вымученной — слова премьера давали ей надежду, но надежду жидкую, призрачную, ненадежную…
В зале Плотникова заняла место ближе к выходу, чтобы иметь возможность незаметно удалиться. И едва Ирочка Ларионова, узколобая глупышка со смазливым личиком, вихляясь на каблуках, выползла на сцену для получения триумфальной статуэтки, Настя возмущенно вскочила со стула.
— Идея детских новостей пришла мне в голову совершенно неожиданно… — Ларионова заученно скалилась фарфоровой улыбкой, пока Настя пробиралась к выходу. — И хотя скептики утверждали, что после моего шоу о людях, переживших экстремальные события, эта идея выглядит мелкой, однако ее успех превзошел все ожидания! Потому что мы должны воспитывать наше подрастающее поколение, прививать ему вечные нравственные идеалы. Ради этого стоит работать и жить! Спасибо руководству первого канала, а особенно его главному продюсеру Араму Варамо-вичу Гагузяну, за поддержку и веру в меня!
Настя в бешенстве выскользнула из зала, глотая слезы обиды. Это был удар под дых. Ее идею бесстыдно украли, а она вынуждена терпеть и улыбаться, молчать и собираться с духом. «Мысли и чувства». Но у нее лично не осталось никаких чувств, один разум. Этот разум загнанно искал выхода из ситуации — и не находил.
Наружно в семье все оставалось по-прежнему — работа, дом, молчаливое противостояние. Но жизнь Насти точно замерла в неустойчивом равновесии, раздумывая, в какую сторону качнуться, и в Настиной воле было подтолкнуть ее в ту или иную сторону…
Как-то по старой памяти девушка заглянула в монтажную, надеясь повидаться с Валерой. Инженер просиял при виде залетной гостьи.
— А, Настюха! — воскликнул он, но сразу же поправил себя: — Анастасия Андреевна, простите…
— На «вы», да еще по имени-отчеству… Неужели я так древне выгляжу? — упрекнула Настя своего старинного поклонника.
— Ты выглядишь, как всегда, на миллион «бакинских»! — вздохнул Валера. — И мне еще больше, чем раньше, хочется с тобой переспать.
— Вот как! — кокетливо усмехнулась Настя. — Ну, еще не вечер, Валера, какие наши годы…
— Ага! — Инженер испуганно оглянулся в поисках нечаянных свидетелей разговора — впрочем, их не было.
— Тебе что, Земцева для полного счастья не хватает?
— Болван! — возмущенно фыркнула Настя. — Сплетни дурацкие слушаешь… Нет, представь, а вот если бы действительно… Если бы я вдруг оказалась свободной. Конечно, гипотетически… В предположительном смысле… То мы могли бы с тобой…
Валера внезапно перебил ее, испуганно блеснув стеклами очков:
— Ты что, Настюха, крейзанулась? Хочешь, чтобы мне яйца из-за тебя оторвали? Легкий пересып — это одно, а то, что ты мне предлагаешь…
— Я ничего тебе не предлагаю! — возмутилась Настя.
— Уже и пошутить нельзя…
— Ну, если только пошутить, — расслабился кавалер, — тогда конечно… Тогда я готов хоть сейчас расстегнуть штаны…
Он потянулся рукой к ширинке. Шутка зашла слишком далеко.
— Погоди, не торопись, — усмехнулась Настя. — Сначала объясни мне вот что… Всем известно, что служба безопасности на нашем канале работает на просмотр рабочих кабинетов… — Она указала пальцем на недреманное око камеры слежения, установленной в верхнем, труднодоступном углу. — Но кто изучает эти записи? И как часто?
— Хрен его знает! — грубо отозвался Валера, а потом догадался: — Ага, боишься, что твой муженек нас засечет? Законно! По-моему, если ничего особенного не происходит, то записи затирают…
— А если происходит? — спросила Настя.
— А что у нас может произойти? — ответил вопросом Валера.
Действительно, что?
Эти кассеты в бронированном сейфе у Шумского… Настя не раз видела, как начальник службы безопасности мирно попивает коньяк в кабинете директора дирекции детского вещания, и по простоте душевной полагала, что старого оперативника и ее покровителя связывает чистая мужская дружба. Но не старый ли милиционер поставляет кассеты серому кардиналу их телеканала, своему задушевному приятелю?
И что на них? Наверное, компромат. Клубничка. Шумский не преминет воспользоваться случаем, чтобы упрочить свое влияние на Цыбалина — пусть даже при помощи мелкого шантажа. Он из тех, кто считает, что в борьбе за место под телесолнцем любые средства хороши.
Ее мужа одно время называли в прессе главой голубой мафии… Сразу после свадьбы между ними бывали кое-какие отношения, кстати довольно вымученные, но после рождения Алины эти обременительные соединения прекратились, как отрезало.
Может быть, он вообще к связям с женщинами не приспособлен… Или ему уже по возрасту ничего не нужно? Вот и Валера утверждал…
Если на кассетах содержится компромат на ее мужа, то, завладев им, она получит прекрасный козырь в борьбе за дочь.
Именно на этот козырь она и рассчитывала.
— Дядя Захар, еще коньячку? — ласково спросила Настя, предлагающе наклонив бутылку.
— Н-не н-надо, я и так уже пьяный. — Хихиканье. Смешок. Совершенно осовелые глаза, под воздействием коньячных паров утратившие свой бдительный блеск.
Но, несмотря на возражения гостя, хозяйка наполняет бокал до краев. Подвигает его за хрустальную ножку ближе к своему визави. Терпеливо ждет, когда тот искупает слюнявые губы в пряной жидкости.
— М-мне еще домой ехать…
Игорь Ильич внимательно следит за женой. Под прицелом неприятного, прощупывающего взгляда она делает вид, что ей просто хочется угодить своему доброму дядюшке, она так любит его, так любит…
Хотя Шумский ей не дядюшка вовсе. И ей трудно спрятать ненависть в своем взоре — ведь актриса из Насти никудышная. Вообще, прямому и честному человеку трудно заниматься актерством — противно!
— Я отвезу вас домой, дядя Захар! — предлагает хозяйка.
— Для этого есть шофер, — жестко произносит Игорь Ильич, буравя жену неотпускающим взглядом. Кажется, он что-то подозревает.
И не напрасно!
Потому что Настя напряженно произносит в ответ:
— Тогда я провожу дядю Захара до машины! Мне нужно передать ему пару слов от мамы…
— Н-наташенька, — пьяно мычит Шумский, пытаясь расцеловать девушку и, очевидно, путая ее со своей бывшей пассией. — Кр-расавица! Ангел голубоглазый!
И пока муж вызывает шофера, она помогает дядюшке подняться, находит его одежду — легкий-плащ с утяжелением в районе правого кармана, который оттягивает пудовая связка ключей. Набросив плащ на Шумского, заботливо застегивает пуговицы на груди. Произносит нежно, с дочерней укоризной:
— Ну что же ты, дядя Захар, так набрался…
Дядя Захар лепечет нечто невнятное:
— Регина п-приедет завтра… Т-тебе она понравится… И знаешь, она души в Алине не чает…
Настя досадливо морщится. Шумский совсем пьян… Какая еще Регина, мать Вадима? Но ведь она давным-давно умерла… Или?..
«Пьяный бред!» — фыркает девушка, Потом передает дядюшку шоферу в целости и сохранности, за исключением ключей, которые находят пристанище в ее крошечной сумочке. За этим небольшим исключением.
Ключ от сейфа — небольшой, фигурный. Настя надеется, что в два счета справится с ним, потому что у нее дома стоит точно такой же сейф. Открыть его просто: поворот по часовой стрелке, потом поворот против, потом еще раз по часовой. Не столько этот ящик способен хранить секреты, сколько призван своей неприступностью отпугнуть потенциального налетчика.
Днем Настя звонит своему дядюшке, будучи уже в здании телецентра.
Шумский мучительно стонет в трубку свое похмельное «алло».
— Дядя Захар, как ваше самочувствие? — интересуется девушка, одновременно открывая дверь дядиного кабинета дядиным же ключом.
— Мне х-худо, — пораженчески бормочет трубка.
— Игорь Ильич просил вас заехать в министерство… Ну, помните, насчет продления лицензии…
Поднявшись на стул, она тянет руку к зависшей под потолком камере, чье недреманное око нацелено на сейф.
Шумский жалобно мычит в трубку — кажется, он сейчас вообще ни на что не годится.
— Хорошо, а завтра?
Залепив жвачкой объектив, Настя легко спрыгивает на пол.
— Выпейте стакан свежеотжатого апельсинового сока! — советует заботливая племянница, прежде чем нажать отбой.
Дядюшка клянется, что сегодня он из дома ни ногой, хоть режьте его!
Ключ беззастенчиво гремит в сейфовом замке.
Стройная стопка кассет перемещается на стол. Ба, да там еще какие-то бумаги, много бумаг, их необходимо тщательно изучить…
Ну, ничего, она никуда не торопится!
Ксероксные серые листы, фотоснимки, документы с печатями…
Стоп, как здесь оказалась ее медицинская карта?!
Настя оторопело листает лохматые страницы. Торопливый медицинский почерк: «DS — беременность 8 недель, направление кровь на RV, ВИЧ». Дата, число, подпись врача.
Результаты анализов…
Фотоснимок, мутный, как будто снятый с камеры слежения: квартира с табличкой «19» над дверным глазком, чей-то силуэт в черном проеме. Сутулая, странно знакомая спина, прямые длинные волосы рассыпаны по плечам. Кажется, это снимок той квартиры, где Настя обитала еще до первого расставания с Бесом…
Следующая фотография, тоже странная, нечеткая, расплывчатая: клуб, танцпол, Настя с искаженным лицом корчится возле сцены в натужном веселье, у микрофона — Вадим, скрюченный музыкальным пароксизмом…
Снимок дрожит в Настиных руках. Откуда взялась эта фотография? Почему она, как нечто ценное, хранится под замком, за семью печатями, в бездонном сейфовом брюхе?
А ведь есть еще кассеты, много кассет… Сейчас Настя, просмотрев их, отберет из них те, что сгодятся ей в борьбе против мужа. Может быть, там запечатлены сцены оргий, или служебный компромат, или совершенно секретные материалы…
Первая кассета, самая нижняя в стопке… Девушка вставляет ее в щель магнитофона, до шепота притушив звук.
Фу, какое отвратительное качество! Серая рябь, крупное зерно, тяжело смотреть, невозможно узнать…
Впрочем, не так уж невозможно — в женщине на экране она внезапно распознает себя. Дата в углу кадра — двухгодичной давности. Это Настя в своей съемной останкинской квартире. Ходит по комнате, что-то убирает. Потом исчезает в проеме двери, чтобы через пару секунд появиться уже вместе с Вадимом. Разговора почти не слышно, все заглушает музыка. Притушенный свет, пятно растрепанных волос на подушке. Расстеленная постель, ее щека на его груди, ее рука на его белом плече. Спокойный, умиротворенный кадр. Глубокий сон, обрыв записи.
Потом идут кадры, снятые, очевидно, с клубных камер… Кадры из квартиры Беса… Потом уличная съемка — вот они гуляют по осенней Москве, ногами взметывая палую листву. Оба в темных очках во имя неузнавания, во имя недостижимой и недостигнутой в итоге анонимности.
Другие кадры — она болтает с Валерой в монтажной. Смеется, надменно закидывая голову. Отводит его приставучую руку. Обрывает его назойливые ухаживания.
Кадры с Антоном Протасовым в аппаратной и в редакции. Тот ласково, утешающе прикрывает рукой ее ладонь. Она жалуется ему на что-то, чуть не плача. Разговора не разобрать, все глушит скрипучий шум эфира…
Настя, глядя на себя ослепшим от изумления взором, взволнованно размышляет.
Итак, за ней следили… Очевидно, с самого начала, с самой первой минуты на телевидении она находилась под присмотром тайного соглядатая. Вот почему ее поселили на студийной квартире — чтобы удобней было следить. Там везде были понатыканы камеры — и в подъезде, и в комнатах, везде… С самого начала ее отношения с Бесом были под контролем. И очевидно, с самого начала Цыбалин о них знал… Он собрал всю подноготную о возлюбленной своего сына, он знал о ней даже то, о чем даже не подозревал Вадим, — знал о ее беременности, о ее ребенке, о ее тайных желаниях, о ее надеждах.
И конечно, он не мог не знать, что между Настей и Земцевым абсолютно ничего не было!
Так вот почему… Вот почему он сделал Настю ведущей вопреки всеобщему мнению о ее бесталанности. Надеялся, наверное, что она вытащит сына из наркотической трясины, вернет его в нормальную жизнь. Не получилось… Она сдалась, сбежала, пожертвовала Вадимом во имя карьеры.
Так вот почему он старательно пытался рассорить ее с Протасовым — потому что знал об их дружбе. Так вот почему он предложил ей стать его женой, так торопливо и срочно, — потому что боялся, что она избавится от ребенка, от его единственной внучки.
Да, он все правильно рассчитал: одинокая девушка в чужом городе с неустойчивым материальным положением, без надежды на брак с любимым человеком… Такая девушка не может отважиться на беременность. И чтобы спасти дитя, надо сначала спасти его мать.
Рецепт прост: брак с солидным, обеспеченным господином… Кроме того, женившись на ней, он убил сразу двух зайцев: получил и внучку, и контроль над ее матерью. У него появилась гарантия, что мать с ребенком не выйдет за кого попало замуж, не исчезнет в неизвестном направлении, а всегда будет доступна, всегда будет находиться в пределах досягаемости. Всегда будет под контролем.
А значит, внучка тоже останется рядом с ним — навсегда.
И после свадьбы за ней следили, проверяя каждый ее шаг… Чтобы предвидеть ее решения, чтобы предотвратить необдуманные поступки. Настю тайно контролировали и направляли. О ней тайно заботились и оберегали. Но нет, не о ней, в сущности, заботился этот человек — об Алине. Не Настя была конечной целью этой слежки, а ребенок, только он.
Его собственный, его персональный, как он думает, ребенок. Его личный ребенок.
Поэтому ясно: если он сделал все возможное, чтобы этот ребенок появился на свет, то он готов на все, даже самое страшное, чтобы оставить его подле себя. Даже если для этого придется растоптать его мать. Впрочем, ему будет удобней, если Настя вдруг исчезнет, — потому что вместе с ней исчезнет целый пласт постоянных забот.
Только во что ее жизнь превратится без ежедневной оберегающей поддержки мужа? «Звезды гасит тот, кто их зажигает», — обронил однажды Антон Протасов. А потом добавил грустно: «Если звезды гаснут, значит, это кому-то нужно»… Рассорившись с Игорем Ильичом, она будет вынуждена уйти с канала. Кто возьмет ее на работу? Никто!
Если Цыбалин захочет, ей вовек не найти работу в «Останкине», несмотря на все свои таланты, несмотря на свое громкое имя. И не такие звезды, как она, гасли — то есть их умело гасили…
Тогда Насте останется только уехать к родителям и там зажить тихой провинциальной жизнью — без суфлера перед глазами, без жесткого телевизионного света, без шепота в «ухо». Без славы, без телевидения. Что ж, она готова на это во имя дочери, но только…
Только все равно Игорь Ильич не отпустит от себя Алину. Насте с дочерью не позволят сбежать из города. Ведь девочка — это самое главное в его жизни, ее цель и смысл, единственное, что у него осталось. Так было с самого начала, с самого первого дня, еще до ее рождения…
А сама Настя, как однажды обмолвился ее муж, лишь послужила инкубатором для вынашивания младенца. Теперь же, когда дочь подросла, мать ребенка стала ненужной, надоедливой, обременительной докукой. От нее надо освободиться — вот зачем ему понадобились эти записи.
Чтобы навсегда освободиться от нее!
Решительно смахнув взбухшие слезы, Настя вновь занялась делом.
Еще один снимок — видимо, семейный. На нем Игорь Ильич, Алина и еще какая-то женщина, пожилая, седая, с мудрыми морщинами возле рта.
Кто это? Брови девушки мрачно сошлись на переносице — она узнала эту женщину. Это она, молодая и веселая, обнимала мужа и сына, сидела с ними у лесного костра, мяла ступнями песок крымских пляжей, выходила из пены морской, выглядывала из серой фотографической мути двадцатилетней давности, четвертьвековой выдержки.
Это была мать Вадима, Регина. И она, эта чужая, незнакомая ей женщина на снимках, обнимала Алину, словно родное дитя, не чаяла в ней души, прижималась к пухлой щечке, тетешкала и пришепетывала от нежности. Она!
Значит, Шумский бесстыдно врал. Жена Игоря Ильича не умерла, она жива и, судя по всему, здорова. Процветает. Души не чает в своей внучке. Тайно наслаждается общением с ребенком, пока Настя проводит время на работе.
Но зачем же обманывал ее драгоценный дядюшка, для каких таких далекоидущих целей и планов? По чужому наущению, по своему разумению? Чтобы Настя не волновалась? Не ревновала?
А может быть, Игорь Ильич специально разошелся с женой, чтобы, женившись на Насте, гарантированно завладеть внучкой?
Ладно, потом разберемся…
Она выудила из сейфа очередную пачку документов. Там были выписки из больничной карты Вадима, откуда явствовало, что полтора года назад больной находился в закрытом санатории со стыдливым диагнозом «абстинентный синдром», листы лекарственных назначений и выписной эпикриз с оптимистическим резюме «ремиссия». Потом мутной чередой шли однообразно мрачные снимки — чья-то грязная хата, остатки еды на тарелках, тюфяки, горой сваленные в углу, непонятные люди, спящие на полу в разбросанных позах. И среди них — он, с потусторонним лицом, с никому не адресованной ухмылкой. С закатанными рукавами и кровавой дорожкой вдоль расплывшихся вен. На обратной стороне фотографий были проставлены даты, шедшие друг за другом в хронологическом порядке. Последний снимок был совсем свежий, двухнедельной давности…
Значит, за сыном он тоже продолжает следить…
Настя перевернула фотографию. На тыльной стороне ее значился адрес: Карамышевская набережная, дом, корпус, квартира. А на других снимках были написаны другие адреса, много адресов…
Номер дома и квартиры Настя округло-аккуратным почерком записала в свою записную книжку, после чего сложила документы обратно в сейф, повернула ключ в замке, запоздало удивляясь тому, что в итоге обнаружила совершенно не то, что искала.
Отлепив жвачку с объектива камеры, заперла за собой дверь.
Службы безопасности Настя не боялась. Впереди выходные, в эти дни записи с камер слежения проверяться не будут, а потом ее визит в дядюшкин кабинет быстро затрется новыми кадрами. К тому же служба безопасности просматривает пленки, только когда что-нибудь случается, но ничего же не случилось… Почти ничего.
Солнцеподобно улыбнувшись охраннику, Настя вышла из эфирной зоны.
До верстки программы оставалось несколько часов, а у нее еще куча дел! Нужно вернуть ключи дяде Захару, отыскать тот дом на Карамышевской набережной, последнее пристанище Вадима. Подобрать квартиру для скорого переезда с Алиной. Найти себе новое место работы. Нанять охрану.
Избавиться, наконец, от своего мужа. Если не физически, то как-нибудь по-другому, как получится.
Главное — поскорее избавиться от него.
Новенький красный «ягуар» (подарок мужа на рождение дочери) обтекаемой ракетой летел по запруженным автомобилями улицам. Настя спешила.
Она не видела, что за ней летела по улицам неприметная синяя «шестерка»…
Вернув ключи дяде Захару (ой, они, наверное, случайно выпали из кармана, я подумала, что они вам нужны, вот и заехала — ну и так далее…), девушка уже успела посетить агентство недвижимости и охранную контору.
Агент по аренде квартир был несказанно счастлив — когда еще найдешь клиента, готового задорого снять роскошные апартаменты. Причем без предварительного просмотра, без торга, только по одной фотографии и хвалебно-рекламному отзыву самого агента! Конечно, знаменитая Плотникова может не думать о деньгах! Наверное, подыскивает укромную хатенку для встреч со своим хахалем Земцевым…
— А знаете, как вас называет моя мама? — разоткровенничался парень, когда комиссионные за сделку оказались в его кармане. — Ангелом! Переключи, говорит, телевизор на новости с нашим ангелом… Может быть, вы оставите для нее автограф? Мама будет счастлива.
Настя торопливо расписалась на клочке бумаги.
В охранном агентстве пообещали немедленно выделить двух профессионалов — торопливый договор тоже был подписан и скреплен печатью, а Настю в качестве бонуса одарили изрядной порцией комплиментов.
— На экране вы выглядите куда старше, чем в жизни, — разулыбался широкоплечий парень с кобурой на ремне. — Скажу своему отцу, что сегодня видел его любимую ведущую. Вот он обрадуется! Он иногда говорит: «Ну, что нам сегодня поведает наш ангелочек»… «Ангелочек» — это вы!
Настя размашисто расписалась на чистом листке.
— Для вашего отца, — улыбнулась она.
Теперь «ягуар» адски спешил — и синяя неприметная «шестерка» спешила вслед за ним, пробираясь на Карамышевскую набережную.
Пробка спутала все ее планы. На середине пути, поняв, что безнадежно опаздывает, Настя лихо развернулась через две сплошных полосы, решив вернуться в «Останкино». Она не могла позволить себе опоздать к эфиру.
С невнимательным удивлением она заметила в зеркале, как синяя «шестерка» с заляпанным номером развернулась вслед за ней, рискуя правым крылом. Наверное, ее водитель тоже ужасно спешил…
Протасов с полувзгляда понял, что с телезвездой что-то не то, — розово припухшие веки свидетельствовали о недавних слезах, лицо устало вытянулось, в глазах плескалась тревога.
— Что стряслось? — тревожно спросил он и догадался: — Что-то с Алиной, да?
Настя, памятуя о всевидящих камерах, лишь тускло улыбнулась:
— Да, Алина… Она… она кашляла всю ночь! Я так волнуюсь, вдруг у нее бронхит.
Под невинный разговор о детских хворях они постепенно дошли до завитка бесконечного коридора, выйдя из эфирной зоны в нейтральную часть здания, где камер слежения было значительно меньше.
Здесь Настя неожиданно для себя разрыдалась, уткнувшись Антону в плечо.
— Я не знаю, что делать, — бессвязно пролепетала она. Двухдневное напряжение разрядилось потоком истеричных слез. — Он отнимет у меня дочку! Антон, помоги мне!
Протасов был сам растерян пуще ее. Он только мягко похлопал девушку по руке, глупо приговаривая:
— Ну успокойся, вытри слезы… Не надо распускаться перед эфиром. Вот платок… — На лице его читалось искреннее страдание.
Если бы он мог, он сделал бы для нее все, все, что она захочет. Только он ничего, ничего не может. Разве что…
И он предложил, не веря в свое несбыточное умонепостижимое счастье:
— Переезжай с дочкой ко мне, я сейчас живу один… Я вас в обиду не дам. — Он решительно сжал кулаки.
Отрицательно мотнув головой, Настя жалко всхлипнула:
— Он отыщет нас в два счета и отнимет Алину… Антон, что мне делать, скажи! Ты ведь все знаешь, ты все можешь! Ты же был в Чечне, в конце концов… Что мне делать, Антон?
Протасов слабо шевельнул безвольными, распущенными сочувствием губами.
Она прочитала высказанный, но подразумеваемый ответ в его глазах: надо избавиться от него. Так она и думала…
Только ночью, после гладко прошедшего эфира у Насти, наконец, появилось время поразмыслить, каким образом кассеты и документы оказались в сейфе Шумского. Она ехала на Карамышевскую набережную, предварительно сверившись с картой и адресом из записной книжки.
Картина вырисовывалась не очень-то радужная. Очевидно, Шумский с самого первого дня прилежно шпионил за ней. Добрый дядюшка, вероятно, стал проявлять участие в судьбе своей воспитомки исключительно по начальственному приказу — чтобы своевременно информировать патрона о действиях милой протеже. А Цыбалин, прознав о любовной интрижке сына, решил удержать девушку в столице, для чего и предложил Насте лакомую должность ведущей. С бывшей женой Игорь Ильич, очевидно, поддерживает крепкую связь. Может быть, он даже специально развелся с Региной, чтобы приблизить к себе Настю. Чтобы не потерять ребенка, свою внучку, чтобы прочными семейными узами удержать подле себя свою драгоценную кровиночку, последнюю представительницу их угасающего рода.
В надзоре за девушкой ему помогал Захар, когда надо — поддерживал Настю, когда надо — направлял. Когда надо — дозированно сливал ей информацию, поставляя наверх ответные сведения.
И теперь, верно, он тайно шпионит за ней, этот старый лысый добряк… А добрый он вовсе не из теплых дружеских чувств к ее матери, Наталье Ильиничне, а потому, что ему за участие в ее судьбе приплачивают — если не деньгами, то должностью или, например, влиянием на канале…
Ладно, пусть Шумский живет себе, как жил, устало решила Настя. Ей пока не до него. Пусть продолжает свое лизоблюдное дело, а позже, когда все наконец образуется, она займется им. Но не сейчас.
Сейчас нужно срочно разыскать Вадима, чтобы открыть ему — все, все, все! — и про Алину, и про ее полоумного деда, и про то, что ее жизнь без него дала трещину, летит в тартарары, катится под откос. И поэтому он должен спасти их — свою жену и свою дочь.
Для начала надо заручиться его поддержкой, его согласием, его помощью. В конце концов, он отец ребенка и обязан принять участие в судьбе дочери. И он тоже недолюбливает своего отца, всесильного телемагната, который привык распоряжаться судьбами людей по собственному усмотрению.
Только бы ей отыскать Вадима, только бы он оказался во вменяемом состоянии, только бы он был не под кайфом — прошу Тебя, Господи, взмолилась Настя.
Она увезет его, отмоет, приведет в нормальное состояние. И они поселятся вместе. И тогда Цыбалин не посмеет отнять у нее дочь, не посмеет выгнать ее из эфира. Не станет же он бороться со своим собственным сыном, которого он конечно же искренне любит — а иначе зачем эта многолетняя слежка, зачем эта тайная забота, зачем, зачем это все?
А иначе разве столь отчаянно Игорь Ильич любил бы Алину, свою внучку? А иначе разве столь отъявленно ненавидел бы ее, Настю?
«Ягуар» свернул с дороги в глухой, бесфонарный двор. Испуганные тени жались по темным углам, тускло светились бессонные окна в вышине дома.
Синяя «шестерка», с прилежной незаметностью скользившая по ночным улицам, благоразумно притормозила на набережной.
Погасли фары, глухо стукнула водительская дверь. Заскрипели шаги по дворовому гравию. Тихо!
Лифт, естественно, не работал… Настя поднялась по грязной темной лестнице, брезгливо касаясь перчаткой липких перил.
Отыскала нужную квартиру — обшарпанная дверь, лишаи обвалившейся штукатурки. Сладковатая тревожная вонь.
И еще — тишина, немая, беспросветная тишина, ни звука из-за глухой, в наплывах старой краски двери.
Глубокая ночь, предрассветный тихий час.
Настя надавила звонок — ни звука, ни шороха, ни движения в ответ.
Она легонько толкнула дверь — та приглашающе отворилась с глухим, леденящим душу скрипом.
«Есть тут кто?» — шагнула в темноту, морща нос от сладковатого, вызывающего тошноту запаха.
Из комнаты в темную прихожую пробивался омерзительно тусклый свет.
«Есть тут кто?» — повторила девушка, напряженно задержав дыхание.
Приоткрыв дверь, заглянула в комнату…
Она сразу узнала эту шею с тонкой косицей давно не стриженных волос. И этот свитер — она подарила его ему на день рождения. Когда-то очень давно. В прошлой жизни. В его прошлой жизни.
Он лежал, скорчившись у стены. Мертво лежал, неподвижно, трупообразно.
«Вадим!» Она присела возле него на корточки. Не снимая перчаток, осторожно коснулась плеча.
Но он глубоко спал, ничего не слыша, ничего не замечая.
Спал с открытыми глазами,
невидяще уставившись игольчатыми зрачками в окружающий сумрак.
И когда тяжелый затеклый холод, пробравшись сквозь кожу перчатки, достиг ее ладони, рука мгновенно онемела до самого локтя, словно заразилась смертным хладом. Тяжелый сладковатый дух дурманил голову, забивал ноздри.
Настя тихо вскрикнула, рукой прикрыв рот.
Вадим был мертв. Абсолютно, потрясающе мертв! Так не вовремя, так некстати…
В полуобморочном состоянии девушка добрела до машины. Согнувшись в кустах, она долго выворачивала содержимое желудка на рыхлый, черно-сахарный снег. Жадным ртом вдыхала хрустальный морозный воздух, борясь с головокружением, — и все не могла надышаться…
Она до макушки пропиталась этим сладким отвратительным запахом. Мертвым запахом…
И когда она ехала в машине домой, этот запах все дурманил ей голову, давил виски, слепил глаза, вызывая желание плотно сомкнуть веки, ничего не видеть, не слышать, не жить. Не дышать.
Тогда, чтобы наконец избавиться от удушливого послевкусия, она открыла окно — и ледяной воздух наотмашь хлестнул по разгоряченной щеке, секундно вытеснив из ноздрей тошнотворную сладость.
Но уже в следующий миг, едва автомобиль снизил скорость на повороте, этот запах вновь безжалостно настиг ее. И чтобы отделаться от него, она сильно надавила на педаль газа.
Машина с ревом летела по автомагистрали, с трудом, как пьяная, удерживаясь на полосе.
А ей все было мало воздуха, все мучительно теснилась грудь — и она утопила педаль акселератора, надеясь оторваться от преследовавшего ее тошнотного аромата…
И ей почти удалось освободиться от него, как вдруг в призрачном свете фонарей перед капотом неожиданно нарисовалась черная человеческая тень.
Еще не поняв, в чем дело, Настя с силой нажала на тормоз, — но тень, с тяжелым стуком навалившись на капот, оттолкнулась от него и несколько раз ватно перевернулась в воздухе.
А потом спокойно улеглась у колес замершего поперек дороги «ягуара».
«Она с ума сошла!» — воскликнул водитель синей «шестерки», настигший беглянку у взъезда в тоннель. А потом, увидев вздыбленный капот, растрескавшееся лобовое стекло и тень посреди расплывавшейся на мостовой асфальтово-черной лужи, обреченно вздохнул: «Этим все и должно было закончиться…»
Остановившись на обочине с мигающей аварийной сигнализацией, он неспешно произнес в трубку:
— У нас ЧП… Объект сбил пешехода на въезде.
Выслушав инструкцию невидимого абонента, он спешно выбрался из машины, в сердцах хлопнул дверцей, — дежурство подходило к концу, неохота было ввязываться в затяжные разборки с ГИБДД.
Вразвалку приблизившись к «ягуару», водитель «шестерки» склонился к опущенному стеклу:
— С вами все в порядке? — Он помог Насте выбраться из салона. Сказал: — Видите на обочине автомобиль? Садитесь в него и сидите тихо. Я вас позову, когда понадобитесь…
Девушка машинально подчинилась властному голосу.
Наклонившись над распластанным телом, водитель «шестерки» пощупал пульс на запястье неловко заброшенной за голову руки. Мрачно покачал головой. Поморщился.
Поднявшись на ноги, огляделся по сторонам.
Мимо безостановочно мчались редкие по ночному времени машины. Что характерно для Москвы — в случае аварии никто из проезжающих не остановится. Автомобили так и будут свистеть мимо, лишь слегка притормаживая у места происшествия и сразу же стремительно улепетывая прочь…
Наконец вдали показался неспешно трюхающий мусоровоз, который медленно полз в крайней правой полосе.
Махнув нечитаемым в темноте удостоверением, водитель «шестерки» остановил машину. Грузовик, неохотно пыхнув тормозами, замер на обочине. Пожилой шофер спрыгнул на землю.
— Помощь нужна? — кивнул подбородком на мигавший аварийкой «ягуар». — Трупы есть?
— Да, есть, — тускло отозвался ночной доброхот. — Слушай, мужик, ты давно за рулем?
— Скоро четвертак будет…
— Прилично… В авариях бывал?
— Пока Бог миловал. — Водитель быстро перекрестился.
— Слушай, возьми это дело на себя… Понимаешь, девчонка молодая, неопытная… Ей слава на всю страну, скандал в прессе, а тебе всего года три условно дадут… Скажешь, что водителем у нее подрабатывал. Не увидел, не рассчитал, недоглядел… Ну, конечно, деньгами тебя не обижу…
— Ты что, с ума съехал! — оторопело отшатнулся шофер. — Ты что!
— Пять тысяч баксов… — быстро проговорил ночной распорядитель. — Давай соглашайся… Деньги будут через три минуты, еще до приезда ГИБДД.
Шофер не поверил собственным ушам.
— Сколько-сколько? — удивился он.
— Пять, ну, десять тысяч… Долларов, конечно! Наликом. Через три минуты. Всего-то за три года условно… — Носок ботинка нетерпеливо стукнул о землю. — Соображай быстрее!
— А как же моя дурында? — Шофер кивнул на прикорнувший на обочине мусоровоз.
— Сам лично отгоню на базу.
— А не обманешь? С деньгами-то?
Водитель «шестерки» насмешливо вздернул бровь:
— Ты удостоверение видел? Еще сомневаешься!
После этих слов, повинуясь указаниям сметливого распорядителя, шофер мусоровоза занял водительское сиденье «ягуара».
Через три минуты к месту происшествия подлетела черная «Волга», и толстая пачка денег обрела нового хозяина…
— Слушай, так что за девка-то была за рулем? Я ж ее в глаза не видел! — запоздало засуетился шофер. — Что мне ментам говорить?
— Скажи, что работаешь шофером у Анастасии Плотниковой. «Новости» небось смотришь?
— Ага, конечно… Так это, что ли, ее машина?
— Она самая…
— Так, значит, это она бедолагу сбила… Вот тебе и ангел!
— Нет, мужик, не путай… Пешехода сбил ты. Если что, я буду свидетелем.
Вдали, взвывая сиреной и мигая проблесковым маячком, появился автомобиль ГИБДД. Распорядитель вернулся к синей «шестерке», чтобы предупредительно прошептать в розово густевшую темноту салона:
— Анастасия Андреевна, запомните: во время аварии вы сидели на пассажирском месте и ничего не видели, потому что задремали. Разбудил вас визг тормозов и резкий толчок. За рулем был вон тот мужчина, в телогрейке. Его зовут Вася… Поняли?
— Да, — кивнула она, неотрывно глядя прямо перед собой, — конечно. Я все поняла…
Глава 4
Костюм был продуман до мелочей, да и гримировали ее основательно долго, едва ли не целый час. Перед эфиром Настя, конечно, волновалась, но не сильно. Подумаешь, президент… Хотя президент тоже может оказаться полезным в предстоящей борьбе.
Как и все, кто попадается ей на пути…
Все они, все поголовно влюблены в Настю, все они заворожены ее телевизионным блеском, готовы ради нее на невероятные жертвы. Взять хоть того мужчину, который помог ей после аварии. Он отвез ее домой, передал с рук на руки мужу, сказал, чтобы она ни о чем не волновалась, потому что она ни в чем не виновата. Взять хоть водителя мусоровоза, который принял ее вину на себя, — он такой милый!
А ведь она никого из них не просила об услуге, ей просто не пришло это в голову. Они сами, сами, сами…
— Вы неплохо выглядите, — похвалил президент, терпеливо поджидая, когда звукорежиссер вденет в его петличку микрофон. — Земцев мне все уши прожужжал насчет вас.
Она кокетливо взмахнула ресницами:
— Надеюсь, он жужжал обо мне только хорошее…
До эфира оставалось три минуты. Персонала возле них уже не было, сотрудники заняли места в аппаратной, и Насте представился уникальный шанс поболтать с президентом тет-а-тет.
Тем более, что он сам поддержал разговор, улыбнувшись ее предыдущей фразе:
— А разве в вас есть что-то плохое?
— Есть… — Она с притворной грустью вздохнула. — И немало… Главное: не люблю штампованные вопросы и утвержденные тексты. Предпочитаю импровизацию!
— Вот это номер! — удивился ее собеседник. — Мне-то доложили, что в импровизации вы не сильны, именно поэтому выбор Администрации пал на вас — чтобы в эфире не было никакой отсебятины. — Он хитро улыбнулся.
Настя предусмотрительно прикрыла рукой микрофон в петличке — пусть их разговор останется тайной.
— Как, вы не любите отсебятины? — проговорила с очаровательным удивлением. — Неужели боитесь?
— Нет, и могу вам это доказать…
— Докажите! — У Насти загорелись глаза.
— Но как?
— Дайте мне эксклюзивное интервью! В Ново-Огареве! В семейном кругу! Так что, заметано? — задорно улыбнулась она.
— Заметано! — согласился президент.
«Минута до эфира, — прозвучал громовой голос с небес. — Настя, голову немного влево, лицо разверни к камере. Хорошо…»
Обратный отсчет: девять секунд… Пять секунд… Ноль секунд… Заставка. Вспыхнули красные огни работающих камер.
— Добрый вечер, дорогие телезрители! — восторженно блестя глазами, произнесла Настя, едва заставка на мониторе сменилась видом студии. — Начинаем прямой эфир с президентом России!
Ее лицо сияло, голос восторженно звенел.
Это был ее звездный час. Она победила.
А тот человек, что сейчас следил за ней из аппаратной, наблюдая за ее торжеством, лишь бессильно кусал губы, понимая это. Ведь он сам выковал ее триумф, ее неминуемую, предопределенную победу. Своими руками!
После интервью президент предложил пройтись по саду. Они брели по дорожкам, как будто два старинных приятеля, — так легко им было вместе, приятно. Непринужденно болтали обо всем, что приходило в голову. Настя не чувствовала ни робости, ни пиетета, как будто президент был самым простым человеком. И как будто она тоже была самым простым человеком.
— Нет, конюшня, конечно, находится не здесь, — ответил он на ее вопрос. — Да и бываю я в ней не часто, раза два в год.
— А ваши дети? — спросила Настя.
— У них совершенно нет времени! Учеба, карьера, личная жизнь… — Президент грустно усмехнулся.
Помолчали.
— Тяжелая у нас с вами получилась работа, — добавил он, имея в виду недавний прямой эфир.
— На вопросы рассерженных пенсионеров отвечать нелегко, — заметила Настя. — Даже если эти пенсионеры прошли предварительный отбор и строгую репетиционную школу… Но ведь для вас не новость, что люди не в восторге от перспективы повышения пенсионного возраста.
— Знаете, — вздохнул президент, — на верхнем уровне фильтрация информации столь велика, что я больше имею дело с цифрами, чем с людьми.
— А вам хотелось бы наоборот, — догадалась девушка. — Что ж, это можно устроить… Можно сделать ежемесячную передачу, где будет звучать прямой, не фильтрованный вашей Администрацией диалог… А также ваш комментарий событий и личная оценка происходящего… — мечтательно проговорила Настя. — К сожалению, на нашем канале такую передачу организовать не удастся, ведь он не федеральный. Как жаль…
— Мне импонирует ваша идея, — живо заметил ее собеседник. — Нужно будет обсудить ее с Гайдуковым…
— Ага, — грустно улыбнулась Настя. — А потом мою идею воплотит кто-то посторонний… Впрочем, я уже к этому привыкла!
— Ну, зачем же посторонний, — поморщился президент, — по-моему, мы с вами прекрасно сработались. Ваша идея — вам и карты в руки.
— Ну, на меня вряд ли стоит рассчитывать, — грустно усмехнулась Настя, качнув головой. — Я собираюсь уехать из Москвы.
— Что так? Командировка?
— Личные проблемы… И проблемы с работой…
Помолчали, подходя к дому.
— Если что, я помогу вам, — пообещал президент, легко взбегая на крыльцо. — И с работой, и с проблемами. Телефон для связи у вас есть, звоните…
Он растворился в дверном проеме.
— Лена, немедленно соберите девочку, — произнесла Настя, стремительно входя в квартиру. Охранники неподвижными глыбами высились за ее спиной, она взяла их с собой не столько для физической поддержки, сколько для обеспечения морального превосходства над мужем.
— Вы идете гулять? — удивилась няня, разглядев двух шкафообразных субъектов. — Но сейчас у Алины послеобеденный сон!
— Нет, мы уезжаем. Немедленно!
— Куда?
Настя не ответила вопрос. Приказала:
— И вы тоже собирайтесь, Лена. Девочка к вам привыкла, поэтому я вас оставляю у себя на прежних зарплатных условиях.
Бросившись в комнату, няня нерешительно притормозила на пороге.
— А как же… — начала, не договорив имени хозяина.
— Я эту проблему решу, — нервно отмахнулась Настя. — Собирайтесь быстрее, машина ждет.
Она торопилась — ей не хотелось встречаться с мужем.
В новом месте обустроились быстро, благо квартира сдавалась со всей необходимой начинкой — мебелью, бытовой техникой и системами слежения.
— Прогулка во дворе — только с охраной, — инструктировала Настя испуганную няню. — На телефонные звонки не отвечать, дверь никому не открывать! С Игорем Ильичем не разговаривать! Ни о чем! Никогда! Как будто его не существует!
Лена испуганно прижала к себе девочку, словно ребенку грозила страшная опасность. Алина капризно скукси-ла мордашку от слишком крепкого объятия.
Ожидаемый звонок раздался позже, чем на то рассчитывала Настя. Вот уже битый час она ходила по комнате, как тигр в клетке, в затянувшемся молчании мужа предвидя для себя страшные последствия.
— В чем дело, Анастасия? — раздался в трубке его спокойный, даже слишком спокойный голос.
— Ни в чем! — безмятежно ответила она. — Я от тебя ушла.
— Алина с тобой? — тревожно спросил он. Как будто не видел разора в своей квартире, в спешке разбросанных игрушек, смятых постелей, забытых вещей. Как будто ни о чем не догадывался.
— Конечно.
— Можешь делать что угодно и жить где угодно, только верни девочку! — Против ожидания его голос звучал вовсе не грозно, а скорее просительно, умоляюще.
Видно, он до последнего не верил, что она осмелится уйти от него. Надеялся, что удержит ее на привязи своими эфирными подачками. Думал, что ее телевизионная слава ей дороже, чем родная дочь. Но это не так, совсем не так! Настя пожертвовала бы для дочери и своей славой, и своей звездной участью, но, слава богу, жертвовать ей не придется…
Она знала, такой двойной удар Игорю Ильичу будет трудно вынести — сначала гибель сына, теперь — потеря внучки. Наверное, для него лучше смерть девочки, чем такая болезненная, обидная, такая безвозвратная ее потеря.
— Интересно, почему я должна отдавать тебе свою дочь? — Слово «свою» она подчеркнула особенно сильно.
— Это моя дочь тоже!
— Ты в этом уверен?
Тяжелое дыхание в трубке, дыхание загнанного зверя, доведенного до последней черты. Но она тоже была зверем, доведенным до последней черты, — и они схлестнулись в воображаемом поединке не на жизнь, а на смерть.
— Я знаю, куда ты переехала, адрес мне известен. За тобой следили по моему указанию… И я знаю, ты наняла охрану.
— Вооруженную охрану! — подчеркнула она.
— Не важно… Алину ты вернешь так же, как украла ее, — самолично… А до тех пор, пока это не прризойдет, можешь не рассчитывать на работу в «Останкине». Я позабочусь, чтобы тебя не принял ни один канал! Даже самое паршивое кабельное телевидение в самом паршивом спальном районе!
— Как, тебе еще не передали моего заявления об уходе? По-моему, я оставляла его у тебя на столе… — нарочито удивилась она. — А насчет работы не волнуйся, меня уже пригласили на федеральный канал…
— Какая глупость! — рассыпчато рассмеялся он. — Один мой звонок в Администрацию Президента — и тот, кто тебя пригласил, навеки забудет о тебе.
— Вряд ли, — тускло отозвалась она. — Вряд ли Гайдуков сможет повлиять на президента…
— На президента федерального канала? Вполне!
— Нет, на президента нашей страны!
Тяжелое, как глыба, молчание по ту сторону трубки.
— Вот как… — растерянно пробормотал ее соперник.
Кажется, она нанесла сокрушительный удар, от которого ему будет трудно оправиться.
Но Игорь Ильич сделал новый выпад:
— А президент знает, что ты недавно убила человека?
Настя вздрогнула, задохнувшись душным комнатным воздухом. А муж, не давая опомниться, продолжал атаковать ее:
— Он знает, что твою вину в аварии взял на себя шофер с автобазы? Кстати, предупреждаю: камеры слежения в тоннеле записали все, как было на самом деле, в том числе и сам момент аварии. И на них видно, что за рулем находилась именно ты… Но, как любящий супруг, заботящийся о чести семьи, я предусмотрительно выкупил пленку. И нотариально подтвержденные показания шофера у меня тоже имеются… А еще — свидетельство следившего за тобой частного детектива.
Настя взволнованно закусила губу. Это был удар под дых! Тот самый водитель в синей «шестерке»… Значит, он заботился о ней по обязанности, по служебной необходимости, за деньги…
— Что ты хочешь от меня? — спросила она, осторожно переводя дух.
— Я хочу Алину.
— Нет. Ни ты, ни твоя жена не получите девочку.
— Моя жена? — растерянно переспросил он, постепенно осознавая — ей кое-что известно.
Помолчали.
— Но ты должна понимать, что история с аварией одномоментно погубит твою карьеру. Причем навсегда!
Настя молчала. Он был прав. Он знал, о чем говорит. Убийца на экране, убийца рядом с президентом, убийца перед лицом всей страны… Это немыслимо!
— Сбитая тобой женщина, между прочим, мать двоих детей… Она просто решила срезать путь, спеша к своим крошечным детям. Таким же детям, как Алина…
Что она могла ответить на это?
— Президент никогда, слышишь, никогда не придет на передачу к убийце. Ведь запись из тоннеля покажут все каналы, ты же знаешь, как у нас любят жареное… — Он замолчал, затягивая паузу. — Если только…
— Если — что? — не выдержала она напряжения.
— Если мы с тобой не договоримся!
Настя, сглотнув слюну, проговорила устало:
— Что ты предлагаешь?
— Давай так — ни тебе, ни мне, — примирительно произнес он. — Пусть половину времени девочка проводит с тобой, половину — со мной. Я остаюсь официальным отцом ребенка, тем более теперь, когда Вадим погиб… — Он говорил с трудом. — Малютке так нужен отец… Ты не можешь не признать, что девочка меня любит.
— Дети всегда любят тех, кто им потакает! Это не значит, что подобное общение очень полезно для них… Я подумаю!
— Думай, — произнес он, — думай скорее… И еще… Передай малышке привет.
«Лучше бы ты передал ей привет с того света!» — фыркнула она, отшвырнув трубку.
Да, этот человек ей мешает, чем дальше, тем больше. Он нипочем не остановится, если только она не остановит его.
— Ну сделай же что-нибудь! Ты же можешь! Он звонит мне каждый день, он мне угрожает!
Протасов успокоительно коснулся ее руки.
— Я не дам тебя в обиду, ангел мой… И Алину тоже… — Антон с трудом разомкнул пересохший рот. — Ничего не бойся.
— Ты мне обещаешь? — вскинула она на него свои озерные, омытые недавними слезами глаза.
— Да… — пообещал он.
Он привык выполнять данные обещания.
Ничего, скоро все будет хорошо — ведь Его скоро не будет. Она позаботится об этом. Все равно, как и каким способом, известен лишь конечный результат — Его скорое исчезновение.
Может быть, он упадет, обливаясь кровью, на кафельный пол. Корчась от резкой кинжальной боли…
Может быть, простреленный навылет, ужом совьется у ее ног, чтобы уже никогда не распрямиться. И даже для похорон его не смогут разогнуть, чтобы он лежал в гробу прямо и благостно, как принято покоиться в домовине.
Может быть, в последний раз в жизни, увидев упершийся в зрачки свет бестрепетно неоновых фар, он коротко вскрикнет — прощаясь с ней. То есть с жизнью…
Скорей бы!
— Игорь Ильич только спросил, как Алина… — Лена испуганно складывает руки на груди.
— Я же запретила тебе разговаривать с ним! — Настя кричит в полный голос, не стесняясь присутствием охранника.
— Но я… Не могу же я бросить трубку… Я… я его боюсь… Вдруг он…
— Глупая дура!
В бешенстве Настя швыряет тарелку на пол. Алина плачет, пугаясь резких звуков. Охранник бесстрастно глядит в окно, как будто происходящее его совершенно не касается. Лена рыдает тихими слезами.
Тяжело, страшно, больно. Невмоготу.
— Сегодня я приеду за ребенком, — объявляет Игорь Ильич.
— Нет! — кричит Настя в трубку.
— Значит, ты хочешь войны? Или все еще не веришь, что кассета с записью находится у меня?
Настя взбешенно молчит. Причин не верить ему у нее нет. Он никогда не обманывал ее. Он никогда не говорил ей всей правды.
— Мне нужны гарантии, — наконец произносит она, надеясь выиграть время.
— Какие еще гарантии?
— Гарантии того, что Алина вернется ко мне.
— Моего честного слова тебе не достаточно?
Отнюдь!
— Мне нужна кассета, — наконец произносит она. — Давай так, пока Алина будет у тебя, ты отдашь мне кассету на хранение.
— Кажется, ты изрядно поглупела в последнее время… — иронично усмехается он. — Или забыла о возможности копирования?
Он прав, черт возьми, он прав!
Она уступает силе. Утешает только то, что мера эта временная, вынужденная — пока Настя не разработает новую стратегию обороны.
— Хорошо, — с кошачьей лаской произносит она. — Я отвезу Алину к тебе. Но если через двое суток ты не вернешь ребенка, то…
— Ты мне угрожаешь? — удивляется он.
— То мой рублевский друг будет очень, очень недоволен, — чеканит она последнюю фразу.
— Кто это такой? — Игорь Ильич осекается на полуслове.
— Кто? Кажется, ты его знаешь… Ты ежемесячно сможешь видеть его в программе «Вопросы от Анастасии Плотниковой». Некоторые зовут его президентом нашей страны…
— Но, конечно, не ты?
— Нет, не я!
— А как ты его зовешь?
Настя выразительно молчит в трубку.
— Ну сделай что-нибудь! Ты же можешь!
Я сойду с ума от этих звонков, этих угроз, от постоянного напряжения, от вечного страха за ребенка! — рыдает полуодетая Настя.
Протасов трет пальцами виски, седые, припорошенные ранним инеем виски — он пребывает в тяжелом раздумье, в тревоге, в смятении.
— Может быть, объявить ему, что Алина моя биологическая дочь? Вы ведь не расписаны, и любой суд подтвердит неправомерность его притязаний на ребенка.
Нет, не такого предложения ждала от него Настя, совсем не такого… Ба, наш Протасов, отважный стрингер, оказался слабаком… Но возле нее больше нет никого, кто бы… Совершенно никого! Черт!
— Ерунда! — сердито фыркает Настя. — Суд потребует генной экспертизы, и анализ покажет, что Алина состоит с ним в родстве.
— Почему? — удивляется Антон. — Ведь это не его ребенок, ты же сама говорила…
Настя морщится; Она совсем забыла, что он ничего не знает.
— Долго объяснять, — досадливо вздыхает. — Но некоторое родство между ними все же имеется. Но отец не он, клянусь тебе! — И после этих слов незамедлительно переходит в наступление: — Ну сделай же что-нибудь, сделай! Ты же можешь! Ты же мужчина!
Антон утешительно обнимает ее. Он что-нибудь придумает.
Перед эфиром, когда безмолвные исполнительные тени суетятся, проверяя микрофоны, ставя свет, двигая камеры, ее собеседник замечает тревогу на обычно безмятежном лице ведущей.
— Что случилось? — спрашивает, сканируя Настю пристальным взглядом.
— Да так, — грустнеет она. — Ничего особенного… Просто мой бывший муж пытается отнять у меня ребенка…
Президент морщится.
— А нельзя ли договориться мирным путем?
Но Настя не признает мирных путей!
— Ведь он все-таки отец… — добавляет президент поучительно.
Дело в том, что он не отец. Дело в этом — но и не только…
— По-моему, в таких случаях всегда можно договориться.
Но она не хочет договариваться!
— Худой мир лучше доброй ссоры…
Но она не хочет мира! Как жаль, что она не может сидящему напротив нее человеку сказать, как день за днем твердит тому, другому: «Ну сделай же что-нибудь, сделай! Ты же мужчина!»
Пока не может.
— Что происходит? — испуганно лепечет в трубку Наталья Ильинична, с большим трудом дозвонившись до дочери.
— Игорь Ильич хочет отнять Алину! Вчера он забрал ее к себе, и я не уверена, что через два дня он ее вернет. И как она сейчас — я тоже не знаю… Может быть, девочка плачет, может быть, ждет меня, может быть, ей плохо…
Впрочем, Лена регулярно, каждые три часа докладывает матери о самочувствии ребенка, но Настя имеет в виду совсем не физическое здоровье…
— Послушай, но ведь он отец и не станет причинять своей дочери зла.
Родители тоже ничего не знают, никто ничего не знает! Это невыносимо!
— Там его жена…
Я имею в виду его первую жену… Это она хочет отнять у меня Алину… Я думаю, он специально развелся с ней, чтобы отнять у меня дочку… Эта старая кошелка, наверное, мечтает о потомстве, о внуках… Это невыносимо, мама! Что мне делать?
— Приезжай к нам! — экзальтированно заявляет Наталья Ильинична в трубку. — Папа выходит на пенсию, он сможет сидеть с Алиной.
— Папа выходит на пенсию? — изумляется Настя. За перипетиями личных событий она совершенно запамятовала о проблемах родителей. — С чего бы это? А как же его назначение в министерство?
— Никакого назначения не будет. Сергей Николаевич постарался, — всхлипывает мама.
— Бараненок?!
— Да. Директором поставили его отца, дядю Колю. Уже, кажется, вышел правительственный приказ… Папа сдает дела.
Настя обескураженно молчит. Потом осторожно спрашивает:
— А ты как?
Мама вздыхает:
— Держусь на честном слове. До лета остаюсь директором, а потом… Не знаю! Кончилось наше время, Настенька… Да, кончилось…
— Ну сделай же что-нибудь, сделай! Ты же можешь! Ты же мужчина!
Валера удивленно мычит:
— Слушай, Настеныш, чего ты от меня хочешь?
Но он сам должен догадаться, чего именно…
Она прижимается к нему, лукаво заглядывая в глаза.
— Ты ни о чем не догадываешься?
— Слушай… — Валера отдирает со своей шеи ее цепкие руки. Морщится от физического неприятия. — Я не могу… Честное слово, прости… Не могу!
— Как не можешь? — Настя удивлена.
— Да, не могу…
— Неужели я тебе не нравлюсь?
— Нравишься, но… не как женщина. По-другому.
Он испуганно бледнеет под ее изучающим взором.
— Неужели ты совсем не хочешь меня?
— Настеныш, прости, но я не по этому делу, честно говоря…
— Как это? — Она откровенно не понимает. — Ну сделай же что-нибудь! Я тебя прошу! Помоги!
— Нет, я ничего не могу, — признается он. — Я пытался да, но… К девушкам меня не тянет.
— Но ведь ты всегда…
— Я притворялся, Настеныш… Маскировался… Ты ведь никому не скажешь, правда? — бледно лепечет Валера. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь из наших узнал…
А ведь она так рисковала, придя к нему… Она себя пополам согнула, чтобы соблазнить его, а этот тип, который несколько лет морочил ей голову своими фальшивыми ухаживаниями, оказалось, не переваривает жен-шин!
Осечка. Черт! Черт! Черт!
— Ну сделай же что-нибудь, прошу тебя! Ты же мужчина! — Она повторяет эти слова как заклинание.
В новом кабинете Антона, выделенном ему для работы, нечего опасаться слежки. Опять они с Протасовым работают в одной программе, — опять они следуют друг за другом, как нитка с иголкой. После своего воцарения на новом месте Настя объявила сотрудничество с Протасовым непременным условием своей успешной работы, и руководство канала, конечно, согласилось с ней. Попробовали бы они не согласиться!
Однако вместо того, чтобы заниматься подготовкой авторской передачи «Мысли и чувства», они обсуждают личные проблемы Насти, ее бесконечные нерешаемые проблемы. Антона они волнуют куда больше, чем его собственные трудности, куда сильнее.
— Может быть, нам все же оформить наши отношения? Тогда Цыбалин поймет, что для него все потеряно, и перестанет преследовать тебя…
— Брак ничего не изменит… Этот тип мне уже не раз заявлял: зачем тебе, мол, этот ребенок, ты еще выйдешь замуж, нарожаешь себе чертову дюжину детей, а этот ребенок тебе не нужен, он мой… Еще он говорил, что я лишь служила инкубатором для его вынашивания…
— Неужели он говорил о тебе такое?
— Да! — обиженно выкрикивает Настя. — И не только говорил… Он еще и бил меня! Вот сюда и сюда… И здесь были синяки… Мне было больно…
— Неужели он поднял руку на женщину? — потрясенно шепчет Антон.
— Но ведь я для него не женщина, а инкубатор… И он ни перед чем не остановится, чтобы поквитаться со мной… Возможно, он вздумает убить меня… Даже наверняка! Моя смерть решила бы все его проблемы…
Точно так же его смерть решила бы все ее проблемы.
И она вновь повторяет навязчивым рефреном:
— Ну сделай что-нибудь, Антон, помоги мне!
И он решается пообещать ей:
— Я сделаю что-нибудь, ангел мой! Обязательно!
Настя любовно склоняется над кроваткой — Алина спит, вольготно разметавшись во сне.
Ничего, деточка, спи… Мама защитит тебя, мама тебя никому не отдаст, даже Ему — особенно Ему. Ничего не бойся, скоро все будет хорошо — ведь Его скоро не будет. Мама позаботится об этом. Все равно, как и каким способом, известен лишь конечный результат — Его скорое обязательное исчезновение…
Девочка хнычет во сне, потревоженная светом, лепечет пухлыми губками: «Па-а-а!» Тянет руки во тьму. Наверное, хочет, чтобы ее покачали перед сном — Игорь Ильич любит баловать дочь, убаюкивая ее ласковой песенкой. Скоро она скажет о нем в прошедшем роде — любил…
Потому что скоро он умрет. Она еще не знает как и когда. Может быть, он упадет, обливаясь кровью, на кафельный пол. Корчась от резкой кинжальной боли…
Может быть, простреленный навылет, ужом совьется у ее ног, чтобы уже никогда не распрямиться. И даже для похорон его не смогут разогнуть, чтобы он лежал в гробу прямо и благостно, как принято покоиться в домовине.
Может быть, в последний раз в жизни, увидев упершийся в зрачки свет бестрепетно неоновых фар, он коротко вскрикнет — прощаясь с ней. То есть с жизнью.
Настя возвышается над кроваткой, сложив руки на груди. Белки ее глаз воинственно сверкают в темноте. Уже скоро, очень скоро…
Алина, немного похныкав, затихает.
Скоро, уже совсем скоро… Скорей бы!
— Во многом умение прощать тождественно умению любить, — произносит она, глядя в расположенный напротив нее суфлер, — а тот, кто не умеет прощать, не умеет любить… Героиня нашего следующего сюжета не умела прощать, и это в конечном итоге разрушило ее жизнь…
— Отлично! — произносит Антон, наискось пробегая текст. Оторвав усталый взгляд от бумаги, любовно вглядывается в дорогое лицо. — Только… Послушай, Настя, у тебя синяки под глазами. Где гримерша? Приведите в порядок ведущую… Кто ставил свет?
— Свет здесь ни при чем, просто я всю ночь не спала, — вздыхает Настя, смыкая веки под ласковой кисточкой гримера.
А потом из заресничной темноты пристально вглядывается в Антона, ни слова не говоря, ни полслова. И даже не говоря ему: «Сделай что-нибудь, ты ведь мужчина!»
Он и так прочтет эту фразу в ее умоляющем взгляде.
Глава 5
Земцев обескураженно разводит руками:
— Но что я могу сделать, Настя? Это же ваши личные отношения…
— Послушай, но ведь у его канала куча проколов!
— Каких?
— Они не выполняют норму детского вещания!
И никогда не выполняли! И не будут выполнять! Под этим предлогом можно приостановить их работу.
— Это смешной предлог. — Земцев старательно избегает ее испытующих глаз. Он боится ее прямого, открытого, наотмашь бьющего взгляда.
Неужели он такой трус?
— Ну сделай же что-нибудь, ты же мужчина!
Да, он трус. Потому что только трус может сказать, стыдливо опустив веки:
— Милая, я ничего не могу сделать, это же твоя личная проблема…
А как же то, что когда-то было между ними? Точнее, то, чего никогда между ними не было? Как же их старинная дружба?
Она стоит близко к нему, очень близко — так что руку протяни, и она вся его.
Но он не протягивает руки. Наоборот, сделав шаг назад, он удаляется от нее на безопасное расстояние. И ему можно даже не говорить: «Сделай же что-нибудь, ты же мужчина!» — бесполезно.
Он не мужчина, он политик.
Вечером Настя заходит в детскую. Кроватка сегодня пуста — на подушке небольшая ямка от детской головки. Алина сейчас у Него. Может быть, в последний раз…
Настя с силой прижимает подушку к своей груди, вдыхая молочный запах, пропитавший мягкую ткань. Зажмуривается мечтательно. Улыбается, с нежностью баюкая подушку, словно дитя.
Ничего, скоро Алина вернется к ней. Теперь уже навсегда…
Скоро у них все будет хорошо… Потому что скоро он умрет. Она еще не знает как и когда. Может быть, он упадет, обливаясь кровью, на кафельный пол. Корчась от резкой кинжальной боли…
Может быть, простреленный навылет, ужом совьется у ее ног, чтобы уже никогда не распрямиться. И даже для похорон его не смогут разогнуть, чтобы он лежал в гробу прямо и благостно, как принято покоиться в домовине.
Может быть, в последний раз в жизни, увидев упершийся в зрачки свет бестрепетно неоновых фар, он коротко вскрикнет — прощаясь с ней. То есть с жизнью…
«Сделай же что-нибудь!» — просят ее огромные, озерной синевы глаза. Она бледна, измучена, синие подглазья выдают ночную неизживаемую тревогу.
Во время записи новой передачи, авторской, сделанной специально под Настю передачи «Мысли и чувства», она бесконечно ошибается, так что приходится раз за разом переснимать одно и то же. Хорошо, что программа идет в записи, а не в прямом эфире, и можно все наново переделать, перелопатить. Можно, наконец, по кусочкам собрать распадающийся на невнятные обрывки сюжет.
Но через неделю состоится очередная запись «Вопросов с Анастасией Плотниковой», как она проведет эфир? Тем более, что передача идет в реал-тайме, отменить ее нельзя, ведь выступление президента — это событие государственной важности, а персонал канала между тем тайно перешептывается, мол, Плотникова что-то плохо выглядит, плохо работает, ах да, у нее же личные неприятности, когда же они кончатся, скорей бы…
Говорят, директору канала вчера звонил замглавы президентской Администрации, справлялся о Насте. Даже спросил: «Как у Плотниковой дела, все ли разрешилось?»
Ничего не разрешилось! Настя чахнет, и бледнеет, и смотрит умоляюще, на ней лица нет, все валится из рук, она забывает текст, она тихо ворочает своими огромными, на пол-лица глазищами, как бы моля всех, на кого только падет ее страдающий взор: «Ну сделайте же что-нибудь! Прошу вас!»
И никто не может ей помочь, кроме него.
Значит, он должен ей помочь.
На выходе из «Останкина» телезвезду настигает безумная тетка с чемоданом в руке. Бабенция истерично кричит, бросаясь наперерез:
— Плотникова! Ангел наш! Мы тебя так любим! Какая же ты хорошенькая! Дай я тебя расцелую!
Нелепая кулема пытается обнять теледиву — та в ужасе отшатывается. Охранники оттесняют восторженную поклонницу.
После этого случая пострадавшую звезду целый час отпаивают валерьянкой, а Настя лишь слабо лепечет, ни к кому персонально не обращаясь:
— Сделайте же что-нибудь, сделайте!
— Анастасия Андреевна, может быть, налить успокоительных капелек? — лепечет Гурзова, обихаживая ведущую.
Плотникова, как всегда, безукоризненно вежлива.
— Спасибо, милая, мне уже ничего не поможет, — в слезах отказывается она.
Антон, стоя в дверях, бессильно сжимает кулаки.
Он сделает, он обязательно это сделает! Но только как? И когда?
Через неделю состоится очередной эфир с президентом, а Настя пребывает в невменяемом состоянии, в полном раздрызге чувств.
Что же делать? Он должен что-то сделать! Для нее.
«Мать — это самое святое, что есть у каждого человека, — проникновенно произносит Плотникова, глядя прямо в камеру. — Однако отцовская любовь бывает не менее сильной, чем любовь материнская… Но как часто родители делают ребенка ристалищем для выяснения своих непростых отношений! Наш следующий сюжет именно о таком случае…»
А вечером она опять возвышается возле пустой детской кроватки. И опять прижимает к себе подушку, вперяя остановившийся взгляд в жидкий полночный сумрак.
Нет, это невыносимо… Надо что-то срочно предпринять! Но что? И как?
Этот сумасшедший уже вторую неделю караулит телезвезду возле подъезда — молодой парень лет двадцати двух, слегка лысоватый. При появлении Насти он пожирает ее влюбленным взглядом, и только охрана мешает ему приблизиться к знаменитости.
Недавно этот тип начертал масляной краской на асфальте под ее окнами: «Ангел, я тебя люблю!» А еще через день: «Ангел! Я готов ради тебя на все!» Аршинные буквы, намалеванные желтой краской, — по ним едут машины, удивленно притормаживая… Возле них собираются жидкими группками жители окрестных домов, обсуждая безумства Настиного поклонника. Кажется, они не очень-то довольны своим соседством с телезвездой.
Впрочем, этот псих может оказаться ей полезен… Если снисходительно приблизить его к себе, приласкать… Обнадежить… Попросить, чтобы он сделал что-нибудь… И он, конечно, сделает для нее абсолютно все! Даже…
Завтра она даст ему автограф, а там посмотрим…
Возможно, это ее единственный шанс… На Протасова надежды нет, он может только безмолвно терзаться, наблюдая за ее страданиями. Только на это он и способен.
Однако через день безымянный поклонник внезапно попадает в милицию: оказывается, несчастный безумец все утро (Настя в это время мирно почивала) простоял на морозе без штанов, пока его не заметил проезжавший мимо милицейский патруль. Когда бедолагу заталкивали в желтый «уазик», он сверкал обмерзшей, красной, как у макаки, задницей и жалко светил бледными ногами.
Эта история попала в газеты, вся страна хохотала над несчастным влюбленным. Только одна Настя искренне жалела беднягу.
Черт! Черт! Черт!
Осталось три дня до съемок «Вопросов», а на ведущей по-прежнему лица нет. Да еще эта история с сумасшедшим воздыхателем, облетевшая газеты…
Ее взгляд больше ни о чем не умоляет, он погашенно молчит. Антону хочется вновь его зажечь, но он не знает, что для этого нужно сделать.
Точнее, он знает, что сделать, чтобы ее глаза вновь затеплились жизнью, но еще не продумал, как и каким образом.
Но он что-нибудь сделает, он же мужчина!
Два дня до президентского эфира. Съемка передачи «Мысли и чувства».
Когда загорелся красный огонек камеры, Настя вместо того, чтобы работать, неподвижно просидела целую минуту, не размыкая губ.
А когда камеру выключили, она сомнамбулически обвела взглядом студию, как бы не понимая, где находится. Съемочная группа почти рыдала, глядя за безмолвными терзаниями звезды.
Но потом ведущая, взяв себя в руки, отработала" все как надо, на голом профессионализме. Грустно произнесла, читая с суфлера самолично написанный текст:
— Как часто мы не решаемся на жертвы во имя любимого человека, тогда как жизнь ежедневно предлагает нам возможность для подвига. Вот и герой нашего следующего сюжета…
С какой болью звучал ее потухший голос, с каким надрывом…
Антон едва сдерживал слезы, слушая слова, которые сам же правил, готовя передачу.
Да, он тоже должен решиться на жертву во имя любви.
Осталось два дня до эфира с президентом…
Он должен что-то сделать, должен!
— Ах, Сережа! Сколько времени с той поры утекло, — заливисто смеется Настя, — а ты все такой же!
При встрече Сергей Николаевич сдержанно пожимает руку, хотя телезвезда рассчитывала не на рукопожатие, а на галантный поцелуй. Ей большого труда стоило попасть на форум по телекоммуникациям, на котором, ей сказали, он обязательно появится.
— В одном городе живем, а ты меня ни разу не навестил! — Она пишет на листочке свой телефон. — Позвони!
И, искрясь счастливой улыбкой, отворачивается, ощущая лопатками его восхищенный, вожделеющий взгляд. Бараненок опять влюбится в нее, превратится в ее верного пажа. Он сделает для нее все, что угодно. Должен сделать!
И как только он станет ее покорным рабом, она скажет, глядя ему в лицо озерным умоляющим взглядом: «Сделай же хоть что-нибудь, сделай!» И он сделает для нее все, на что он способен! Вопрос только в том, на что он способен…
Осталось несколько часов до эфира «Вопросов». Антон всю ночь не спал, думая, как помочь Насте, но так ничего и не придумал. Но проснулся он с твердым ощущением — сегодня или никогда…
Ему хотелось бы увезти ее из города, точнее, их обеих увезти, Настю с дочерью, чтобы втроем поселиться на берегу моря, наплевав на все эфиры, на всех президентов, на все житейские проблемы, жить вместе долго и счастливо, пока смерть не разлучит их… Но она не согласится уехать в неизвестность, глупо мечтать об этом…
Накануне вечером он, любуясь ее четким профилем на подушке, все боялся, когда она повернет к нему лицо, опять прочитать в ее глазах невысказанное: «Сделай же что-нибудь!» А он еще не придумал, что сделать. Точнее, как…
Но сегодня, в день эфира, он, наконец, решился.
У него осталось всего восемь часов.
Бараненок настоял на утренней встрече — под предлогом срочной командировки в регионы, куда он должен вылететь после обеда. Хотя утро — не лучшее время для любовных соблазнов, ей пришлось согласиться на утро…
— Еще шампанского? — искрясь нарочитым смехом, спрашивает Настя.
Бараненок насупленно качает головой. Да, годы его совершенно не изменили — как и прежде, он туповат и неповоротлив. Что с такого взять!
— А помнишь, — взволнованно спрашивает Настя, — когда нас закрывали в детской, чтобы мы не мешали гостям, я кормила тебя манной кашей… И ты был весь в манке, и колготки, и сандалии, и уши, и волосы!
Сергей Николаевич принужденно улыбается детским воспоминаниям.
— А хочешь, я сейчас покормлю тебя клубникой?
Бараненок испуганно деревенеет. Отшатывается.
— Я очень уважаю твой успех, Настя, — произносит заученно, как будто стоит на воображаемой трибуне. — Ты многого достигла.
— Ах, это все пустяки! Давай не будем говорить о делах, ведь сейчас есть только ты и я… Мужчина и женщина! — страстно лепечет она, в то же время краешком мозга обдумывая свою просьбу.
Кажется, Бараненок может попросить у Прошкина состряпать депутатский запрос, требуя закрытия канала. Ведь Прошкин сейчас в ссоре с Цыбалиным из-за Земцева, ему такая просьба придется по душе… Но закрытие канала не понравится остальным его владельцам, и те, возможно, потребуют смены директора. В этом случае Цыбалина ждут крупные неприятности… Ему будет не до Алины, удержаться бы на собственном стуле…
Ах, если бы Бараненок не был таким противно рыхлым, бледным, тошнотворным!
— Кстати, Настя, у меня к тебе просьба, — тусклым голосом произносит Сергей Николаевич, заметно
волнуясь. — Надеюсь, не откажешь… Моей дочке уже десять лет, и она прекрасно танцует. У нее большой талант. Ты могла бы замолвить за нее словечко, девочка бредит телевизионной карьерой, ты ее кумир!
Настя разочарованно оседает в кресле, забыв про шампанское и клубнику.
Нет, этот тип, видимо, совершенно бесполезен. Он ни на что не способен, как и тот, другой…
Что же ей предпринять? Ведь надо же сделать что-нибудь…
Из-за двери слышится детский визг и взрослые назидания — это Алина не ко времени разыгралась, няня грозно покрикивает на нее, пытаясь прекратить неуемные детские шалости. Сегодня Настя опять должна везти дочку к Игорю Ильичу, прямо после президентского эфира…
Неужели ей вновь придется отдать собственное дитя?
Антону повезло, хотя в деталях он ничего не планировал.
Когда Протасов подъехал в «Останкино», автомобиль его бывшего шефа уже стоял на парковке.
Он должен что-то сделать, должен…
Антон толкнул рукой машину — она отозвалась глухим кряхтеньем, это сработала сигнализация. Может быть, испортить рулевое или сделать так, чтобы отказали тормоза? Но он неважно разбирается в технике, а дело требует срочных действий…
Протасов задумался. А что, если на перекрестке его машина вылетит навстречу автомобилю Цыбалина и влепится ему со всей дури в бочину? Увы, в этом случае результат не гарантирован, ведь этот тип ездит на заднем сиденье, прилежно пристегивается ремнями, и в его авто наверняка есть боковая подушка безопасности.
К тому же до эфира остается всего пять часов тридцать минут. Вряд ли Цыбалин отправится домой так рано…
Антон прошел мимо охранника, приветственно мотнув головой.
Он должен что-то сделать, должен…
Жаль, пистолета у него нет. Или взрывчатки. Черт, привозил же он гранату из Чечни, хранил на антресолях целый год, пока жена, отыскав ее, не устроила грандиозный скандал — мол, опасно, дети найдут, подсудное дело… Дура!
Он впервые подумал о жене со злой яростью.
Ничего не замечая вокруг и не отвечая на приветствия сотрудников, Антон вошел в свой кабинет. Включил компьютер.
Нет, он сейчас не в состоянии работать — ведь он должен немедленно что-то сделать…
Выключив компьютер, задумчиво подошел к окну.
Пять часов до эфира…
Скоро съемочная бригада отправится в президентскую резиденцию в Ново-Огарево.
Четыре сорок до эфира…
Антон зашел в буфет, выпил рюмку коньяку и застыл, изучая геометрию влажных разводов на столе.
Да, он должен немедленно что-то сделать, иначе будет поздно.
Четыре часа десять минут до эфира…
Протасов вошел в эфирную зону. Охранник его знал и потому пропустил без звука, даже металлоискатель не звякнул — ведь у Антона с собой ничего такого не было.
Зашел в курилку с сигаретой в руке. Да, он должен что-то сделать…
Три часа сорок семь минут…
Наверное, Настя сейчас готовится, подбирает грим и одежду, изучает вопросы, сочиняет подводки.
Вспомнив ее небесные, ангельские глаза, ее волосы, разметавшиеся по подушке, он счастливо зажмурился. Он должен это сделать — ради нее.
Три часа тридцать восемь минут.
Протасов пошел мимо кабинета Цыбалина — секретарша бойко стучала по клавишам. Судя по распекающему баритону, слышимому в приемной, ее шеф находился у себя…
Выйдет же он когда-нибудь оттуда, хотя бы в туалет… Три часа шестнадцать минут до эфира.
Протасов заглянул в редакторскую. Девушки расцвели приветственными улыбками.
— Привет, Антон, ты что такой хмурый?
Он сказал, что ему срочно нужен офисный нож для резки бумаги, у вас, кажется, такой есть?
— Есть, — ответили ему.
Три ноль три до эфира.
Протасов толкнул дверь мужского туалета. Коньяк весело пузырился в мозгу, играя в пинг-понг обрывками сумбурных мыслей.
Было весело и как-то легко. Он решился.
Этот тип когда-нибудь выйдет в туалет, а он его дождется.
Потому что он должен это сделать!
Два двадцать две до эфира.
Он уже устал вздрагивать от хлопков туалетной двери, грохота спускаемой воды и гула сушилки для рук. Устал ловить на себе удивленные, настороженные взгляды. Устал отвечать на приветствия — его здесь многие знали, он с многими работал.
Ему хотелось сбежать отсюда, но воспоминание о ее взгляде прочнее стального каната удерживало его на посту.
И еще его держала мысль: ведь он должен это сделать! Должен…
Два шестнадцать до эфира.
Он не обдумывал детали предстоящего поступка — это ни к чему, как только он его встретит, все решится само собой. Ее воображаемый взгляд подскажет ему, что делать.
Ведь он должен это сделать! Должен…
Час пятьдесят девять до эфира.
Кажется, он узнал хозяина этих грузных шагов еще до того, как тот приблизился к двери.
Сунул руку в карман… Напрягся, сохраняя на лице доброжелательное выражение.
Да, это был он…
Кивнув от неожиданности (они не общались после ухода Протасова), он быстро прошел в кабинку.
Пока он копошился там, Антон, нашарив в кармане нож, вытащил лезвие.
Какая удача, что в туалете, кроме них, никого нет…
Он должен сделать это! Должен!
Час пятьдесят семь до эфира.
Наверное, по дороге в загородную резиденцию президента Настя изучает текст, сосредоточенно шевеля губами. Ее взор опущен вниз, ускользая от него… Он должен сделать это ради ее сине-озерных глаз.
Антон занес над головой вооруженную руку.
Дверь кабинки отворилась.
Нож, с трудом преодолевая сопротивление жилистой плоти, трудно вошел в напряженную шею.
И в тот же миг на пол полилось что-то красное. Нож сломался, как щепка, не выдержав единственного удара.
Да, он сделал это!
Ее взгляд…
Наконец-то в нем светилось удовлетворение.
За час сорок три минуты до эфира Протасова задержали на выходе из здания. Рубашка его побагровела от крови, он ничего не говорил, только мотал головой, как сумасшедший. Охранники, думая, что он ранен, отвели его в медпункт.
Там в его кармане обнаружили сломанный офисный нож.
За час тридцать шесть минут до эфира один из сотрудников центра наткнулся в туалете на раненого Цыбали-на. Директор стонал в луже крови.
«Скорая», сгоряча вызванная для Протасова, пришлась как нельзя кстати.
Ровно за час до эфира новость достигла Ново-Огарева.
— Ты только не волнуйся, Настя, — прошептала Гур-зова, сама страшно нервничая. — Какой-то псих напал в туалете на твоего мужа.
Какая приятная новость! Наконец-то все решилось…
— Милая Алена, нам нужно готовиться к эфиру, а не обсуждать криминальную хронику! — назидательно проговорила Настя. — Кстати, а где Протасов, почему его нет? Сейчас появится президент, а у нас ничего не готово!
— Протасова задержали в «Останкине». Говорят, что на него тоже напали, его видели в крови с головы до ног.
— Кто его задержал?
— Милиция.
— А…
Сорок минут до эфира.
— Здравствуйте, Настенька, вы превосходно выглядите!
— Спасибо за комплимент… Как ваши переговоры с французами?
— Прекрасно, прекрасно… Я слышал, у вас в «Останкине» произошла какая-то история?
— Я ничего не знаю об этом.
— Как сегодня блестят ваши глаза!.. Хорошее настроение?
— Да, как всегда перед эфиром… И потом, у нас же сегодня отличные новости для пенсионеров — я слышала, им что-то повышают…
— В соответствии с вашими рекомендациями…
— Я польщена, что вы прислушиваетесь к моим скромным советам!
— Я вообще имею обыкновение прислушиваться к дельным советам… Надеюсь, вы и дальше будете меня ими снабжать?
— По мере возможности, господин президент.
— Настя, мы же договаривались звать друг друга по имени…
Двадцать три минуты до эфира…
— За линию не заходить, съемка с этой точки, — привычно командует секретарь президентской Администрации. — Потом добавляет, оглядев мизансцену: — Настя, вы сегодня ослепительны! Вы не могли бы сиять лицом чуть потише, а то люди подумают, что у нас стряслось нечто невероятное? Например, в десять раз повысили зарплату!
Настя улыбается:
— Я попробую!
Ведь он мертв, он совершенно, абсолютно мертв. Наконец-то…
Три минуты до эфира.
— Все по местам!
Наступил ее звездный час… Все то, чего она добивалась целую жизнь, наконец, свершилось… Ее враги повержены, ее недруги трепещут, а она опять лучше всех, самая красивая, самая успешная, самая знаменитая, самая-самая… Такая, какой была всегда, какой должна быть. Какой она рождена.
Зажигается красный огонек камеры, глаза слепит яркий свет ламп.
Так и должно быть впредь, потому что это справедливо… Звездами не становятся, звездами рождаются. Теперь у нее все будет хорошо, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь…
Ноль секунд до эфира.
«Добрый вечер, дорогие телезрители. Начинаем прямой эфир с президентом России…»
Она счастлива.
— Анастасия, скажите, что вы почувствовали, когда узнали о ранении вашего мужа?
— Я очень огорчена и искренне желаю Игорю Ильичу скорейшего выздоровления.
— Нападение организовал ваш коллега и поклонник Протасов… Что вы об этом думаете?
— Думаю, что нападение Протасова вызвано скорее производственными разногласиями, чем личными причинами. Ведь его недавно уволили с канала…
— Но говорят, что Протасов влюблен в вас!
— А еще говорят, что в меня влюблена вся страна… Вы слышали об этом?
— Да, верно, это так. Кстати, знаете, как вас называют в народе? Ангелом.
— Вот как? Приятно… Я и не знала…
После триумфального эфира, после летучки с руководством, после приставучих журналюг, после всех переживаний и треволнений прошедшего дня Настя, придя домой, подрубленно валится в кресло.
Увидев одетую Лену, уже готовую к отъезду, произносит еле слышно:
— Раздевайся, мы никуда не едем.
А потом, отвечая на недоуменный взгляд няни, поясняет:
— У Игоря Ильича проблемы со здоровьем, он сейчас в больнице.
Ей хотелось добавить: «Алина больше никогда, никогда не поедет к нему!» Но ей лень шевелить губами. Она устала.
Она так устала, что места в ее душе почти не осталось — даже для торжества. Ничего не осталось, кроме тотальной усталости.
Как хорошо, что все неприятности закончились, все треволнения улеглись, и теперь для нее, наконец-то, настанет тихая, спокойная, безмятежная жизнь.
Работа и дочка — и больше ей ничего не нужно. И никого!
Раздается звонок, это мама.
— Слушай, мне звонил Шумский, он такое наплел… Неужели это правда?
— Да, мама.
— Что же произошло, я не совсем понимаю…
— Мама, потом, ладно?
Я сейчас не в состоянии. Я так устала. И вообще, я ничего не знаю и не хочу знать. Знаю только, что Игорь Ильич в больнице, его жизни, кажется, ничто не угрожает.
К сожалению!
— Ты видела его? Как он?
— Откуда мне знать… Но думаю, с ним сейчас его первая жена.
Мама потрясенно молчала.
— А этот… — наконец спросила она. — Этот человек, который напал на Игоря Ильича? Ты его знаешь?
— Он в тюрьме, кажется… Ну или куда там их отвозят… В КПЗ? Мама, я не могу сейчас говорить…
— Ладно, ладно, милая… Тогда выпей чайку и немедленно ложись спать! Где Алина?
— Здесь, со мной.
— Еще с тобой есть кто-нибудь?
— Лена, как обычно.
— Скажи ей, чтобы заварила тебе чаю и положила грелку в постель!
— Ладно, мама.
— И еще, Настя… Знаешь, Захарушка так напуган… Он боится… Все-таки он много сделал для тебя, и ты могла бы ему помочь…
— Я подумаю… Ладно, я поговорю насчет его со своим шефом.
— Спокойной ночи, солнышко!
— Спокойной ночи, мама…
Глубокая ночь, а ей не спится.
Она подходит к окну. За стеклом переливается огнями огромный город, похожий на торжественный пирог с зажженными розовыми свечками. Ей подвластный город. Ею покоренный город.
Она парит над ним неслышно, как ангел, но внутри ее почему-то нет никакой радости. Ни капельки, ни грана! Только тоска и опустошенность. И еще — абсолютное всеобъемлющее одиночество.
Настя проскальзывает мимо спящего охранника. Выходит на улицу. Ей всегда хорошо думается во время ходьбы, а сейчас ей нужно крепко поразмыслить.
Она идет по пустым улицам, никого и ничего не боясь. Ведь это ее город, она — его ангел, одинокий ангел в эфире.
Сейчас она достигла своей очередной вершины, но что ждет ее завтра?
Она достигла всего, к чему стремилась. Ее враги повержены, как и ее друзья. Все недоступные вершины завоеваны, все пики покорены.
Ей больше нечего желать, не к чему стремиться. Она — лучшая, единственная, самая достойная, как было всегда, как будет впредь.
Наверное, поэтому ей так пусто и грустно… И одиноко…
Кстати, прекрасная подводка к давно зависшему в архиве сюжету… Что-то о женщине, которая добилась карьерного успеха, но при этом утратила личное счастье. Надо бы использовать его в завтрашней съемке…
Настя входит в ночной магазин.
— Мне нужны ручка и листок бумаги!
Ее снабжают всем необходимым, несмотря на то что канцтовары вовсе не входят в ассортимент ночной лавчонки.
— Ах, это вы! — восклицает пухлогрудая продавщица, молитвенно сложив руки. — Мы вас смотрим каждый вечер! Мы вас так любим! Вы — наш Ангел!
— Любим! — подтверждает пьяный парень, распихивающий по карманам бутылки пива. — Капец! Жалко, что я пьян вдрабадан — мне никто не поверит, что я ее действительно видел!
— Можно мне ваш автограф? — просит ночной сторож, протягивая паспорт, — и она размашисто выводит на нем свое новое имя: «Ангел».
Выйдя из магазина, она торопливо пишет на клочке бумаги, безжалостно разрывая пером белую плоть листа. Она пишет то, что так остро чувствует сейчас:
«Достигнув вершины, мы вдруг обнаруживаем, что перед нами — пустота. Нам больше некуда идти, не к чему стремиться, незачем жить. Мы понимаем, что жертвовали собой во имя ложных целей, ради ложного успеха. Что потерь у нас больше, чем обретений. Что этот успех нам, в сущности, уже не нужен.
Но мы опять поднимаемся и идем, тревожным взглядом выискивая вдали новую вершину, новую цель. И, разглядев ее, мы спешим к ней…»
Она тоже пойдет к ней. Главное — увидеть ее, разглядеть внутри той чернильной тоски, что сейчас обволакивает душным коконом ее всю, с ног до головы.
Она обязательно увидит ее. А потом…
E-mail автора:
sv-usp@yandex.ru

Оглавление
Успенская Светлана
Ангел в эфире
Часть первая
РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Часть вторая
АНГЕЛ В ЭФИРЕ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Часть третья
КРЕМЛЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5